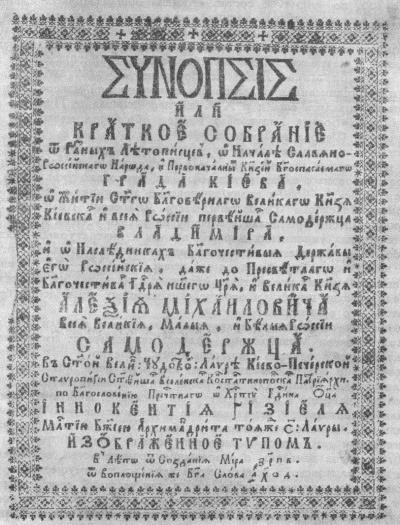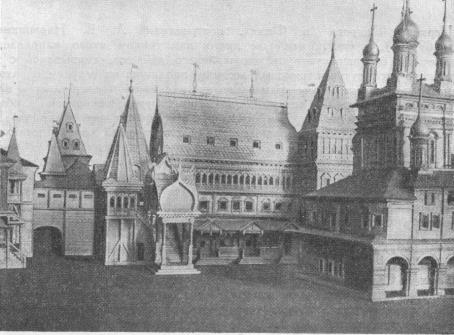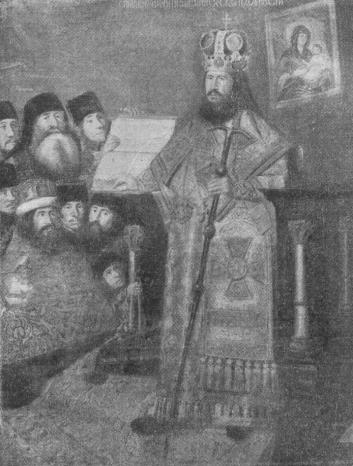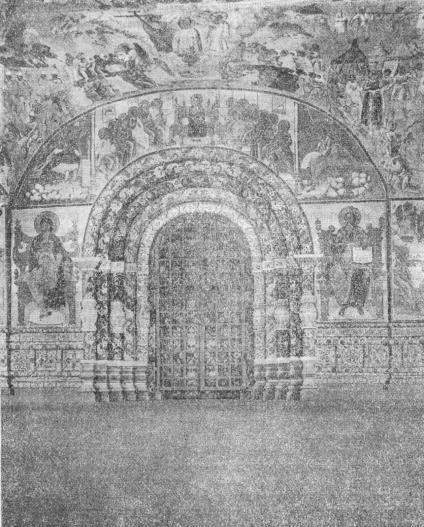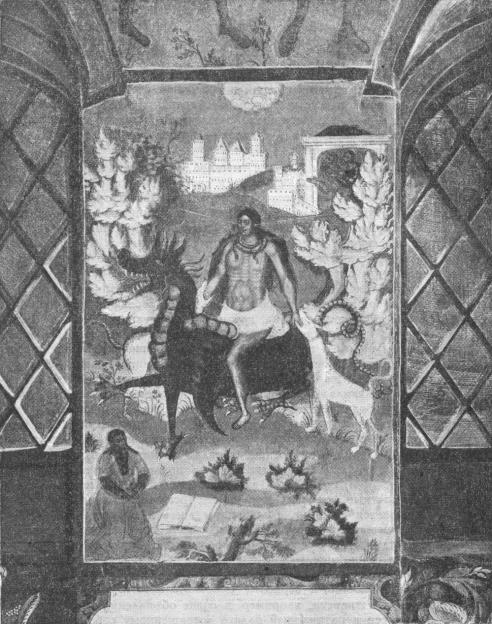- 129 -
Введение
1
Середина XVII в. была временем, когда в экономике Русского государства начали выявляться те явления, на основании которых В. И. Ленин определяет этот период как «новый период русской истории (примерно с 17 века)», характеризуя его «усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок».1
Условия производства и сбыта меняют около середины XVII в. соотношение между городом и селом. Несмотря на усилившееся после первой крестьянской войны закрепощение, которое привело к тому, что в 1649 г. крестьяне были окончательно закреплены за землей и за землевладельцами, — производство на внешний и внутренний рынки в середине XVII в. сосредоточилось главным образом в сельской промышленности.
Между тем города в это время хиреют, и многие промысловые села превосходят их численностью населения. Особенно трудным было положение средней торгово-ремесленной части городского населения. В ущерб ей, гостиная сотня расширяла свои льготы на внутреннем рынке, перекладывала на нее большую часть служб и повинностей, допуская при этом много злоупотреблений. Разоренные посадские бросали тягло и уходили на окраины государства или нищими «бродили меж двор». Приток населения в города прекратился, когда крестьянам было запрещено приписываться к посадам, и число плательщиков налога сокращалось, при неизменности общей суммы налога. Бояре, окружившие города своими слободами и загородными дворами, стеснили посад земельно и нарушали его торговые права, так как жильцы боярских слобод льготно торговали на рынке. С мелким посадским людом были связаны торговыми интересами стрельцы. Посад добивался монополии в торговом деле, возражая против права участвовать в городской торговле служилым и крестьянам.
Таким образом экономическое положение города зависело от урегулирования прав разных групп населения, которые открыто высказывали свое недовольство настоящим положением дел. Произвол администрации, «московская волокита», взяточничество приказных властей усугубляли это недовольство, и к 1648 г. оппозиция торгово-ремесленного посада вылилась в форму открытых восстаний против высшей бюрократии. К этой оппозиции присоединились средние слои служилого сословия, выступавшие против
- 130 -
вотчинников, которые «крестьян чужих за себе сажали», и, уклоняясь от несения военной службы, отсиживались на административных должностях. Таким образом к концу царствования Михаила средние классы уже оказались в оппозиции правительству ими же выбранного царя. Земский собор 1642 г., обсуждавший вопрос о том, принять ли от казаков завоеванный ими Азов и начать за него войну с турками, — отказался от него, представив невозможность воевать при данном положении. Все группы населения выставляли на этом соборе свои требования, пока, однако, в форме челобитных.
Открытое выступление средних классов Русского государства произошло в июне и июле 1648 г. сначала в Москве, а затем в 1650 г. в Новгороде и Пскове, в других крупных посадах и в военных городах «дикого поля» и Сибири. Восстание в Москве началось с того, что 2 июня 1648 г. царю была подана челобитная «простого народа» (сохранившаяся только в современном шведском переводе):1 «со многими кровавыми слезами челом бьем, что твои властолюбивые нарушители крестного целования, простого народа мучители и кровопийцы и наши губители, всей страны властвующие нас всеми способами мучат, насилья и неправды чинят». Челобитная требовала «тщательно рассмотреть и исследовать, какие те власть имущие над простым народом... мошенничества и преступления учиняли, и как они, льстясь на посулы, взятки и дары, нас вконец разоряют и величайшие насилья и неправды чинят, чтобы верховную власть осмеять и оболгать».
Для успокоения «мятежей», принимавших массовый характер, нельзя уже было ограничиться удалением от власти уцелевших при народной расправе бояр и приказных. Чтобы урегулировать вопросы, неоднократно поднимавшиеся населением и в челобитных и послужившие причиной восстаний, был созван земский собор, который должен был не только кодифицировать существующие законоположения, в отмену усложненного противоречивыми добавлениями Судебника XVI в., но и изменить некоторые законы, согласно с требованиями средних классов, выраженными во время восстания 1648 г.
Соборное уложение 1649 г. закрепило за торговыми людьми их исключительное право на «вольный торг» и сделало их строго замкнутым сословием. Идя навстречу требованиям дворян, Уложение довершило закрепощение крестьян за землевладельцами, превратило поместья в наследственное владение семьи или рода, узаконило понятие наследственного дворянства. В итоге Уложение частично удовлетворило требования средних классов и упразднило судебные льготы духовенства, но подготовило почву для обострения оппозиции среди крестьян и посадской бедноты. Проявления этой оппозиции ощущаются уже в «медном бунте» 1662 г. и в усиленном отливе беднейшего населения из городов и сел на казацкие «украины».
В 1670—1671 гг. эта оппозиция приняла форму второй крестьянской войны под предводительством Степана Разина. Уже в 1662 г. в инонациональных районах Поволжья, где земли раздавались вотчинникам и служилому дворянству, начались восстания крестьян. С 1666 г. появляются организованные казацко-крестьянские отряды под начальством Василия Уса,
- 131 -
а в 1667 г. Степан Разин нападает на Волге на суда богатых московских купцов: он освобождает подневольно работавших на этих судах ссыльных и обращается с призывом к рабочему люду итти вместе с ним против бояр и богачей. В марте 1670 г. начался поход Степана Разина против боярско-помещичьей Москвы. Основной задачей этого похода было освобождение крестьян от власти вотчинников и помещиков, передача им земли и облегчение налогов. Восстания против царской власти Разин не объявлял, и разинцы упрекали царские войска: «вы бьетесь за изменников [т. е. за бояр], а мы бьемся за государя». И. В. Сталин подчеркивает, что «говоря о Разине и Пугачеве никогда не надо забывать, что они были царистами: они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг».1
Разгром разиновщины принес крестьянству ухудшение его положения. Крепостнические тенденции в политике правительства характеризуют всю последнюю четверть XVII в. Огромное количество дворцовых и инонациональных земель было передано в это время в вотчинное и поместное владение, нажим крепостников усилился, распространившись и на вновь присоединенные украинские области и на Сибирь, к концу XVII в. почти целиком вошедшую в состав Русского государства.
В середине XVII в. Русское государство имело большой международный вес. Борьба с Турцией заставляла европейские державы попрежнему искать союза с Москвой. После войны со Швецией Русскому государству были временно переданы в 1658 г. некоторые города, в том числе Двинск и Юрьев. Но главное внимание внешней политики его было направлено на воссоединение с украинско-белорусскими землями, все еще находившимися в зависимости от Польско-Литовского королевства.
Отдельные группы украинского народа, угнетаемые польской колонизационной политикой, делали уже не раз, с начала XVII в., попытки опереться в своей борьбе за национальную независимость на Москву. Однако только в середине XVII в. объединение всех основных сил украинского народа привело его к окончательному союзу с русским народом и к воссоединению в 1654 г. с Русским государством левобережной Украины и Киева. Длительная война с Польшей закончилась в 1667 г. перемирием, по которому Польша признала отход к Москве не только украинской территории, но и Белоруссии и значительной части Литвы. Экономические и культурные результаты такого объединения трех братских народов сказались особенно заметно уже в последней трети XVII в., хотя отдельные случаи плодотворного общения заметны и раньше. До конца 80-х годов западная политика с ее стремлением завоевать выход к Балтийскому морю не имела сильных сторонников и была отодвинута на второй план украинско-белорусской проблемой.
2
Во второй половине XVII в. два автора — русский и приезжий хорват — дали содержательное описание недостатков феодально-крепостнического строя Русского государства (Г. К. Котошихин) и проект реформ для устранения этих недостатков (Ю. Крижанич).
- 132 -
Сын монастырского казначея, Г. Котошихин юношей, около 1645 г., начал службу в Посольском приказе в качестве писца. В 1658 г. он был уже подьячим, участвовал в переговорах с иноземными послами, а в 1663 г., за большое по тому времени денежное вознаграждение, передал шведу Эберсу, участнику посольства, вырабатывавшего условия русско-шведского мира, секретные сведения о полномочиях, какие даны были русским послам, обсуждавшим условия Кардисского мира. Ближайшим поводом к бегству Котошихина за границу послужило затруднительное положение, в какое он попал, оказавшись запутанным в интриги двух враждовавших между собою воевод, командовавших русскими войсками в войне с Польшей.
В Польше Котошихин предложил свои услуги в качестве осведомителя о том, что делается «на Москве и меж Москвою и шведами, также на Украине и меж татарами», т. е. о тех международных отношениях, которые могли быть наиболее интересны для Польши; предлагал он также дать сведения «о дорогах» польским воеводам, которые пойдут на Москву. Однако в 1665 г., опасаясь, что при заключении мира с Москвой Польша выдаст его как изменника родине, Котошихин бежал через Силезию в Нарву и отсюда повел переговоры о принятии его на шведскую службу, на этот раз осторожнее — лишь для обучения шведов русскому языку. В Стокгольме Котошихину было поручено составить записки о Московском государстве. Работа была выполнена в 1666—1667 гг.; в 1667 г., поссорившись в пьяном виде со своим хозяином толмачом Анастасиусом. Котошихин нанес ему смертельные раны и в ноябре 1667 г. был казнен.
Сочинение Котошихина было переведено вскоре после его смерти на шведский язык королевским переводчиком Баркгузеном, который высоко оценил труд москвича. Автограф Котошихина, представляющий объемистый труд на 232 листах, писанных скорописью, в 1837 г. был найден А. И. Тургеневым в библиотеке Упсальского университета и издателями был назван «О России в царствование Алексея Михайловича».
Основной задачей Котошихина было описание административного устройства Русского государства; попутно автор дал характеристики не только самого устройства, но и тех людей, в руках которых находилось управление страной. Ценные фактические сведения, какие мог, конечно, дать знавший близко приказную жизнь подьячий Посольского приказа, окрашены пренебрежительным отношением эмигранта к родине, куда ему, как изменнику, возврата не было.
В отрицательных суждениях Котошихина о приказных нравах, о невежестве и продажности боярской администрации много справедливого. Но когда Котошихин обобщает свои наблюдения над этой средой и приписывает «московским людям» вообще жестокость, «натуру не богобоязливую», жадность, толкающую на убийства ради грабежа, и другие недостатки, то в самом подборе только одних отрицательных сторон жизни чувствуется пристрастие человека, пытающегося внутренно оправдаться в измене родине: он потому де не мог жить в России, что и люди и вся жизнь там чересчур плохи. Однако, за вычетом этих преувеличенно обобщенных отрицательных оценок, сочинение Котошихина в его фактической части содержит немало интересного материала.
Следует помнить, что в руках у Котошихина не было никаких письменных источников: он должен был полагаться на свою память во всем — и в описании функций многочисленных московских приказов, и в единственном в своем роде рассказе о медном бунте 1662 г., и в подробном
- 133 -
воспроизведении обряда царской свадьбы. Ценность фактических сообщений Котошихина признается историками русского быта XVII в. вполне.
Сочинение Котошихина представляет интерес и как литературное явление. Язык приказного делопроизводства, в соединении с живым языком московского посада, послужил здесь для передачи не только юридических норм, но и бытовых реалий московской административной и частной жизни. Небольшое количество иностранных слов, встречающихся в описании Котошихина, он усвоил, вероятно, еще во время службы в Посольском приказе. Простой и точный язык Котошихина выразителен и наглядно показывает, какие возможности открывались для книжной литературной и деловой речи от сближения ее с повседневным языком XVII в.
*
В царствование Федора Алексеевича в Москве стали известны сочинения хорвата Юрия Крижанича, в которых сторонники реформ познакомились с программой преобразований, не исключавших усвоения некоторых достижений западной культуры и техники. Консервативная же часть общества нашла в тех же сочинениях теоретическое и историческое обоснование своих охранительных тенденций.
Воспитанный в Римской конгрегации св. Афанасия, Крижанич готовился к проповеди унии среди православных славянских народов, в том числе — у русских. Но Рим отказался послать его в качестве папского миссионера, недовольный его увлечением идеей единения славянских народов, которое он представлял себе под главенством России. Однако Крижанич в 1659 г. самовольно приехал в Москву и здесь предложил свои услуги в качестве учителя «философских школ», просил быть названным царским историографом, даже справщиком, но скрыл свое звание католического священника. Ему, однако, поручили лишь составление славянской грамматики, а в 1661 г. выслали в Тобольск, где он прожил 15 лет. Впрочем, как культурный деятель, Крижанич и здесь получал материальную поддержку от правительства, что дало ему возможность вести литературные и научные занятия. В 1666 г. он закончил составление славянской грамматики, изучал русскую летопись и сочинения иностранцев о России, в 1663 г. закончил наиболее заинтересовавшее в Москве свое сочинение «Политика» или «Разговоры о владательству». В нескольких следующих сочинениях Крижанич касался догматических различий между восточной и римской церквами, писал о соединении церквей, о борьбе с Турцией, составил описание Сибири, полемизировал с русскими старообрядцами («Обличение Соловецкой челобитной»). После вступления на престол Федора Алексеевича Крижанич вернулся в Москву, а в 1683 г. погиб под Веной в войсках Яна Собесского, сражавшегося с турками.
Свою теорию государства и проекты необходимых, с его точки зрения, в России реформ Крижанич изложил в главном своем труде «Разговоры о владательству». Предлагая учиться кое-чему у Запада, Крижанич в то же время рекомендовал ряд мероприятий, направленных к тому, чтобы затруднить и ограничить общение с иностранцами. В планах конкретных преобразований, относящихся к области материальной культуры, у Крижанича встречаются мероприятия, введенные впоследствии Петром I (развитие горного дела, поощрение новых отраслей сельского хозяйства, кустарных ремесл, контроль над промышленностью). В вопросах внешней политики России Крижанич примкнул к сторонникам расширения государства на
- 134 -
юг, направлял внимание русских на борьбу с крымскими татарами и турками, рекомендовал союз с Польшей, имея при этом в виду не столько интересы России, сколько освобождение балканских славян.
Мечтая об установлении единства между всеми славянскими народами, Крижанич задумал создать для них и единый славянский язык. В Сибири он с этой целью написал «Граматично изказанье об руском езику» (1666), предупредив читателей, что он имеет в виду не один какой-либо славянский язык, а язык всех славян, поэтому предлагаемый им язык не сходится ни с одним из известных.
В предисловии к грамматике Крижанич изложил свою теорию соотношения славянских языков. Старший — русский язык, на котором известны церковные книги; все славянские племена произошли от русского, расселившись на Балканах и на Западе. Так как русские сохранили политическую независимость, то их язык чище, а потому лексикой именно русского языка Крижанич пользуется и в грамматике. Часть хорватов сохранила наибольшую близость к древнему русскому языку. Влияние греческого языка на славянский в процессе перевода культовых книг оказалось вредным, по мнению Крижанича, для чистоты языка. Необходимо очистить славянский язык от всех искажений, что, между прочим, будет содействовать прекращению и церковных раздоров.
Создавая искусственный язык, в котором преобладают элементы русского, сербского и хорватского языков, Крижанич в своей грамматике стремился избежать какого бы то ни было иноязычного влияния. Потому-то он, ценя высоко грамматику Мелетия Смотрицкого, упрекал его за то, что он «нашего езика на греческие и на латинские узори претварйат». При всей искусственности, грамматика Крижанича представляет первый опыт сравнительного изучения разных славянских языков: на таком сравнении основаны все выводы грамматики.
Искусственный язык, скомпонованный Крижаничем из соединения разноязычных лексических и грамматических элементов, использован был им самим в его литературной деятельности. Рассчитывая на практические результаты своих проектов, Крижанич чрезвычайно затруднил для современников пользование своими сочинениями, когда вместо доступного и в Москве латинского языка, переходил на эту изобретенную им сербо-хорвато-русскую речь.
3
С середины XVII в. все общественные группы Русского государства оказались в той или иной мере вовлеченными в борьбу, начавшуюся сначала внутри самой церкви, а затем расколовшую духовенство и мирян на две непримиримые стороны, различавшиеся отношением и к церкви и к государству.
Уже с конца XVI в. русская церковь фактически становилась все более зависимой от светской власти. Несмотря на рост своего внешнего благополучия — увеличение земельных владений, учреждение патриаршества, — церковь теряла одну за другой свои привилегии. Большой удар был нанесен этим привилегиям «Уложенной книгой» 1648—1649 гг., которая отняла у церковных властей судебные функции и запретила монастырям и церквам принимать земельные вклады «по душе». Никон резко восстал против таких покушений на церковную самостоятельность и попытался поддержать подорванный авторитет церкви примером греческого патриархата. Ориентируясь на греков, Никон решил согласовать и русские
- 135 -
церковные порядки с греческими, от которых они кое в чем уже успели отойти. Эта церковная реформа послужила ближайшим поводом для возникновения острой борьбы между представителями духовенства, приведшей позже к «расколу» всей церкви.
Еще до поставления Никона патриархом в Москве и кое-где в провинции из духовенства выделились кружки «ревнителей благочестия», которые пытались упорядочить церковный и народный быт. В этих кружках еще работали вместе будущие враги — никониане и староверы. Одновременно снова встал давно уже назревший вопрос об исправлении культовых книг, испорченных многократной перепиской. Частичная правка этих книг начиналась не раз справщиками Печатного двора, которые пытались образцом для правки брать греческие рукописные и печатные богослужебные книги. Однако отношение к этим книгам было еще с середины XV в. недоверчивое: с тех пор как греки согласились на унию с римской церковью (Ферраро-Флорентийская уния),1 русские были убеждены, что чистота греческого православия нарушена и что истинной хранительницей «правой веры» осталась одна русская церковь. Находившиеся в Москве в середине XVII в. украинские ученые монахи внушали иное отношение к греческому православию и настоятельно предлагали править русские культовые книги по греческим оригиналам. В 1649 г., в связи с предполагавшейся церковной реформой, было приказано ознакомиться на месте с греческой церковной практикой Арсению Суханову (строителю Троице-Сергиева Богоявленского монастыря в Кремле), который отправлялся на Восток с дипломатическими поручениями. Суханов привез с Востока около 700 греческих и славянских рукописных книг, преимущественно культовых, и составил обстоятельное описание своего путешествия, длившегося четыре года.
«Проскинитарий, хождение старца Арсения Суханова в 7157 [1649] году во Иерусалим и в прочия святыя места для описания святых мест и греческих церковных чинов» — главной своей задачей поставил именно описание церковных чинов. В итоге Суханов признал безусловное превосходство русских церковных порядков над греческими. Однако, вернувшись в Москву и трезво оценив реальную обстановку, Суханов через некоторое время перешел на сторону патриарха Никона и деятельно помогал ему проводить церковную реформу, ориентированную на греческую церковную практику, которую он сам же осудил в своем «Проскинитарии». Зато эта книга со временем сделалась авторитетной среди старообрядцев, которые на выводах Суханова строили свою критику греческих церковных установлений.
Хотя результаты полуофициального посольства Суханова были неблагоприятны для сторонников авторитета греческой церкви, однако Никон, для которого церковная реформа была лишь одним из средств в борьбе с царем за принцип превосходства «священства» над «царством» (т. е. церковной власти над светской), решительно повел реформу по пути сближения русской церковной практики с греческой. Исправление культовых книг было приказано производить по греческим венецианским изданиям, к которым и сами греки в ту пору относились с недоверием.
Царь Алексей поддерживал реформу Никона с ее греческой ориентацией. Эта поддержка была связана с тем, что идея Москвы — последнего оплота православия, противостоящего и западному — католическому, и восточному — мусульманскому миру, снова ожила в политической теории,
- 136 -
а отчасти и в практике Алексея Михайловича. Средневековые представления о богоустановленности царской власти привели царя Алексея к древнему византийскому пониманию роли царя — главы не только государства, но и церкви, и поэтому греческая ориентация церковной реформы Никона соответствовала настроениям царя. Однако выдвинутый патриархом, по существу католический, тезис — «священство выше царства» — вызвал со временем полный разрыв между бывшими друзьями, опалу и низложение Никона, кончившего дни в Кирилло-Белозерском монастыре.
Часть бывших сотрудников Никона по кружку «ревнителей благочестия» резко восстала против его реформы. Во главе оппозиции стал юрьевский протопоп Аввакум, сам ревностный сторонник исправления расшатавшихся церковных порядков и «обмирщения» быта. Для него и его сторонников реформа Никона, опирающаяся на порядки в греческой церкви, представлялась одним из проявлений того тяготения к Западу, которое, в их глазах, грозило утратой национальной самобытности. Овеянный, по мнению Аввакума, духом «латинства», новый церковный обряд нарушал неразрывную связь церковной, государственной и частной жизни старой Руси. Аввакум, увлеченный этой идеей, ошибочно полагал, что оцерковление всех сторон жизни в прошлом было уже достигнуто. Защищая национальную старину в целом, Аввакум со своими друзьями вступился прежде всего за церковный обряд как символ этой старины. Никакие новшества, чего бы они ни касались, не были приемлемы для Аввакума, если за ними чувствовалось, в той или иной форме, влияние «латинского» Запада. Оттого оппозиция направилась не только на патриарха, инициатора подозрительных нововведений в церковной жизни, но и на царя и его друзей-западников, стремившихся ограничить влияние церкви на общественную и государственную жизнь.
Расходясь во многом с Никоном, Аввакум как раз в этом пункте обнаружил большую к нему близость, только обосновывал он признание особой роли церкви во всех сторонах жизни иначе, чем патриарх Никон. Если Никон доказывал, что «священство» выше «царства», опираясь на авторитет греков, то Аввакум требовал подчинения церкви всего жизненного уклада, апеллируя к национальной старине, которую он, в этом отношении, безгранично идеализировал. В борьбе со светской властью за этот принцип первенства церкви, хотя и понимаемый каждым по-своему, потерпели неудачу оба: Никон был низложен, а неугомонный протопоп кончал жизнь в земляной тюрьме Пустозерска, а затем был сожжен на костре. Восточные патриархи осудили поведение обоих — и Никона, пытавшегося подражать их практике, и Аввакума, безусловно отвергавшего эту практику. Однако, если Никон потерпел полную неудачу в своей попытке поднять политическое значение церкви, то предпринятая им реформа церковных порядков получила официальное признание. Между тем не только сам Аввакум, но и последователи его отрицательного отношения к этой реформе на церковном соборе 1666—1667 гг. были объявлены вне церкви и преданы анафеме; часть руководителей раскола, в том числе и сам Аввакум, были отправлены в ссылку. С этих пор сторонники старого церковного обряда подвергались преследованиям и церковной и светской власти. Но пропаганда старой веры продолжалась, число сторонников ее росло. Заключенный в Пустозерскую тюрьму, Аввакум с этого времени начал литературную агитацию в защиту своего идеала «святой Руси».
Именно потому, что защита старого церковного обряда была лишь знаменем,
- 137 -
за которым скрывалось неприятие всего направления политики дворянского государства, — закрепощения крестьян, доводившего их до полного разорения, покровительства иноземным купцам, подрывавшего материальные интересы русского торгового сословия, организации по западному образцу новых войск, приведшей к утрате значения стрельцов, усиления царской власти, опасного для остатков именитого боярства, — благодаря всему этому в рядах староверов оказались уже в 1660-х годах представители разных общественных групп. «Религиозное облачение»1 стало формой проявления классовой борьбы, оппозиции правительству, которая в последней трети XVII в. иногда будет переходить в вооруженное сопротивление.
С крестьянской оппозицией слилась, в конце концов, борьба Соловецкого монастыря против замены старых культовых книг новоисправленными, присланными из Москвы в 1658 г. До 1668 г. споры из-за этих книг, поддержанные опальными боярами-феодалами, сосланными в монастырь, шли довольно вяло. Но в этом году присланного из Москвы с новопечатными книгами архимандрита Сергия встретили угрозы монастырских стрельцов перебить сопровождавший его военный отряд, а в одной из посланных царю челобитных монахи, отказавшись принять новые книги, объявили войну царю: «Вели, государь, на нас свой мечь прислать царьской и от сего мятежнаго жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие». Когда московские стрельцы начали осаду монастыря, к его защитникам примкнули поморские крестьяне, разоренные московскими воеводами, и участники восстания Разина. Эти «бельцы» фактически взяли на себя руководство защитой монастыря, и тогда в 1673 г. было постановлено «за великого государя богомолье отставить», т. е. оппозиция церковной власти распространилась и на светскую. В 1674 г., благодаря измене одного монаха, воевода Мещеринов ворвался в монастырь, казнил, а частью разослал непокорных монахов по дальним монастырям. Остатки соловецкого войска рассеялись по Поморью, пропагандируя здесь «старую веру».
В Москве особенно восприимчивыми к пропаганде «старой веры» оказались стрелецкие войска. В последней трети XVII в. стрельцы представляли пеструю по своему социальному составу и общественно-политическим настроениям среду. После подавления восстания Разина в Москву было переселено немало бывших разинцев, влившихся в стрелецкие войска. Основная масса стрельцов примыкала по своим торгово-ремесленным интересам к городским низам и была недовольна правительством, стеснявшим ее в правах. Сопротивление стрельцов вызывалось и тем, что они мало-помалу теряли свое былое значение, оттесняемые новыми, по-европейски снаряженными и организованными войсками. Таким образом «старая вера» как знамя борьбы против нововведений правительства в стрелецкой массе встретила сочувствие. Стрелецкие войска к 80-м годам оказались очагом, где легко могло вспыхнуть возмущение против правительства и где борьба староверов с никонианами должна была найти себе активную поддержку.
Правительство Софьи в 1682 г. попыталось опереться на стрельцов в своей борьбе против партии Нарышкиных, т. е. Петра, но вскоре убедилось, что требование стрельцов пересмотреть вопрос о «старой вере» скрывает за собой социальную оппозицию. После казни главы стрельцов —
- 138 -
князя Хованского, наиболее активные элементы из московских стрельцов были разосланы по другим городам. С тех пор стрельцы как сила, которой правительство могло бы опасаться или на которую оно могло бы опереться, были разгромлены.
Видная роль старообрядцев во всех вооруженных восстаниях против правительства в 1670—1680-е годы чрезвычайно обострила борьбу с ними. В то же время пропаганда старой веры находила все новые поводы для обличения властей в «латинстве». Заточенные в земляной тюрьме Аввакум и его друзья именно в эти годы энергично общались со своими сторонниками с помощью своих писаний, имея немало сочувствующих среди стражи. В 1681 г. на церковном соборе было установлено, что эти писания открыто продавались в Москве у Спасских ворот Кремля, что в самой Москве существовали старообрядческие молельни. И когда был найден подходящий предлог (оскорбление царя), Аввакум и его «соузники» в 1682 г. были сожжены.
О том, как страстно обе стороны отстаивали в это время свою точку зрения, свидетельствует последний официальный диспут о вере, устроенный в 1682 г. в Грановитой палате по настоянию старообрядцев, поддержанных стрельцами, и вызвавший живой интерес со стороны широких масс московского населения. Бурно и смело выражали старообрядцы, во главе с Никитой Пустосвятом, свои мнения на этом диспуте. Стрельцы поддерживали их и даже вмешавшейся в спор царевне Софье ответили: «Пора де, государыня, давно вам в монастырь; полно де царством тем мутить; нам бы де здоровы государи были, а и без вас де пусто не будет» («История о вере» Саввы Романова). После диспута Никита был казнен, а его сторонники разосланы по окраинным монастырям. Не вероисповедные разногласия с патриаршей церковью, но влияние старообрядцев, в частности самого Никиты, на стрельцов было на этот раз настоящей причиной такой суровой расправы.
После разгрома вооруженных восстаний, среди крестьян-староверов резко усилилась пассивная форма протеста — массовые самосожжения, в которых погибали сотни взрослых и детей. За религиозными лозунгами, под которыми проходили «гари», скрывалось все то же неприятие крепостнического режима, доведшего крестьян накануне реформы до обнищания.
4
Давно уже назревший вопрос о правильной организации школы приобрел с середины XVII в. особую остроту. Недостаток хотя бы богословски образованных людей сказался, когда проводилась церковная реформа; понадобились опытные полемисты против старообрядцев; некому было проверять чистоту веры украинских ученых монахов, работавших и на Печатном дворе и в Посольском приказе. Еще в первой половине XVII в. предполагалось устройство школ с обучением греческому языку. В 1640-х годах восточные патриархи настаивали на открытии школ, руководствуясь, впрочем, более собственной нуждой в них. Паисий Лигарид убеждал устроить школы не только профессионально-церковные, но и общеобразовательные и изучать в них три языка — греческий, латинский и славянский. Однако осуществить этот план не удавалось: первые греческие учителя то оказывались морально ненадежными людьми, то слишком «сановитыми», и их отсылали обратно.
В то же время правительство пыталось найти на Украине организаторов
- 139 -
обучения латинскому и греческому языкам и переводчиков «библеи греческие на словенскую речь». 12 июля 1649 г. в Москву были присланы воспитанники Киевской братской школы Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий.
Школы с теми широкими задачами, о которых говорил царю Паисий Лигарид, до конца 60-х годов открыто не было, но для определенных групп учеников было организовано обучение греческому языку (для справщиков Печатного двора) и латинскому (для молодых подьячих приказа тайных дел). Занятия греческим языком сосредоточивались около Печатного двора; Спасский монастырь приютил небольшую, организованную в 1665 г. Симеоном Полоцким школку, где он, уже по собственной инициативе, добавил к преподаванию славянского и латинского языков изучение пиитики и риторики, упражняя своих учеников в составлении виршей, ораций, писем.
Одновременно расширялась частная инициатива: в качестве домашних учителей для обучения детей, чаще латинскому чем греческому языку, приглашались украинцы и белоруссы, а изредка даже поляки. Окольничий Федор Михайлович Ртищев сделал попытку наладить с помощью киевских ученых монахов в Андреевском монастыре «российскому роду во просвещение свободных мудростей учение». Но все эти опыты не привели к созданию правильно организованной школы, и уже в 1650 г. первые русские ученики едут в Киевскую коллегию. До открытия в Москве «еллино-греческой» академии то из Москвы, то из далекой провинции отправлялись они «для философской науки» в Киев.
В последней трети XVII в., когда стал вопрос об организации в Москве высшей школы — «академии», две партии столкнулись в споре о том, какое направление должна принять программа этой академии. Партия патриарха — греческая — включала и греков, братьев Лихудов; к латинской примкнули украинские ученые и их русские ученики и последователи. К вопросу о школе присоединился спор о некоторых разногласиях в практике русской, греческой и украинской церкви. В эти споры были вовлечены довольно широкие круги населения, поскольку для данного исторического момента поднятые в них вопросы имели далеко не один теоретический интерес. Сохранять старый уклад жизни и традиционную греческую культуру или ломать быт и итти на обмирщение его — вот к чему, в сущности, сводились богословские и педагогические споры, разгоревшиеся особенно в 1680-х годах. Поскольку большинство украинско-белорусских культурных деятелей, во главе с Симеоном Полоцким, а после его смерти под руководством его русских учеников, стояли за латинизированное преподавание, — нападки на их проекты были и вообще протестом против внедрения украинско-белорусского просвещения, которому покровительствовали светские власти.
Над составлением устава будущей московской академии трудились представители обеих враждующих партий. Первоначально эта академия была задумана как всесословная, профессиональная, и в то же время общеобразовательная школа, где давалось бы и духовное и светское образование. В программу обучения должны были войти «науки гражданские и духовные, наченше от грамматики, философии разумительной, естественной и нравной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения», а также «учение правосудия духовного и мирского и прочие все свободные науки». Проект академии предусматривал обязательность
- 140 -
прохождения курса наук для всех, претендующих на занятие «государских чинов», если они не принадлежат к разряду «благородных».
На практике этот план не осуществился, и академия стала профессиональной духовной школой, с тенденцией охранять старину. В окончательной формулировке устава на первый план была поставлена охрана чистоты вероисповедания. Академия получила право высшего контроля по делам веры и народного образования и право суда над всеми, кто угрожал чистоте православия и «народной нравственности». Академический суд мог присуждать к ссылке и даже сожжению виновных в измене православию, в пользовании астрологическими, «богохульными и богоненавистными книгами и писаниями». Без разрешения академии русские не могли держать домашних учителей; неученым людям запрещалось иметь у себя книги «польские и латинские, немецкие, лютеранские и кальвинские». Таким образом, академия исполняла разнообразные функции цензора.
Открытие в 1687 г. академии совпало с тем моментом, когда, в связи с богословским спором, украинские ученые были оттеснены от организации академии и дело было поручено приезжим ученым грекам братьям Софронию и Иоанникию Лихудам.
В первые годы, когда преподаванием в «еллино-греческой» академии ведали Лихуды, обучение греческому языку начиналось с низшей школы, где ученики овладевали самым механизмом чтения и письма на этом языке. В средней школе на греческом языке преподавалась грамматика; в верхней — на греческом и латинском языках изучали риторику, логику, физику, пиитику и, наконец, богословие. Преподавание этих схоластических наук происходило по руководствам, основанным на обычных авторитетах средневековья. Риторика, логика и физика исходили из средневекового понимания Аристотеля, однако Лихуды пытались несколько приблизить эти науки к потребностям жизни. Оттого, например, задачей риторики они ставили обучение красноречию не только «божественному» и «ироическому», но и «человеческому», «якоже наипаче вящше в судилищах и во училищех и во священных поучениих употребляется и воссиявает».
Несмотря на то, что Московская академия сразу же стала школой богословской по преимуществу, в условиях тогдашней московской жизни и она была явлением положительным. Знание латинского языка открывало возможность знакомиться с книгами и по другим наукам; изучение риторики и пиитики приучало владеть письменной и устной речью; совершенствовало литературную технику, знакомило с образцами классических литератур. Современники так и восприняли эту школу, как общеобразовательную, а не только специально духовную. С первых лет в ней учились не только белые попы и монахи, но и князья, спальники, стольники и «всякого чина москвичи».
Однако открытием «еллино-греческой» академии школьный вопрос разрешен не был. Попытка совместить в программе академии две задачи — общеобразовательную и профессиональную — была сделана еще раз в 1698—1699 гг. Петром I, но и эта попытка не дала результатов. Получив высшую богословскую школу, Москва не имела в XVII в. даже в зачаточном состоянии ни одной школы, которая давала бы хоть небольшие сведения по точным наукам — математическим, естественно-историческим и техническим. Организация таких школ — дело уже петровских преобразований.
- 141 -
5
На возросшую потребность в просвещении, на потребность в книге указывает в середине XVII в. расширяющаяся деятельность Московского печатного двора. В 1649 г. в разных отраслях типографского дела на нем работало уже 165 человек. Кроме богослужебной и церковной четьей литературы, по нескольку раз за 40-е — 50-е годы издавалась азбука, учебная псалтырь, учебный часослов, Грамматика славянская Мелетия Смотрицкого (с изменениями и дополнениями по сравнению с виленским изданием 1619 г.) и ряд других книг практического назначения. С 1657 по 1665 г. на Валдае в Иверском монастыре работала типография Кутеинского (близ г. Орши) монастыря, переиздававшая свои старые издания, которые, впрочем, не внесли ничего нового в привычный репертуар церковно-богословской литературы, бытовавший и в рукописной русской книжности того времени.
Печатные книги продавались и непосредственно на Печатном дворе и в «Овощном» ряду в Москве, а в провинциальных городах — в торговых рядах (сохранились, например, сведения о книжной торговле в Новгороде, Енисейске); отпускала книги покупателям и «книгохранительная казна» некоторых, наиболее богатых книгами, монастырей.
Кроме изданий Московского печатного двора, продолжали распространяться книги «литовской» печати. Несмотря на запрещение патриарха Филарета (стр. 14), далеко не все они были изъяты из обращения. В середине XVII в. были известны на Руси преимущественно культовые или четьи церковные книги украинских и белорусских типографий. Вероятно, дошел до русского читателя Киево-Печерский патерик (в киевском издании 1661 г.), в рукописной копии сохранился и «Лексикон славенороссийский и имен толкование» Памвы Берынды (с киевского издания 1627 г.). Наплыв украинско-белорусских книг, имевших общеобразовательное и литературное значение, начался в Москве только с 1660-х годов.
По инициативе патриарха Никона при Московском печатном дворе с 1650-х годов собирается значительная библиотека, состоявшая из рукописных и печатных книг на разных языках. В связи с работой по исправлению культовых книг была произведена мобилизация сохранившихся пергаменных рукописей их, затребованных главным образом из монастырских библиотек и оставшихся с тех пор в Москве. Так, например, псковско-новгородские пергаменные рукописи церковно-богослужебных книг сосредоточились в типографском книгохранилище (Печатного двора). Часть греческих богослужебных и богословских рукописных и печатных книг была вывезена в Москву Арсением Сухановым с Востока, часть принадлежала сотруднику патриарха Никона по исправлению книг — Арсению Греку. Некоторые издания греческих и латинских культовых и богословских книг были выписаны патриархом из Рима, Венеции, Парижа. Сохранились оригиналы некоторых книг, переведенных в это время с латинского и немецкого языков. Однако иностранная часть Типографской библиотеки сложилась в основном уже в последние тридцать лет XVII в., когда в состав ее вошли в значительном количестве книги, принадлежавшие профессорам Московской академии.
В помощь при изучении греческого и латинского языков трижды (1642, 1650 и 1685) переведен «Dictionarium linguarum» Amborsii Calepini; Епифаний Славинецкий перевел Io. Scopulae «Lexikon graeco-latinum»; для переводчиков с польского языка был составлен «Лексикон языков
- 142 -
польского и словенского скорого ради изобретения и уразумения бывающыя в недоведомых вещех и неискусства языков», основанный главным образом на польско-греческом словаре Gregorii Cnapii (изд. в Кракове в 1621 и 1643 гг.). Накануне Северной войны появился «Лексикон российско-латино-шведский».
Значительный шаг вперед сделало изучение славянского языка благодаря переизданию в 1648 г. славянской грамматики Мелетия Смотрицкого. В распоряжении русского читателя до издания этой грамматики были многочисленные рукописные статьи грамматического содержания, основанные на старых сведениях, собранных у Иоанна, экзарха Болгарского, Константина Философа, Максима Грека и других средневековых авторитетов. В этих статьях излагались правила грамматического разбора слов на основе статьи о восьми частях слова, давалась классификация гласных и согласных, сообщались законы написания и произношения отдельных звуков («где говорити дебело и тоностно, и где с пригибением уст и где с раздвижением и где просто...»), сведения о надстрочных знаках и знаках препинания, о разных почерках. Но совершенно отсутствовал, например, синтаксис.
Мелетий Смотрицкий, поставив в центре внимания своей «Грамматики славенския правильное Синтагма» орфографию, просодию и этимологию славянского языка, включает сюда и вопросы синтаксиса. Основная цель Смотрицкого заключалась в том, чтобы установить нормы славянского языка как литературного языка своего времени. Пользуясь грамматическими категориями, установленными в трудах греческих и латинских филологов (преимущественно Альвара), Мелетий Смотрицкий дает развернутую характеристику славянского языка. Касаясь синтаксиса, он рассматривает его в связи со стилистикой. Заключительная часть грамматики Смотрицкого посвящена теории метрического стихосложения, в возможности применения которой к славянскому языку он не сомневался. Эта грамматика долгое время была основным учебником славянского языка на Украине, в Белоруссии, а затем и в России, выдержала несколько изданий и не раз перерабатывалась. По ней учился М. В. Ломоносов, который называл ее, наряду с «Псалтырью рифмотворной» Симеона Полоцкого и арифметикой Магницкого, «вратами своей учености». В 1775 г. Грамматика Смотрицкого была переиздана в Валахии для сербов и болгар. По обстоятельности и самостоятельности разработки многих вопросов, Грамматика Смотрицкого долго служила основанием для дальнейшей научной разработки славянского языка; она нашла, например, отражение в знаменитой работе И. Добровского «Institutiones linguae slavicae» (1822).
*
Расширение сношений с Европой и Востоком поддержало в середине XVII в. особый интерес к географии. На основе известных уже географий (или на языке того времени «Космографий») была составлена обширная «Книга глаголемая космография», где в 76 главах содержится «описание всего света земель и государств великих». Впрочем, эта Космография, основанная преимущественно на сведениях Меркатора и Мартина Бельского, уже значительно отставала от новейших работ по географии, отражая уровень знаний XVI в. Более свежие сведения получили русские читатели через переводы голландских изданий.
Голландскими купцами, видимо, был привезен в Москву атлас Блеу,
- 143 -
переведенный частично на русский язык под заглавием «Позорище всея вселенныя или Атлас новый». Из многотомного голландского сочинения были переведены в Москве, по приказу патриарха Никона, учеными монахами (Епифанием Славинецким, Арсением Сатановским и Исаией) первые четыре книги текста, приложенного к картам. Перевод сделан с латинского издания 1645 г. В этих томах содержится описание европейских стран, Азии, Африки и Америки, причем, как и в географических сочинениях XVI в., на первом плане — вопросы социально-экономической жизни, хотя и описанию природы уже уделяется большое внимание. География Луки де Линда с особой полнотой характеризует общественно-политическую жизнь всех стран, преимущественное внимание отдавая европейским государствам.
Атлас Блеу и География де Линда принесли в Москву первые сведения об астрономии Коперника. Более отчетливо пропагандировала систему Коперника в том ее виде, какой она приобрела в трудах Кеплера и Галилея, «Селенография» Гевелия, переведенная с латинского подлинника 1647 г. Эта «Книга о луне и о всех планетах» излагает общую теорию солнечной системы по Копернику и теорию лунных движений. Конечно, резко противоречившая астрологии средних веков, согласованной с Библией, теория Коперника в XVII в. была еще достоянием лишь отдельных немногих читателей, и даже в XVIII в. церковь враждебно относилась к ней. Но уже самый факт перехода новейших достижений астрономической науки в книжность Русского государства середины XVII в. имел большое значение.
Прямыми предшественниками петровских изданий по военному делу были переводы книг Вальгаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» и «Голландский воинский устав о наказаниях». Первая книга была напечатана в Москве в 1647 г. с гравюрами русского художника Благушина.
К известным уже в русской книжности книгам по всеобщей истории прибавился перевод всеобщей древней истории — «История четырех монархий» (Вавилонской, Персидской, Греческой и Римской). Оригиналом была латинская книга I. Sleidani «De quatuor summis monarchiis libri tres», которую в Европе перепечатывали еще в середине XVII в. Описанию современной автору — ксендзу Старовольскому (первому биографу Коперника) — жизни при дворе турецкого султана посвящена книга «Двор турскаго салтана и о чину и о строении его во Царегороде», напечатанная в Кракове в 1646 г. и привезенная из Польши дьяком Григорием Кунаковым в 1649 г. Это сочинение в конце XVII в. было переведено на русский язык еще пять раз. Политические отношения с Турцией и войны обостряли, видимо, интерес к жизни этого государства.
В значительном количестве переводятся отдельные заметки из иностранных газет и летучих листков. Часть их сохранилась не только в составе придворных курантов, но и в особых списках. Через такой перевод стала, например, известной русскому читателю в 1663 г. легенда об Агасфере.
С 1670-х годов приток иностранных, главным образом западноевропейских, книг в Москву заметно усиливается, и в книгохранилище Московского печатного двора сосредоточивается значительное количество рукописных и печатных книг — культовых, церковно-учительных, изданий классиков, исторических, грамматических, медицинских, философских, естественно-исторических, лексиконов. Многие из них переданы были сюда справщиками, профессорами «еллино-греческой» академии, Посольским приказом и Приказом Большого дворца.
Рядом со средневековыми богословско-философскими трактатами, астрономическими и астрологическими статьями, переводятся сочинения, касающиеся
- 144 -
истории Турции и Польши (повесть о турках, повторно — «Двор турского салтана», «Хроника» Стрыковского, летопись Пясецкого, повесть о короле Владиславе). Не сохранился сделанный Епифанием Славинецким с латинского издания 1649 г. перевод рассказа о казни Карла I, короля английского; философии истории посвящены сочинения «О государстве» Андрея Модржеевского и «Причины гибели царств»; с польского печатного издания повторно переводится «История иудейской войны» Иосифа Флавия. Попрежнему интересуют описания путешествия (по Индии, Алжиру, Персии, Палестине). Очерк истории знаменитых мореплаваний и сделанных во время их открытий, доведенный до первых десятилетий XVII в., представляет «Перевод с книги, именуемой Водный мир, сиречь краткое описание обретения первого морского корабельного ходу и новых незнаемых земель, также описание о всех государствах». Географическая часть этого очерка сообщает конспективно, почти в виде перечня, сведения о Европе, Азии, Африке и Америке.
Возобновившиеся в 1670-х годах попытки русского правительства завязать торговые сношения с Китаем вызвали перевод двух латинских книг о Китае (Мартиниуса и Кирхера). Кроме того, свод сведений о Китае из сочинений западноевропейских путешественников и иезуитов, в качестве миссионеров тщательно изучавших Китай, читается в «Описании первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городы и провинции». Это описание было составлено греком Николаем Спафарием, который в 1675 г. был назначен главой официальной экспедиции, отправленной московским правительством с тем, чтобы описать новые русские владения в Сибири, собрать сведения о наиболее безопасном и коротком пути в Китай и, наконец, познакомиться основательно с «государством Китайским». Спафарий писал книжным языком, но просто и деловито, а богатое содержание его книги выгодно отличало ее от случайных бессистемных заметок, какие привозили в Москву «служилые и торговые люди», ездившие в XVII в. с государевыми грамотами в Пекин. Во многом описание Спафария не утратило своей ценности и до сих пор.
Спафарию принадлежит также составление отчасти по греческим, отчасти и по русским источникам двух исторических компиляций, где излагались жизнеописания государей четырех великих монархий древности и «великих князей и государей царей российских», которых род Калиты признавал своими предками («Хрисмологион» и «Василиологион»). Обе книги связываются общим взглядом на божественное происхождение царской власти и призывают к борьбе с Турцией.
Элементы новой европейской науки передавались в русскую книжность последней трети XVII в. через переводы медицинских книг — например, через «Анатомию» Везалия, где рядом с воспроизведением античных сведений Галена, есть уже и новейшее описание анатомии человека и данные по физиологии. Несколько сочинений, переведенных в конце XVII в., касались техники и сельского хозяйства.
Значительно возросло количество переводов с европейских газет и летучих листков. Посредством «курантов», которые составлялись все регулярнее, европейские события быстро становились известными при дворе Алексея Михайловича. Сохранились сделанные для него и для царя Федора выписки из голландских, немецких почтовых недельных ведомостей, из гамбургских, «цесарских», краковских газет и листков.
Новинкой для Москвы было появление во второй половине XVII в. большого количества «фряжских» печатных листов, которыми торговали в
- 145 -
Овощном ряду и у Спасских ворот. Эти иллюстрированные листы давали некоторые сведения по естественной истории, географии, всеобщей истории и т. п.; по образцу их стали печатать лубочные картинки в Московской типографии и особо в «Верхней» или придворной типографии (где уже в 1677 г. был «станок деревянной печатной печатать фряжские листы»). Начали распространяться западные «чертежи», т. е. живописные географические карты, которые, с птичьего полета, изображали здания, горы, леса, реки, жителей и т. п. По типу этих чертежей делали карты и в Москве («чертеж всего света», «новой Сибирской чертеж» и другие). С западных гравюр царские живописцы срисовывали иллюстрации для «потешных книг» царским детям. Здесь были картинки, относящиеся к военному и гражданскому быту, сельскому хозяйству, охоте, но воспроизводились и фантастические чудовища средневековых космографий — морской человек и морская девица, чудовищные животные и пр.
В конце XVII в. заново переводятся и некоторые знакомые уже читателю памятники. Кроме названной выше «Истории иудейской войны», внимание переводчиков привлекают басни. С польского языка «синбирский ротмистр Каминский» переводит еще раз басни Эзопа (в языке остались следы польского оригинала — слова: «хорый», «цноты», «женатый младенец», и т. д.). Другой тип сборника басен представляет переведенный А. Виниусом в 1674 г. с немецкого языка сборник «Зрелище жития человеческого, в нем же изъявлены суть дивные беседы животных со истинными к тому приличными повестями в научение всякого чина и сана человеком». Здесь помещены 133 басни, с обширными нравоучениями. Центр внимания перенесен именно на эти нравоучения, обильно уснащенные ссылками на классических и средневековых писателей. С немецкого же языка переведены были известные лишь в одном списке конца XVII в. восточные басни — «Премудраго Лохмона издивительные склады и примеры». Эта книга, повидимому, распространения не получила, как и находящиеся в той же рукописи два рассказа Саади («Персицкий крыньный дол» и «Персицкого деревнаго саду первая книга»). Так же мало внимания привлек к себе, видимо, и перевод «Метаморфоз» Овидия, сохранившийся в одном списке конца XVII — начала XVIII в. Возможно, что перевод сделан был уже в начале петровского времени. «Книги первые метаморфосеон се есть преображений или перемен, Публием Овидием Насоном стихами описанных» представляют собой прозаический перевод с польского издания 1638 г., сделанный русским языком, с славянизмами и полонизмами, местами мало вразумительный.
6
Воссоединение с Украиной и продолжавшаяся ориентация правительственной политики в 1670-х — 1680-х годах на юг содействовала тому, что именно в эти годы усилилось и культурное общение с Украиной. Один за другим приезжают в Москву культурные и литературные деятели, выполнявшие попутно и дипломатические миссии (Иоанникий Галятовский, Иннокентий Гизель, Лазарь Баранович и др.).
В истории русского просвещения знакомство с украинско-белорусской культурой проявилось особенно заметно с конца 60-х годов. Даже консерваторы из представителей высшего духовенства и монашества признали, по практическим соображениям, латинизированное богословие Киевской академии и хоть внешне усвоили формы школьной литературы, выросшие в этой академии.
- 146 -
Еще до открытия в Москве «еллино-греческой» академии, с конца 1660-х годов, проводниками украинско-белорусской культуры становятся преимущественно воспитанники Киевской академии, писатели и проповедники, учителя и переводчики, справщики Печатного двора. Они помогали в организации переводческой работы и книгопечатания, привозили с собой книги «литовской» печати, на этот раз не только культовые и богословские, но и исторические, повествовательные, ораторские, школьно-учебные издания.
В 1663 г. переселился в Москву побывавший здесь уже в 1660 г. белорусс, учитель Полоцкой братской школы, Симеон Петровский-Ситниянович (получивший в Москве прозвание Полоцкий). Вскоре он приобрел здесь большую известность как проповедник, полемист и первый в Москве придворный поэт. В 1666 г., по вызову московского правительства, приехал на церковный собор один из наиболее известных украинских писателей второй половины XVII в., черниговский епископ Лазарь Баранович и привез сборник своих проповедей «Меч духовный», отпечатанный со множеством рисунков и с посвящением царю Алексею.
В 1669 г. архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель привез в Москву свою книгу «Мир с богом человеку», а через несколько лет здесь получил широкое распространение (отпечатанный в Киево-Печерской лавре в 1674 г.) приписываемый ему «Синопсис или Краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-российского народа». Это был первый по времени опыт прагматического изложения основных событий истории Киевской Руси, Украины и, частично, Русского государства, основанный в значительной степени на данных польских хронистов XVI—XVII вв. Излагая события из истории Московского княжества, автор Синопсиса особенно много внимания уделил Куликовской битве и подвигам Дмитрия Донского; он развил в этой части московскую идею о преемстве власти московских князей от Владимира Мономаха. Изложение доведено до 1674 г. В свое время этот обзор русской и украинской истории пользовался большой популярностью и на Украине и в России. В XVII в. Синопсис был пять раз издан, причем русский материал в нем расширялся; в конце XVII в. книга была переведена на греческий язык, а затем, по приказу Петра, и на латинский. Даже после выхода в свет «Краткого летописца» Ломоносова Синопсис служил одним из основных учебных руководств по русской истории (в XVIII и в первой половине XIX в. он неоднократно переиздавался). Многие историки XVIII в. испытали на себе влияние этого обзора (А. Манкиев в книге: «Ядро Российской истории», 1715, П. Захарьин в «Новом Синопсисе», 1738 и др.). Написанный занимательно, не без беллетристического таланта, Синопсис дал ряд сюжетов повествовательным произведениям и классической трагедии (например, из Синопсиса Ломоносов заимствовал сюжет для своей трагедии «Тамира и Селим»); отголоски его зашли и в лубочную литературу и даже в народную сказку (о Мамае безбожном).
В 1670 г. приехал в Москву Иоанникий Галятовский, автор популярного на Украине сборника проповедей «Ключ разумения», сборника дидактических новелл «Небо новое» и полемического трактата «Мессия Правдивый». Наибольшую известность из этих трех книг в Русском государстве получил сборник «Небо новое» (изд. во Львове в 1665 и в 1666 гг. и в Могилеве в 1699 г.), переведенный в 1677 г. «на истинный широкословенороссийский диалект» монахом Саввы Сторожевского монастыря Феофаном. «Небо новое» — сборник рассказов преимущественно о чудесах богородицы. Большинство этих рассказов заимствовано И. Галятовским из
- 147 -
католических сборников легенд. Вошли в состав «Неба нового» и некоторые местные предания (например, о том, как татары напали на икону холмской богородицы и «за тое послепли и головы им завернулися»; как в 1630 г. польское войско хотело взять Киево-Печерский монастырь, но было поражено огненным дождем). Некоторые легенды «Неба нового», повидимому, уже в XVII в. вошли в повествовательную часть Синодика: легенда о распутном юноше, воскрешенном богородицей; о говорящей голове, просившей исповеди; о разбойнике Домицелле и др. В XVIII в. многие легенды сборника вошли в лубочную литературу и отчасти в фольклор.
Синопсис. Киев, 1674 г.
Не меньший успех у русских читателей выпал на долю «Книги житий святых» Дмитрия Туптало, будущего митрополита Ростовского. Начатая
- 148 -
еще в 1684 г., эта книга (в четырех частях) издавалась Киево-Печерской лаврой с 1689 по 1705 г. В состав «Книги» вошли жизнеописания почти всех святых греко-российской церкви, расположенные в календарном порядке дней их церковного празднования. В основу сборника легли «Великие Четьи Минеи» митрополита Макария, но автором были использованы также польские и латинские жития из сборников: «Acta sanctorum» болландистов, «Legenda aurea» Якова де Ворагине, «Zywoty swíętych» Петра Скарги и др. Написанная в легкой беллетристической манере, «Книга житий святых» читалась еще и в XIX в.; перечитывал ее Пушкин, собирая материал для «Бориса Годунова»; Герцен обработал взятое из «Книги житий» житие Федора и Феодоры.
Не только украинская книга, но и украинское народное творчество становится в последние десятилетия XVII в. известным в Москве, притом в самых разнообразных слоях читателей. Так, несколько украинских народных песен записал в 1680-х годах московский дворянин, с 1685 г. — стольник царицы Прасковьи Федоровны, Петр Андреевич Квашнин. Украинская народная песня проникала в Москву не только устным путем. В рукописных сборниках украинских виршей, псальм и литературных песен, которые в большом количестве распространялись среди русских читателей, изредка находятся и записи народных песен. От XVII—XVIII вв. сохранилось немало русских копий таких сборников; материал из них встречается и среди русских виршей и вообще стихотворных упражнений безымянных поэтов того времени.
Приезжавшие в Москву украинские культурные деятели находили, в лице царя Алексея Михайловича, щедрого покровителя: им разрешалось беспрепятственно продавать свои сочинения; нередко у них принимали в государеву казну все привезенные ими книги по цене, которую они сами назначали; давали бумагу для печатания. Им покровительствовали, однако, не только из уважения к их литературным заслугам: многие из них не раз оказывали правительству немаловажные политические услуги, например, И. Гизель и Л. Баранович, которые у себя на Украине пользовались большим влиянием и даже приглашались гетманом на Раду.
С 1670-х годов началась, с разрешения правительства, организованная продажа книг «литовской» печати. Этим занялась преимущественно Киево-Печерская лавра, присылавшая целые партии изданий своей типографии. В 1672 г. два «мастера» этой типографии открыли первую в Москве книжную лавку, куда с 1673 г. стали привозить книги и львовских типографий. Торговали в Москве книгами украинских типографий и киевские мещане и комиссионеры Лазаря Барановича.
Привозя в Москву книги своих типографий, украинцы и белоруссы изредка перепечатывали здесь свои издания. В Иверский монастырь, как указано (стр. 143), была переведена вся кутеинская типография. В 1681 г. в «Верхней типографии» в Москве было переиздано кутеинское издание «Гистории албо Правдивого выписаня святого Иоанна Дамаскина о житии святых преподобных отец Варлаама и Осафа, и о наверненю индиан» — с подновлением языка, стихотворным предисловием — похвалой и молитвой Иоасафу Симеона Полоцкого; книга была украшена гравюрами, сделанными по рисункам царского живописца Симона Ушакова.
Московские издания оказывали воздействие на украинские. Характерна, например, судьба одного памятника, который в русских рукописях известен с XV в., а на Украине был напечатан впервые в Остроге в 1607 г. — «Тестамента Василия царя Греческого». В 1680 г. в «Верховней типографии», при содействии Симеона Полоцкого, «повелением царя
- 149 -
Федора Алексеевича и с благословения патриарха Иоакима, с рукописного текста, бытовавшего в северно-русских списках XV—XVI вв. (например, Софийский Новгородский № 1444), были напечатаны «Главы наказателны царьскии Василиа, царя Греческого, к сыну его и царю Льву», так называемый «Тестамент Василия царя Греческого, сыну своему Льву Философу» (очерк общественной и частной морали, какой она представлялась верхам византийского общества IX в.). К тексту было приложено стихотворное «Увещание к читателю», составленное Симеоном Полоцким. Интересно, что на этот раз Симеон не воспользовался имевшимся уже в Острожском издании текстом «Тестамента», а взял русскую рукопись. Московское издание было через два месяца перепечатано в Киево-Печерской лавре, причем к тексту было присоединено новое предисловие и добавлен «Стослов» Геннадия.
Культурное общение с Украиной-Белоруссией вызвало сопротивление консервативных кругов. Во главе противников «латинской» учености киевлян с 1674 г. стал патриарх Иоаким, убежденный грекофил. Киевлян начали обвинять даже в политическом «шатании».
Для книг «литовской» печати была возобновлена духовная цензура, и к продаже в Москве стали допускаться только такие книги, относительно которых было установлено, что никаких «сумнительств» они не содержат; из некоторых книг, по приказу патриарха, вырывали целые листы. Церковный собор 1690 г., по настоянию патриарха Иоакима, осудил не только «еретические» высказывания некоторых киевских богословов и их русских учеников, но и запретил ряд сочинений крупных украинских писателей (Кирилла Транквиллиона, Петра Могилы, Сильвестра Коссова, Иннокентия Гизеля, Лазаря Барановича, Иоанникия Галятовского) и даже Симеона Полоцкого.
Такую политику по отношению к украинцам продолжал и патриарх Адриан, который в 1699 г. запретил типографии Киево-Печерской лавры печатать книги на украинском языке, назвав его «наречием» (кроме «малых книг», рассчитанных на распространение только на Украине). Вся украинская печатная продукция подвергалась предварительной цензуре московских духовных властей.
Несмотря на эти меры, «латинская» образованность киевлян продолжала пользоваться авторитетом в передовых кругах московской интеллигенции, и украинская книга приобретала все большее число читателей.
Сами сторонники старозаветной традиции иногда обращались к украинской литературе: патриарх Иоаким читал в Успенском соборе поучения из «Учительного евангелия» Кирилла Транквиллиона, чудовской инок Евфимий пользуется трактатом И. Гизеля. И, наконец Московская академия — очаг грекофилов — по совету Стефана Яворского, реорганизуется по типу Киево-Могилянской академии.
Исторически-прогрессивное значение перехода в Русское государство некоторых достижений украинско-белорусской культуры несомненно. Хотя «наука», принесенная украинско-белорусскими литераторами, была по преимуществу богословской, но, во-первых, богословием она не ограничивалась, а во вторых, и в богословском методе украинцев и белоруссов были те новые элементы рационализма, которые поддержали народившийся в некоторых кругах русского общества скептицизм в отношении к вопросам религии (особенно в области обряда). В последней трети XVII в. значительно расширилось изучение латинского языка, бывшего еще языком международного научного общения. Это открывало русскому читателю доступ
- 150 -
к тем разнообразным научным (и наукообразным) книгам, которых к этому времени немало накопилось в книгохранилищах Москвы.
Для жанрового и стилистического обновления русской литературы в последней четверти XVII в. плодотворным оказалось использование ею опыта украинско-белорусской литературы. Оно познакомило с новыми литературными жанрами (стихотворные — эпические и лирические произведения, школьная драма), с новой стихотворной и повествовательной техникой и с новым литературным стилем, условно называемым некоторыми исследователями «барокко», по внутренней связи его с аналогичным стилем в архитектуре.
Проникнув на Украину в сложившемся уже виде (в польском и неолатинском выражении), этот стиль не был поддержан соответствующими историческими условиями и потому был воспринят формально. Здесь он вступил в сочетание со старой славяно-византийской традицией и, укрепившись в школьной литературе (в Киево-Могилянской коллегии), приобрел просветительский характер. Греко-римская мифология, ученые экскурсы в область истории, философии, географии и естествознания служили в украинской литературе пропаганде науки и элементов античных и европейских литератур. Аллегоризм нового типа и привычные аллегории-символы, усвоенные еще через славяно-византийскую традицию, неразделимо иногда сплетаются в украинской литературе так называемого «барокко». Характерные черты этого литературного стиля через украинскую литературу усваиваются некоторыми русскими писателями последней трети XVII в.; формалистический и вместе с тем просветительский дух украинского «барокко» сохраняется и в русской литературе, где этот стиль также не был органическим продуктом литературного развития.
7
Во второй половине XVII в. художественная литература, в итоге длительного многовекового процесса, выделяется, наконец, из общего состава книжности, освободившись от прямой связи с практическим назначением. Литературное развитие сосредоточивается теперь преимущественно в этой специфически художественной литературе, и потому жанры, игравшие важную роль в общем ходе литературного процесса в предшествующем периоде, — жития, публицистика, летописи, — с этого времени могут рассматриваться уже как факты больше общекультурного, чем специально литературного значения. Конечно, и во второй половине XVII в. создаются еще такие памятники книжности, в которых художественные элементы почти неотделимы от внелитературных, памятники, назначение которых лежит вне задач собственно художественной литературы, но которые, однако, внесли свою — и немалую — долю в развитие литературного стиля (например, старообрядческая литература). Но не этим группам письменных памятников принадлежит уже теперь ведущая роль в создании новых жанров художественной литературы.
Временно отходят в тень и исторические повествовательные жанры, когда-то представлявшие передовую линию литературы. Старые приемы изображения исторических фактов потеряли свою былую выразительность и превратились в шаблон. Но уже с начала XVII в. внутри исторического повествования шел глубокий процесс накопления тех новых художественных средств выражения национально-исторической темы, которые с Ломоносова снова поставят эту тему в художественной литературе на то первое место
- 151 -
какое она занимала уже в литературе времени «Слова о полку Игореве». С другой стороны, именно во второй половине XVII в. на основе летописной традиции слагаются такие формы изложения исторических фактов (Латухинская Степенная, «История» Федора Грибоедова, Синопсис), которые приведут к научно-историческому стилю В. Н. Татищева, И. Голикова, М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина и других историков нового времени.
Художественная литература с 40-х годов XVII в. уделяет большое внимание изображению с помощью вымышленных сюжетов общественных «нестроений» своего времени и основных противоречий предреформенной поры.
Деятельность земских соборов, на которых обсуждались «злохитренные московские обычаи», городские восстания и многочисленные челобитные, с предельной откровенностью и реалистичностью изображавшие эти «обычаи», — объясняют расцвет сатирической литературы именно с 1640-х годов. Эта литература становится своеобразной формой протеста средних, по преимуществу, классов против социальной несправедливости в разных ее проявлениях, против взяточничества администрации, пристрастного суда, пьянства, невежества и распущенности духовенства, против религиозного формализма и засилья иностранцев, которые приносили с собой на Русь не только более высокую технику, но и новые формы эксплоатации. Отталкиваясь от привычных видов книжной и устной художественной литературы и деловой письменности, эта сатира выработала новый жанр пародии.
Попытки порвать с традиционным мировоззрением и с укладом быта, подвергавшимся разносторонней критике, и найти самостоятельный путь в жизни характерны для целых групп русских людей второй половины XVII в. Эти порывы к новому в разных классах русского общества начали ощущаться после бурных событий первых лет XVII в., но особенно заметными они становятся к середине века. И в русской литературе с этого времени проблема борьбы двух поколений, двух мировоззрений привлекает к себе серьезное внимание.
В повестях о Савве Грудцыне и о Фроле Скобееве борьба двух поколений изображается как столкновение традиции, косности со стремлением к свободе самоопределения, к развитию. Повести и «стихи умиленные» на ту же тему делают своим героем восставшего против «отцов» сына, и хотя этот герой пока еще терпит поражение, хотя внешне старый уклад жизни с ее нормами торжествует, но сочувствие автора оказывается на стороне молодого поколения, правда, лишь в форме жалости к нему. Развернутая биография героя, психологические мотивировки его поведения, внимание к любовной тематике — все эти черты повестей второй половины XVII в. позволяют видеть именно в них первые опыты русского романа. Как в живописи второй половины XVII в. и практически и особенно теоретически условная манера иконописи противопоставляется реалистическому портрету (стр. 170), так и в литературе эти зачатки русского романа стремятся отойти от схематизма и традиционных приемов старого повествовательного стиля. Однако в области литературы этот перелом теоретически еще не обосновывается.
Переоценка старого уклада жизни — личной и общественной — в сатире и в повести третьей четверти XVII в. еще не влечет за собой утверждения каких-либо положительных идеалов. Прошлое явно не удовлетворяло, но поиски новых путей пока не приводили к определенному решению. В последней трети XVII в. светская повесть и отчасти драма, продолжая критическое направление литературы предшествующих десятилетий, намечают, в духе новых запросов, отдельные черты «положительного героя», в которых
- 152 -
уже ощущаются признаки будущих деятелей петровских преобразований.
Основная мысль всей просветительской деятельности Симеона Полоцкого — нельзя жить без «науки» — входит в сознание «блудного сына», когда он, потерпев неудачу, возвращается в родной дом: «Познах бо ныне юность дурность быти, аще кто хощет без науки жити». Иноземные герои переведенных в 70—80-е годы повестей в юности едут «для науки» в чужие края, чтобы «без соромоты и укоризны» быть наследниками своих отцов. Предваряя наставления «Юности честного зерцала», эти герои признавали, что учиться следует не только воинской доблести, но и учтивости в обхождении, разумным и «премудрым» речам в обществе.
Свободу в устройстве личной жизни, без оглядки притом на знатность происхождения, отстаивает молодежь и в жизни и в литературе, проявляя смелость и инициативность в устройстве своей судьбы. Аннушка Ордын-Нащокина больше чем на теремную боярышню прошлого, похожа уже на девиц, танцовавших на петровских ассамблеях. Однако переходная эпоха оставила свой след на характере этих положительных качеств литературных героев: деловитость и смелость позволяют им иногда, на пути к цели, даже такие средства, как обман.
Этот «положительный герой» литературы конца XVII в. занят пока поисками лучших условий своей личной жизни; в сферу общественной деятельности он перенесет свою энергию уже в следующую эпоху.
Созданные, главным образом, в городской среде, сатирические и бытовые повести второй половины XVII в. связаны тесно с фольклором. Но, в отличие от предыдущего периода, когда основные — исторические жанры тяготели преимущественно к героическому эпосу, теперь бытовая тематика повестей украшается мотивами лирической песни, пословицы, прибаутки, сказочных небылиц. В своеобразном ритме некоторых сатир, несомненно, ощущаются следы устно-поэтического ритма. Можно предполагать, что сатира XVII в. сохранила некоторые черты профессионального стиля скоморохов, каким он, например, рисуется на основании песни о гостье Терентьище (сборник Кирши Данилова), с его натуралистичностью изображения, грубоватым юмором и особым ритмом.
Переход к новой тематике определил в этот период и выбор переводных повестей. С 1670-х годов через белорусские и польские переводы доходят до русского читателя народные книги тогдашней Западной Европы. Эти «утешные», «умильные», «любезные» и даже «смехотворные» истории и жарты показывали читателям занимательные приключения и любовные переживания героев; изображение действительности чередовалось в них со сказочностью; нравоучительные пояснения почти отсутствовали. Трогательные любовные сцены этих «историй» интересовали сентиментальностью нового вида, заменившей религиозную чувствительность прежней литературы. Насмешливое отношение к знати и богачам, иллюстрированное забавными новеллами-фацециями, соответствовало сатирическому направлению русской литературы середины XVII в.
Включение в литературную деятельность демократических слоев населения (мелкого купечества, служилых людей, младшего духовенства, грамотного крестьянства) и интерес читателей этого круга к занимательному чтению вызвали особое отношение к традиционному летописному и хронографическому повествовательному материалу. Старые сюжеты, заимствованные из исторических источников, перерабатываются в сказочно-новеллистическом стиле.
- 153 -
Прибегая к свободному вымыслу, совершенно самостоятельно авторы перерабатывают и целые исторические рассказы и отдельные намеки, детали их. Не историческая достоверность, а тем менее поучительность сюжета привлекают к себе внимание. Новые авторы и читатели ищут прежде всего занимательности повествования, создавая новые композиции около исторических имен и событий более или менее отдаленного прошлого.
Поэтика таких псевдоисторических повестей широко пользуется элементами устного предания, сказками, пословицами, песнями. Ритмичность иногда украшает сказ, приближая его к народной речи. В XVIII в. историко-сентиментальный роман продолжит развитие этого жанра.
Не все читатели шли навстречу этой литературе, порывавшей с религиозно-нравоучительными тенденциями. Уже первые произведения этой «обмирщенной» литературы, появившиеся еще во второй четверти XVII в. вызвали осудительные отзывы. Стольник Бегичев в 1640-х годах упрекнул своего собеседника (стольника Стрешнева): «все вы, кроме баснословные повести глаголемые еже о Бове королевиче и мнящихся вами душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и о лисице и о прочих иных таковых же баснословных повестей и смехотворных писм, — божественных книг и богословных догмат никаких не читали» («Послание Ивана Бегичева о видимом образе божием»). Противопоставление «божественных книг» «баснословным» и «смехотворным писмам» сделано в укор последним.
В то время, когда «обмирщение» жизни и литературы вызывало интерес к светской тематике, читатели не порывали еще и с привычным типом нравоучительного чтения. Главными потребителями легендарно-нравоучительной литературы во второй половине XVII в. были консервативные круги, враждебно или, во всяком случае, настороженно относившиеся к «новинам». Но не только старообрядцы продолжали интересоваться легендой и нравоучением, облеченным в повествовательную форму. Неустойчивость политических и социальных устремлений, характерная в это время для всех классов, сказывалась и в литературе: противоречивые литературные вкусы обнаруживала нередко одна и та же среда.
Усиление греческой партии при патриархе Никоне вызвало оживление переводческой деятельности и обогатило русскую книжность рядом переводов с новогреческих изданий XVII в. и компиляций, составленных по богословским и историческим сочинениям времени расцвета византийской литературы. Московский печатный двор, Посольский приказ и Чудов монастырь были теми центрами, где шла переводческая работа. Из этих трех центров — Посольский приказ был местом, где выполнялись официальные заказы, исходившие от царя, другие два находились под контролем церковной власти, и религиозные тенденции формировавшейся здесь литературы сохранялись еще в полной мере.
В последней трети XVII в. острая борьба в области общественно-политической и культурной повлекла за собой более резкое, чем в какой-либо из предыдущих периодов, расслоение авторской и читательской среды. Непримиримые враги отстаивали то с оружием в руках, то в литературных образах свое понимание будущего: и всего государства, и отдельной личности. Лицом к лицу столкнулись читатели, с одной стороны, старообрядческой литературы, которая звала к идеалам «святой Руси» прошлого, с другой — «смехотворных» «московских издевок» и повестей с их жизнеутверждающими настроениями и свободой от средневековых запретов. Если одна сторона отвергала всякое новое учение — равно латинское и греческое, то другая в своей литературе звала к «науке», как к необходимому
- 154 -
спутнику в жизни, помогающему найти в ней верное направление. И эта наука — уже не богословие: наиболее передовые слои русского общества ищут теперь в «книжном учении» реальных знаний о природе и освобождения от авторитарной религиозно-аскетической морали средневековья.
Накануне реформы старая Русь в области идеологии была еще очень сильна, хотя, в отличие от первой половины XVII в., правительство вынуждено было признать необходимость преобразований в области просвещения.
Старообрядческая и примыкавшая к ней легендарно-нравоучительная литература находили не меньший круг читателей, чем «обмирщенная», по-новому стилистически выраженная литература. Впрочем, уход от прошлого и среди читателей этой новой светской литературы не был еще полным. И в быту и в литературе уживались рядом противоречивые направления.
Провозглашая принцип — «делу время и потехе час», убеждая любить охоту как украшение жизни, утверждая ее эстетическую ценность, царь Алексей допускал гонения на «бесовские игры и пляски», запрещал «смехотворение, празднословие и кощунание», разрешал жечь народные музыкальные инструменты.
В первом русском театре назидательные драматизации библейских сюжетов чередовались с веселыми интермедиями, где в центре стоит «шутовская персона». Одновременно с любовно-авантюрными романами и «смехотворными» фацециями переводились аскетические легенды «Великого зерцала». Западник А. Матвеев, в чьем доме, раньше чем в царском дворце, открылся театр, в то же время покровительствовал литературной и публицистической деятельности Николая Спафария, воскрешавшего в своих исторических компиляциях политические идеи XV в.
Страстная пропаганда идеалов прошлого, вместе с критикой нового направления в русской жизни, нашла свое наиболее яркое выражение в старообрядческой литературе, которая именно в 1670—1680-е годы достигла высшего подъема. Участники всех вооруженных выступлений против правительства, старообрядцы в это время развили и деятельную литературную агитацию против «латинствующей» части русского общества. Никогда в дальнейшей истории старообрядчества эта агитация не принимала такого размаха, как в писаниях заключенных в земляную тюрьму руководителей раскола — Аввакума и его друзей. В этих писаниях реакционная тематика своеобразно сочетается с новыми литературными приемами. Посадские и сельские попы, монахи, ушедшие в раскол, и грамотеи из городских и крестьянских старообрядцев адресовали свои писания в первую очередь к крестьянам, составившим основную массу приверженцев старой веры. Реакция аскетизма достигла в этих писаниях высшего развития. Авторы-старообрядцы стремились воскресить общественно-политические и религиозные идеалы XV—XVI вв., звали назад, и все новое, объединяемое ими под общим именем «латинской прелести», отвергали как греховное. Но даже и в этот уголок старой Руси, отгораживавшийся от всяких «новин», проникал дух нового времени. В реакционную по существу тематику старообрядческой литературы врывался иногда страстный протест против социального зла — то в сатирическом портрете кого-либо из «князей церкви», то в нападках на боярскую спесь, то в рассуждении о равенстве всех людей. Новое время создало повышенный интерес к личности, и в литературе появился новый жанр биографии и автобиографии. Внимание к своим поступкам, настроениям, мыслям характерно для жития Аввакума и для лирического рассказа о себе Епифания; в биографию, стремящуюся
- 155 -
воссоздать фигуру непоколебимой сторонницы старой веры, превращается повесть о боярыне Морозовой. Обилие реалистических сцен, живой образный язык, метко схваченные портреты участников событий — все это составляет чисто литературный элемент в писаниях старообрядцев, сыгравший свою роль в общем ходе развития русской литературы. Исключительное внимание к «природному» т. е. живому русскому языку, — здоровая черта в литературе старообрядцев. С помощью этого «природного» языка они в XVII в. перерабатывали старые литературные жанры — жития, послания — и делали их доступными своей неискушенной в книжном красноречии аудитории.
В последней трети XVII в. широкое развитие получает силлабическое стихотворство, в его узаконенной пиитиками форме, сменившей робкие «некунштовные» вирши первой половины XVII в. Виршевую форму придают теперь писатели самому разнообразному содержанию — от педагогических наставлений до лирических выражений чувств и настроений. Изучение пиитики, введенное в программу Московской академии, знакомило с техникой силлабического стихосложения будущих писателей и готовило круг читателей, ценивших эту форму литературного выражения. Упражнения в силлабическом стихосложении повышали, конечно, литературную технику. Но параллельно, хотя и в более ограниченных размерах, шло развитие национальной системы стихотворной речи, блестящий опыт применения которой в книжной литературе этого времени представляет повесть о Горе-Злочастье. Однако до реформы Ломоносова-Тредьяковского силлабический принцип стихосложения был в русской литературе преобладающим.
Значительным событием в культурной жизни Москвы было открытие в 1672 г. придворного театра. В прошлом театральные зрелища приравнивались церковными запретами к тем «позорищам и игрищам», за участие в которых духовные лица лишались сана, а на мирян налагалось церковное наказание (эпитимия). Актер — «шпильман и глумец» одной из статей Кормчей книги, — особым чином принимался обратно в церковь, если он приносил покаяние. Элементы театрализованного «действа» были издавна известны на Руси в некоторых народных обрядах, но за пределы обрядового ритуала (свадьбы, провод масленицы, похорон Кострубоньки и т. д.) они не выходили. Свое особое назначение, далекое от театральных представлений, имели и драматизации некоторых эпизодов библейской истории в церковном обряде (хождение на осляти, пещное действо, омовение ног и т. д.). До XVII в. на Руси знали о подлинных театральных представлениях лишь по рассказам и описаниям путешественников, которые с XV в. знакомились в Западной Европе то с мистериальной драмой, не вызывавшей у них никаких вероисповедных сомнений, так как она исполнялась в церкви (Флорентийская мистерия благовещения в рассказе Авраамия Суздальского — т. II, ч. I, стр. 233), то с светским театром, воспринятым внешне — со стороны сложных и замысловатых сценических приспособлений (посольства Лихачева и Потемкина). В первой половине XVII в., видимо, через скоморохов, в русском быту стал известен переносный кукольный театр (в котором в 1636 г. Олеарий видел представление «Петрушки»).
Попытка организовать театр в Москве исходила из среды «западников». Может быть, потому именно в Москве обратились за образцом театра непосредственно к Западной Европе, а не на Украину, где к середине XVII в. сформировался уже школьный театр, с его серьезным, даже нравоучительным репертуаром, гораздо более подходившим для подозрительных ко всяким «новинам» москвичей. Пересаженный в Москву,
- 156 -
западный театр познакомил русских зрителей с разнообразными пьесами, в которых сплетались традиции различных театральных и литературных направлений, где благочестивые сюжеты чередовались с шутовством, героические эпизоды истории — с трогательными романическими сценами. Несомненно, положительное значение этого первого русского театра заключалось в том, что был преодолен исконный страх перед театральными зрелищами, поддерживавшийся церковными запретами. От этого страха ведь не был свободен и царь, приказавший устроить в своем дворце новую «потеху»; лишь ссылка на византийских императоров, развлекавшихся театральными представлениями, успокоила сомнения Алексея Михайловича. Но репертуар первого московского театра познакомил русского зрителя с пьесами, в художественном отношении далеко не первосортными. Театра Шекспира и Мольера Москва не получила (18 сентября 1668 г. посол Потемкин со своей свитой смотрел в Париже именно пьесу Мольера «Амфитрион» в постановке самого автора и его труппы). В придворном театре разыгрывались примитивные пьесы бродячих европейских трупп, да еще в тяжелом, местами непонятном переводе.
С переводной с западных языков и украинско-белорусской литературой были знакомы, как сообщают источники, люди разных общественных слоев. Воспитанники Московской академии (среди которых были дети и вельмож и мелких подьячих) усваивали литературные навыки через западные по происхождению пиитики и риторики и украинско-белорусскую литературу; приказные подьячие, обученные латинскому и польскому языкам, становились правительственными переводчиками западных книг самого разнообразного содержания — от сочинений по военному делу до трогательных и веселых повестей; мещанские дети учились «комидийному делу» и выступали в качестве первых русских актеров в иноземном репертуаре придворного театра.
Старообрядческие писания и светская литература удовлетворяли, конечно, совершенно различные читательские круги. Но рядом продолжали появляться произведения, не имевшие яркой окраски эпохи, трактовавшие о привычных темах в более или менее традиционных формах. Их читали в это время неустойчивых еще настроений и те, кто не чуждался и новой обмирщенной литературы.
Легендарно-нравоучительные повестушки и сказания, исторические компиляции и повести, созданные в последней трети XVII в., ничем особенно характерным для данного именно времени не отмечены. Их читали наравне со всей литературой прошлого.
Разнообразию литературных направлений в последней трети XVII в. отвечала и пестрота литературного языка. Занятая вероисповедными вопросами церковно-религиозная литература (богословская, житийная, проповедническая, полемическая) культивировала славянизированную речь, допуская в нее лишь небольшое количество украшений в духе нового литературного стиля. Сильна славянская стихия и в виршевой и драматической литературе, следовавшей украинско-белорусским образцам; сюда проникают и элементы, заимствованные из украинского литературного языка, латинизмы и полонизмы. Новые западные лексические и синтаксические особенности ощущаются и в языке переводной повести, когда она идет в русскую литературу через белорусско-польское посредство, и в переводном театральном репертуаре.
Вся остальная литература в той или иной мере демократизует свой язык. Читатель из средних классов общества, представлявший в это время господствовавший тип любителя «книжного почитания», побуждал авторов
- 157 -
приближать к жизни не только тематику, но и язык литературы. Автор — посадский, служилый — прибегал то к живому языку, то к привычным формам деловой, приказной речи, с ее простым синтаксисом, то отражал в литературе фольклорную стихию. Язык литературы, преимущественно повествовательной и сатирической, насыщен образами устной поэзии, сказочные и эпические мотивы входят в самую ткань литературных повестей.
В поисках пути к новому читателю происходит своеобразное переосмысление славянской книжной речи в писаниях старообрядцев. Смело поставленная рядом с бытовым просторечием, она получает новую смысловую и эмоциональную окраску не только в реалистических картинах современной автору жизни, но и в христианских легендах, истолкованных языком повседневной жизни.
Обособление славянизированного языка в определенных литературных жанрах, тенденция к сближению литературного и бытового языка, стремление пополнить словарь запасом новых слов, взятых из украинско-белорусского или западно-европейского литературного обихода, — все эти линии найдут свое дальнейшее развитие в истории литературного языка петровской эпохи.
8
Зодчество и живопись в XVII в., как и литература, представляют в общем, при некоторых местных различиях, единый поток национального искусства. Борьба за реалистичность в изобразительном искусстве проявляется в это время еще резче, чем в литературе: проблема реализма и идеализма в живописи обсуждается и теоретически, причем художник (изуграф Иосиф) выдвигает смелое для той эпохи требование — подражать природе даже в традиционном жанре иконописи. Новые тенденции в искусстве вызывают ожесточенное сопротивление со стороны защитников традиционных норм, и на практике выдвинутый новаторами принцип осуществляется еще слабо. Однако самая постановка такого вопроса показывает, насколько сильны были реалистические интересы у лучших художников второй половины XVII в. Подобно тому как в литературе этого времени бытовые мотивы все чаще проникают даже в церковно-дидактические жанры, и церковная живопись обнаруживает интерес к бытовым и историческим занимательным сюжетам; насыщенности литературы элементами фольклора аналогично проникновение в живопись приемов народного искусства. Так искусство во всех его проявлениях накапливает силы для решительного перелома в XVIII в.
Борьба дворянского государства с последствиями крестьянской войны и городскими восстаниями 1640-х — 1660-х годов неизбежно захватывала в свой водоворот и сферу искусства. В этой связи нужно рассматривать запрет патриархом Никоном шатровых храмов и художественную политику церкви в целом, направленную на борьбу с прогрессивными течениями в живописи и архитектуре. Запрещая шатры, патриарх предписывал обязательное пятиглавие и трехапсидность храма, т. е. стремился повернуть все русское зодчество на тот путь, по которому шло строительство феодальных верхов конца XVI в.
Домовая церковь апостолов, построенная на патриаршем дворе Никоном, является в этом отношении показательной: в ней оживает характерное для крестовокупольного храма домосковского времени членение внутреннего пространства хорами, предназначенными для патриарха и его приближенных;
- 158 -
хоры непосредственно связаны со вторым этажом патриарших палат. В фасадах церкви апостолов был повторен мотив колончатого пояса, ставший после московского Успенского собора традиционным признаком ортодоксальной храмовой архитектуры.
Собор в Воскресенском монастыре на Истре
В другой своей постройке, храме Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, Никон стремился подражать храму Гроба господня в Иерусалиме, для чего была доставлена в Москву его модель. Все эти факты свидетельствуют о стремлении церкви, в лице ее правящих кругов, изолировать церковное зодчество от общего потока русского национального искусства, поставив его перед необходимостью слепого и неподвижного подражания указанным свыше образцам.
Но это не могло задержать развития русского зодчества, и даже постройки самого Никона и его единомышленника, ростовского митрополита Ионы Сысоевича, несли на себе печать живой творческой мысли создавших их мастеров. Иона Сысоевич с наибольшей яркостью и эффектом воплотил художественную программу патриарха в построенном им монументальном комплексе своей резиденции — «Ростовском кремле». Его как бы боевые стены явно подражают царскому кремлю Москвы; надвратные храмы увенчаны пятиглавием и опоясаны аркатурно-колончатым фризом; в домовой церкви Спаса на сенях появляется высоко поднятая и огражденная аркадой солея, по-новому оживляющая старый принцип разобщенности внутреннего пространства феодального храма. Но все эти черты теряются в общем, исключительно живописном ансамбле и декоративном своеобразии каждой постройки в отдельности.
Именно эти две черты — живописность композиции масс здания и его декоративность — являются характерными для архитектуры XVII в. В этом отношении она развивает художественные идеи XVI в., когда
- 159 -
были найдены и те основные формы церковной постройки, в которых эти стороны национального искусства могли найти наиболее свободное выражение.
Ростовский кремль. Церковь Иоанна Богослова
От XVI в. (собор Авраамьева монастыря в Ростове) ведет свое начало очень пригодившаяся в XVII в. в условиях гонения на шатровую архитектуру, композиция, сочетавшая в живописном и асимметричном ансамбле пятиглавый кубический храм с папертями, крыльцами, приделами, колокольней, в которой получает свое место и излюбленный шатер, завершающий теперь второстепенные части здания — колокольню, крыльцо и т. п. Такова, например, церковь Грузинской богоматери в Москве, церковь Ильи пророка «на площади» в Ярославле. Этого рода постройки особенно характерны для купеческого церковного строительства в Ярославле и других поволжских городах.
От маленьких посадских храмов Москвы XVI в. ведет также начало другая, не менее типичная линия церковного зодчества — бесстолпные храмы, в которых внутреннее пространство, перекрытое глухим сводом, несущим снаружи, на четырехскатной кровле или ступенях кокошников, обязательное
- 160 -
пятиглавие, приближается по своему характеру к большой жилой «палате» или «избе».
Эта элементарная конструкция не обязывала к определенной системе членения фасадов, оставляя мастерам и заказчикам полную свободу в отношении к их декорации. На ней-то и сосредоточивается неистощимая изобретательность строителей. Особенно характерна любовь к цветной декорации фасада яркими поливными изразцами, составляющими иногда сплошные полихромные пояса или разбросанные по фасаду по отдельности. Лекальный и фигурный кирпич, цветные и узорчатые изразцы, красочная роспись, резные белокаменные детали — такова декоративная «палитра» зодчего XVII в. Все это делает фасад храма исключительно нарядным, его поверхность насыщена игрой света и тени и цветных пятен. Причудливому богатству фасадов отвечала красочная цветистая роспись внутри. Эта страсть к богатому декоративному убранству фасада побуждала мастеров не считаться с конструктивной основой здания вообще; мастера часто отрывают закомары от лопаток, размещают окна самым неожиданным образом, так что причудливый убор стены и ее членения совершенно не отвечают внутренней организации здания.
Так церковная постройка превращается в нечто совершенно противоположное тому, к чему стремилась церковная художественная политика. Наиболее характерными образцами являются церкви Останкинская и в с. Маркове.
Сам правительственный центр Русского государства — Московский кремль переживает показательную метаморфозу; его суровые, мощные крепостные башни получают шатровые верхи. Особенно декоративен верх Спасских Ворот, выходивших на Красную площадь, надстроенный еще в 1626—1628 гг. английским зодчим Христофором Галовеем, работавшим в это время в Москве. Галовей соединил стройную шатровую вышку на высоком многоярусном столпе с готическими деталями, украсив основание надстройки легкой аркадой, в которой стояли резные из камня статуи. Последняя подробность работы английского зодчего пришлась не по вкусу москвичам, и на этих «болванов» по царскому указу были сделаны «однорядки» из цветного английского сукна. В близких Спасской башне формах был построен верх Троицкой башни (1685). Другие башни Кремля на протяжении XVII в. также получили шатровые верхи, разнообразные по композиции и с исключительным мастерством согласованные с формой и пропорциями нижней части. Так Московский кремль, военное по преимуществу сооружение, приобрел в условиях XVII в. тот живописный и декоративный характер, какой мы видим теперь.
В XVII в. подвергаются переработке и другие памятники предшествующего времени, так, например, собор Василия Блаженного получает ту пеструю красочную роспись фасадов, которая столь прочно связалась с нашими представлениями об этом памятнике.
Обе эти черты — живописность композиции и декоративность — были свойственны и гражданскому каменному и деревянному зодчеству XVII в., с которым мы можем ознакомиться по ряду крупных памятников.
Наиболее пышным комплексом, где русские строители развернули, кажется, все богатство своего декоративного таланта, является деревянный царский дворец в подмосковном селе Коломенском, строившийся в течение XVII в. при первых Романовых. В основе его замысла лежит обычная, идущая от глубокой древности схема большого боярского дома с его повалушей, всходами, сенями и «избой», какой изображен, например, у Мейерберга. Здесь эта схема достигает исключительной сложности в связи с
- 161 -
Церковь в селе Останкине
- 162 -
многообразными бытовыми нуждами дворцового обихода; отдельные части дворца пристраиваются постепенно, по мере необходимости, складываясь, в целом, в неповторимый по своей живописности и декоративности ансамбль. Строители как бы сознательно нарушают горизонтальные линии, способные сообщить некоторое единство фасаду, которого, по существу, дворец не имеет; в покрытиях отдельных частей доминирует шатер различных форм и пропорций, сочетающийся с причудливыми «бочками» и обычными четырехскатными кровлями.
Теми же чертами, при некоторой сдержанности, характеризуется каменный большой кремлевский дворец, также представлявший сложный комплекс отдельных зданий, расположенных на огромной каменной сводчатой террасе старого дворца XV—XVI вв., по сторонам большого внутреннего («переднего») двора. Главный корпус царицыных постельных и мастерских палат был четырехэтажным, причем нижний этаж был шире верхних, образуя балкон; террасой завершался и третий этаж с «золотым теремом» на нем. По сторонам здания находились связанные с ним дворцовые храмы. В композицию дворца были введены и дворцовые сады.
Черты стиля гражданского зодчества, с особой силой выраженные в Коломенском дворце, роднят его с теми художественными идеями, которые развивались строителями многочисленных каменных храмов, свидетельствуя о постепенном стирании границы между церковным и гражданским зодчеством и все большем смешении культового строительства с общим потоком развития национального искусства, от которого стремился его изолировать Никон. Как и в XVI в., прогрессивное движение русского зодчества в XVII в. было связано с влиянием приемов и форм народного деревянного зодчества, — этот процесс как бы отвечал аналогичному явлению в литературе XVII в,. испытывающей сильнейшее влияние фольклора.
Хотя русскому зодчеству, и церковному и гражданскому, была свойственна пышная и эффектная внешность здания, гражданское зодчество Пскова продолжало сохранять своеобразный облик. Так, один из крупных городских жилых домов, «палаты» псковских купцов Поганкиных, совершенно лишен какой-либо декоративной отделки. Дом огибает внутренний двор в виде буквы П; нижний, полуподвальный этаж, предназначавшийся для склада товаров, окнами обращен во двор; на улицу выходят только окна второго и третьего этажей. Второй этаж, с анфиладным расположением двухсветных комнат, служил, повидимому, для приемов, в верхнем — помещалась собственно жилая часть. Суровые фасады палат производят впечатление крепостного сооружения. В других жилых домах Пскова встречаются в ограниченном количестве декоративные наличники, но эти детали не меняют их общего строгого характера. Разрабатывая и видоизменяя завещанные XVI в. идеалы живописности и декоративности, зодчество XVII в. по своим художественным принципам сближалось с архитектурой европейского барокко. В постройках русских мастеров появляются детали, свидетельствующие об их интересе к западно-европейской архитектуре.
Насколько органично было претворение русским зодчеством новых художественных впечатлений, показывает здание Земского приказа в Москве, в котором, при чертах сходства с корпусом теремного дворца, резко выступает барочное переосмысление привычного образа — фасады связываются колоннами, место «золотого терема» занимает «ратушная башня». Московская Сухарева башня также обнаруживает некоторое общее сходство с ратушей.
Также и памятники конца XVII в.: верх «Уточкиной башни» Троице-Сергиевой лавры, колокольни Новодевичьего монастыря в Москве и церкви Иоанна Предтечи в Ярославле обнаруживают сходство с формами голландских
- 163 -
ратушных башен. Вместе с этим в конце века в репертуаре форм русских зодчих развиваются полуколонны фасадов, в завершении фасада применяется треугольный или волнистый фронтон, в обрамлении окон и порталов часто пользуются разорванным фронтоном. Эти новые детали перерабатываются на свой русский лад, прочно сливаясь с богатством русского архитектурного «узорочья». Все это свидетельствует о творческом и критическом интересе русских мастеров к искусству зарубежных стран.
С ним знакомило москвичей и зодчество украинского барокко, но его значение было второстепенным и кратковременным, сменившись к концу века обратным воздействием московской архитектуры. Развертывающееся в конце XVII в. большое строительство на Украине создает ряд первоклассных, преимущественно церковных памятников: оно пользуется, в частности, силами московских зодчих. Военно-Никольский собор в Киеве (1694), построенный талантливым московским мастером Осипом Старцевым по заказу Мазепы, является одной из лучших построек этого времени.
Европейские новшества были особенно популярны в кругах феодальной знати (среди «западников», какими были Голицын, Нарышкины); поэтому постройки этого направления объединялись историками под формулой «нарышкинского стиля». Для памятников этого круга характерны симметричность и равновесие в композиции масс здания и особое отношение к декоративному убранству, которое приобретает графический орнаментальный характер, резко отличный от сочной скульптурной декоровки храмов предшествующего времени, сообщавшей фасаду подчеркнутую материальность. В постройках «нарышкинского стиля», зодчие стремятся к обратному: они прорезают плоскость стены широкими оконными проемами, акцентируя ее легкость и второстепенное значение.
Модель дворца в селе Коломенском
- 164 -
Церковь Покрова в Филях
Церковь Покрова в Филях, построенная Л. В. Нарышкиным (ок. 1693 г.), является наиболее ярким памятником этого направления. Здание как бы вырастает из окружающего пейзажа, связываясь с ним живописно раскинутыми маршами лестниц, вводящих на террасу, с которой поднимаются легкие массы храма. Его нижняя часть представляет в плане крест с полукруглыми ветвями, далее идут уменьшающиеся в объеме восьмерки, создающие в целом почти тот же эффект вертикального движения, которым пленял воображение зодчих шатровый храм. Впечатление легкости здания увеличивается кружевной декорацией венчающих его частей и большими окнами, сокращающими поверхность стены. Внутри храма характерна царская ложа, в виде особого балкона: — запоздалый отзвук феодальных хор древности.
Новый стиль нашел также отклик в строительстве крупнейших купцов, именитых московских гостей. Таковы — произведение русского мастера Петра Потапова — церковь Успения на Покровке в Москве, построенная в 1696—1699 гг. гостем Серяковым, церковь «Никола Большой крест», построенная гостями Филатьевыми (конец XVII в.), постройки купцов Строгановых в Сольвычегодске и Нижнем-Новгороде. В отличие от построек феодальной знати, купеческие храмы, а в особенности строгановские постройки, характеризуются любовью к пышной декоративной обработке фасада обильной тяжеловатой резьбой и сочными пятнами оконных наличников.
Русские зодчие умело и своеобразно пользовались богатством новых форм барокко, тонко примиряя их с еще устойчивыми старыми принципами
- 165 -
Церковь в Дубровицах
- 166 -
храмовой архитектуры. Характерно, что и здесь мастера интересует в первую очередь декоративное богатство постройки в целом и ее деталей. Это ярко отражено в порядных записях строителей.
Детерсон. Портрет («парсуна»)
патриарха НиконаЕсли рассмотренные памятники русского барокко еще связаны с предществующими традициями древнерусского зодчества, то Дубровицкая церковь, выстроенная (1690—1704) воспитателем Петра I Б. А. Голицыным (вероятно, по проекту архитектора Тессина), почти демонстративно порывает с ними. Имея некоторые общие черты с церковью Покрова в Филях, Дубровицкий храм идет гораздо дальше. Барочный характер масс здания, исключительное обилие статуарной и декоративной скульптуры, вытесняющей даже настенную живопись, замена главы храма ажурной короной — все это в корне противоречило старым художественным идеям. Эту дерзкую по своей новизне постройку справедливо сопоставляли с петровскими затеями вроде «всешутейшего собора». Дубровицкая церковь как бы символизировала конец старозаветной Москвы.
- 167 -
Вухтерс. Портрет патриарха Никона и его помощников по
постройке Воскресенского Новоиерусалимского монастыря*
Первые проблески реализма в живописи были поддержаны начинавшимся культурным переломом в жизни Русского государства. У кормила государственной власти оказываются люди типа А. Л. Ордын-Нащокина или Б. М. Хитрово, всемерно содействующие распространению светского просвещения и культуры.
С именем Хитрово связано превращение старой царской Оружейной палаты в своего рода «Академию художеств XVII века», где рядом со специалистами по многообразным отраслям прикладного искусства работают и русские иконописцы. Здесь ростки реализма крепнут; Хитрово стремится ничем не стеснять творческих стремлений художников, знакомящихся с новым для них искусством приезжих мастеров. С 1643 г. в Оружейной палате работал «живописных дел мастер» голландец Ганс Детерсон, обучивший за 12 лет трех учеников-русских. Здесь же работали
- 168 -
и одновременно учили смоленский шляхтич Станислав Лопуцкий (с 1656 г.), «греченин города Афины» Апостол Юрьев (с 1659 г.) и «иноземец цысарския земли» Даниэль Вухтерс (с 1667 г.) и др. Многочисленные «парсуны» (портреты) кисти этих мастеров свидетельствуют о посредственных талантах большинства из них; наиболее сильным был Д. Вухтерс, написавший групповой портрет патриарха Никона. Однако самый факт приглашения иностранцев и щедрая оплата их труда говорят о пробудившемся интересе к европейской живописи и, в первую очередь, к наиболее реалистичному из жанров — портрету. Сильнее всего в этом плане ощущался интерес к искусству Голландии, тесные связи которой с Россией подготовили затем ее роль в период реформаторской деятельности Петра I. Голландская реалистическая живопись этого времени была ведущим искусством Европы.
В XVII в. голландцы — сознательные и последовательные защитники реалистических принципов, доведшие до высшего совершенства искусство портрета, жанра, пейзажа и натюрморта. Это была эпоха Франса Гальса, Гонтгорста, Ластмана, Рембрандта.
С Оружейной палатой была связана и деятельность знаменитого русского художника Симона Ушакова; к 1664 г. он уже был «жалованным иконописцем» и пользовался большим доверием и почетом. Он родился в 1626 г. Его художественная индивидуальность складывалась тогда, когда реалистические поползновения русской живописи были слабы, а официальная эстетика продолжала поддерживать архаизирующие тенденции в живописи. Талант Ушакова созрел, когда проблема реализма и идеализма, «плотского» и «горнего» стала предметом ожесточенной борьбы почти политического характера. В протесте против реализма в иконописи слились голоса и Никона и ревнителя старины Аввакума. Воспитанный в двойственной среде Оружейной палаты, успешно делавший свою придворную карьеру, «государев иконописец и дворянин московский, грешный Пимин по прозванию Симон Ушаков» не мог стать смелым новатором в искусстве и самоотверженным борцом за новые идеи, способным на сопротивление реакционным течениям. Поэтому его произведения противоречивы и нерешительны, новое в них сплетается со старым. Не случайно сам же Ушаков позднее был уполномочен правительством контролировать иконописное искусство и бороться с новшествами.
Имевший помощников и учеников, Ушаков обычно писал только лики, предоставляя своим сотоварищам «доличное». Это разделение труда особенно затемняет его творческий облик. Человеческое лицо привлекало главное внимание художника, поэтому его любимым сюжетом стал лик Христа — «Нерукотворный Спас», «Великий архиерей», «Вседержитель». В трактовку этой узкой церковной темы Ушаков вложил всю меру своих реалистических наклонностей. Мягкая плавящаяся лепка лица, со спокойным переходом света и тени, была резко противоположна отвлеченному лику Христа, который закрепила вековая традиция. В раннем произведении Ушакова «Великий архиерей» лик Христа имеет усталое, вялое выражение; образ божества приобретает человеческий характер, становится «плотским». Но этим и ограничивалось продвижение вперед. Ушаков спокойно допускал сочетание реалистических ликов с условностью плоскостной трактовки и композиции целого; таков «Вседержитель», к ногам которого припадают миниатюрные молящиеся. В большой иконе «Древо Московского государства» элементы реализма почти отсутствуют, выражаясь лишь в конкретности архитектурного ландшафта и относительной портретности царя Алексея.
- 169 -
Симон Ушаков. Икона «Великий архиерей»
Двойственный в своей художественной практике, Ушаков был более последователен в своих теоретических взглядах на искусство. Они отражены в его сочинении «Слово к люботщателям иконного писания», написанном в ответ на письмо Ушакову его сотоварища «изуграфа» Иосифа Владимирова.
Дом Симона Ушакова в Китай-городе, где находилась и его мастерская, был средоточием художественной жизни Москвы. Здесь собирались его друзья и ученики, здесь решались теоретические вопросы искусства. Из разговоров в доме Симона Ушакова об искусстве, в которых принимал участие и защитник старого традиционного иконописания сербский поп Иоанн Плешкович, родилось около 1664 г. энергичное и горячее «Послание изуграфа Иосифа» о живописи. В этом послании, противопоставляя иконопись
- 170 -
живописи, Иосиф Владимиров приводит ряд аргументов в защиту реалистических тенденций в живописи. При этом Иосиф Владимиров использует постановления Стоглавого собора об иконописании, направляя их против неискусных и невежественных иконописцев, отождествляя с ними всех представителей старой иконописной школы и расценивая типические черты иконописи XVII в. — темноту красок, подчеркнуто аскетические тела святых — как проявления упадка и грубости.
Послание изуграфа Иосифа делится на две части: 1) «О премудрой мастроте живописующих, сиречь о изящном мастерстве иконописующих и целомудренном познании истинных персон и о дерзостном лжеписании неистовых образов» и 2) «Вспак на уничижающая святых икон живописание, или возраз к некоему хульнику Иоаннови вредоумному». Нигде в других странах, — говорит Иосиф, — не видно такого бесчинства, как ныне у нас. «Премудрое иконное художество» терпит уничижение от ремесленников и невежественных иконописцев. По деревням прасолы и щепетинники иконы крошнями таскают. Писаны эти иконы «ругательно». Изображенные на них святые походят на диких людей. Крестьяне Шуи, Холуя и Палеха оптом продают их по деревням, меняют на яйцо, луковицу, как детские дудки. Негодуя на грубописателей, Иосиф советует им заниматься вместо иконописи гончарством.
Иосиф протестует против темных и «очаделых» ликов святых, указывая, что темноту и очадение бог возложил только на дьявола. «Где таково указание изобрели несмысленные любопрители, которые одною формою, смугло и темновидно, святых лица писать повелевают? Весь ли род человеческий во едино обличье создан? Все ли святые смуглы и тощи были? Какой же бес позавидовал истине и такой ков на светообразные персоны [портреты] святых воздвиг? Не сих ли ради вин зазирают нам языцы [народы], не иконы святообразныя хулят, ниже образом святых ругаются, но смеются плохописанию и неразсмотрению истины».
Иосиф Владимиров приводит веский аргумент против обычного в XVII в. различения живописи и иконописи: если портреты царей пишутся похоже, то и изображения небесного царя надо писать тем же образом. Иосиф призывает перенести в иконопись приемы портретного искусства. «Какая бо честь была земному царю если бы кто от неискусства или невежества образ его неистовым лицом написал, и на честь принес бы в царские чертоги? Не приял ли бы таковой, вместо мзды, мучение многое, за то, что не подоболепно царский образ написует? Небесного же царя образ, нимало рассмотрев, приемлем!». Иосиф требует от живописцев изображения «существа вида» и называет юродством защиту традиционных приемов иконописи. О композиции «Благовещение» Иосиф пишет, что «архангелово лицо» должно изображаться «световидно и прекрасно, юношеское, а не зловидно и темнообразно». О деве Марии Иосиф говорит, что у ней должно быть изображено «лицо девичье, уста девичьи и прочее строение девичье». В композиции «Рождества» лицо младенца должно быть «бело и румяно», а в композиции «Распятие» «пишется образ Христов мертв, с сомкнутыми очами и увядшими чувствами».
Говоря о Сусанне и ее красоте, на которую «разожглись» старцы, Иосиф пишет: «Прекрасна была она видением, и многия таковыя древле обретались. А вот в наши времена, в последнем роде, ты, Плешкович, завещаешь изографам писать образы мрачные и неподоболепные, и противно древнему писанию учишь нас лгать!».
Этими и подобными аргументами Иосиф защищает «подоболепное», «живоподобное» и «благообразное» живописание и ставит в основу живописи
- 171 -
«натуру» — подражание природе. Премудрый художник, — заявляет Иосиф, — «начертывает в образах или лицах» то, что он видит или слышит «и согласно слуху и видению уподобляет».
В этом превознесении красоты живого человеческого тела (Сусанны, Марии, младенца Христа и т. д.), в протесте против «очаделых» ликов иконописи, в требовании писать «согласно слуху и видению», т. е. доверяя органам чувств, в самом противопоставлении портретной живописи иконописи — сказалась настоящая защита новых реалистических позиций в искусстве. Благодаря этим требованиям значение «Послания» Иосифа Владимирова выходило за пределы одной живописи. Изложенная в этом своеобразном «манифесте» артистическая теория имела общее значение для всех искусств.
Послание изуграфа Иосифа Владимирова вызвало ответное произведение Симона Ушакова: «Слово к люботщателем иконного писания», начатое им с такого же, как у Владимирова, указания на важность этого искусства: иконописание ведет свое происхождение от самого бога.
Так же как и Иосиф Владимиров, Ушаков говорит о том «небрежении», с которым многие творят «художества». Ушаков пытается дать классификацию искусств и говорит о той пользе, которую приносит живопись: «образы суть живот памяти, память поживших времен свидетельство, вещание добродетели, изъявление крепости, мертвых возживление, хвалы и славы бессмертие, живых к подражанию возживление, действ воспоминание».
Исключительный интерес имеет указание Симона Ушакова на свойство зеркала отражать предметы: в зеркале, в воде, на мраморе и иных предметах, «добре углаженных», отражаются образы вещей, — не бог ли сам учит этим «художеству иконописания»? — спрашивает Ушаков. Всякая вещь «предивную» имеет силу отражаться в зеркале: «в ней свой образ написует». В этом указании на свойство отражения как на идеал искусства, с совершенной точностью был сформулирован принцип реалистических тенденций живописи XVII в.
Однако эта прямолинейная защита точного вопроизведения «живства», т. е. натуры, оставалась на бумаге. Ни Иосиф Владимиров, ни даже Симон Ушаков не дали в полной мере практических образцов применения собственных принципов, оставаясь в значительной мере на позициях компромисса.
«Слово» Симона Ушакова получило большое распространение. Некоторые списки его дошли со значительными добавлениями Кариона Истомина — одного из наиболее культурных русских людей конца XVII в.
Симон Ушаков не был исключением в русской живописи XVII в. Сходный характер носило творчество и двух других крупных художников второй половины XVII в. — Ивана Безмина и Богдана Салтанова. В последнем может быть даже сильнее чем в ком бы то ни было другом сказались новые веяния. Именно к нему ближе, чем к Ушакову, подходит недоброжелательная, но в общем меткая характеристика новой живописи, данная Аввакумом: «пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонныя, власы кудрявыя, руки и мышцы толстыя, персты надутыя, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли-той при бедре не написано...». «Посмотри-тко на рожу ту и на брюхо-то, никонианин окаянный, — писал Аввакум, — толст ведь ты! Как в дверь небесную вместитися хощешь! Узка бо есть, и тесен и прискорбен путь, вводяй в живот. Нужно бо есть царство небесное, и нужницы восхищают е, а не толстобрюхие. Воззри на святыя иконы и виждь угодившия богу,
- 172 -
како добрые изуграфы подобие их описуют: лице и руце, и нозе и вся чувства тончава и измождена от поста и труда, и всякия находящия им скорби. А вы ныне подобие их переменили, пишите таковых же, яко вы сами: толстобрюхих, толсторожих, и ноги и руки яко стулцы у кажнова святаго».
Новые течения в русской живописи встретили протест и руководящих сфер русской церкви. Сам Никон, которого Аввакум за его якобы новшества в иконописании называл «кобель борзой Никон», публично уничтожал иконы нового письма. Еще в 1654 г. в неделю православия Никон читал беседу об иконах, затем взял новые иконы, поднимал их и бросал на железные плиты пола. Расколотые иконы Никон приказывал сжечь. Стоявший тут же царь «с открытою головою, с видом кротким», тихим голосом просил патриарха: «нет, отче, не сжигай их, но пусть их зароют в землю». Стрельцы и люди Никона носили по городу отобранные у владельцев «латинствующие» иконы, грозя наказанием тем, кто будет писать по их образцу. Привыкшие к новому письму москвичи называли Никона «иконоборцем», а осенью того же года чуть не подняли бунт. Моровая язва в августе 1654 г. была понята населением, как божья кара за надругательство Никона над иконами нового письма. «Когда я ходил с государем царевичем и великим князем Алексеем Алексеевичем в Калязин монастырь, — писал Никон, — и в ту пору на Москве многия люди к лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, что многие де иконы я имал и драл, и за то де хотели меня убить, и я имал иконы латинские, которым нельзя поклонятися, а вывез тот перевод немчин из немецкой земли».
Чрезвычайно характерно, что протест против разрушения устоев древнерусского церковного искусства, в котором сошлись непримиримые идейные и политические враги — Аввакум и Никон, глубоко противоречил их собственным внутренним устремлениям. Яростно хуля реализм в живописи, Аввакум в своем «Житии» дал непревзойденный для XVII в. образец реалистического стиля и ввел в литературу простой и красочный образный и меткий народный язык. Никон, сжигая иконы, проникнутые духом западного искусства, и стремясь возродить невозвратно ослабевший эстетический авторитет греческой церкви, сам был заказчиком своих импозантных «парсун», писанных приезжими голландцами. Царские портретные изображения вводились в состав храмовых росписей (московский Новоспасский и Ипатьевский монастыри). Царь Алексей Михайлович постоянно заказывал свои портреты лучшим русским и иностранным живописцам, в частности С. Ушакову, И. Безмину, Б. Салтанову. Портреты висели в приемных покоях царя и московских бояр, в постельных палатах, даже в московских приказах. В этих глубоких противоречиях эстетических взглядов различных кругов образованного общества находили выражение социальные противоречия, вызывавшие колебания и двойственность в решении выдвигавшихся жизнью вопросов.
Тревогу руководителей церкви и государства в не меньшей мере вызывал процесс приобщения к делу «иконотворения» широких слоев живописцев-ремесленников; с ними в церковное искусство вторгались отступления от канонических норм содержания и формы, элементы народных взглядов на вопросы религии. Это был процесс в известной мере аналогичный тому, который переживала церковная архитектура XVII в., испытывавшая сильнейшее воздействие свободного от догматических оков гражданского зодчества.
- 173 -
С 60-х годов XVII в. иконописание становится постоянным предметом государственной заботы. Крайнее возбуждение, которое царило в Москве во второй половине XVII в. вокруг вопросов иконописи и живописи, побудило правительство занять в этом вопросе примирительную позицию и пытаться рядом указов прекратить споры, грозившие государственному спокойствию. В этих указах, обходивших принципиальные разногласия представителей старых и новых взглядов, больше всего доставалось произведениям провинциальных и второстепенных художников: иконописцам сел Холуя, Палеха, Мстеры и новым западным гравюрам.
В этой связи нужно рассматривать появление лицевых иконописных подлинников, изобразительных пособий по иконописи. Так называемый Антоньево-Сийский подлинник содержал до 500 листов рисунков композиций, учебных эскизов голов, фигур, деталей; основные «переводы» стремились к архаике. Второй Сийский подлинник дополнял изобразительное руководство рядом сведений о технике и приемах письма и т. п.
Государственных постановлений оказалось недостаточно. В 1667 г. вопросы иконописи были поставлены на церковном соборе. В 1668 г. по поручению царя Алексея Михайловича патриархи Паисий Александрийский, Макарий Антиохийский и Иоасаф Московский составили грамоту об иконописании. Вслед за этой грамотой был издан указ, запретивший иконы плохого письма, в частности писанные во владимирском селе Холуй. Указ устанавливал правительственный контроль над иконописью: выборные по городам иконописцы обязаны были свидетельствовать иконы; во главе этого контроля был поставлен Симон Ушаков.
Реалистические интересы передовых художников XVII в. поддерживала западноевропейская гравюра, проникавшая на Русь через Польшу, Белоруссию и Украину, а иногда и непосредственно из Германии и Голландии. Потешные иноземные листы продавались в московском Овощном ряду, на базарах, их разносили бродячие торговцы. Врач Алексея Михайловича англичанин Коллинс видел в Москве голландские карикатуры. В домовой казне самого патриарха Никона находилось до 270 фряжских листов.
Гравюры знакомили с достижениями западноевропейской живописи именно в тех областях, которые были меньше всего обычны для русских живописцев. Они привлекали своей необычной реалистичностью и новизной сюжетов. Иногда через гравюры в произведения русских художников проникали детали, заимствованные из произведений величайших мастеров европейской живописи. Так, например, некоторые архитектурные детали в иконе Симона Ушакова «Троица» перешли через гравюру из картины П. Веронеза «Пир у Симона фарисея». Это обусловило популярность в среде русских живописцев знаменитой Библии Пискатора.
Первое издание Библии Пискатора вышло в Амстердаме в 1650 г., второе — в 1674 г. Издатель и продавец художественных произведений Иоганн Фишер (по латыни — Piscator) составлял этот громадный (277 листов) альбом в течение нескольких десятилетий (некоторые гравюры начали выходить отдельно еще с 1614 г.); он привлекал для гравирования многих голландских граверов, частично воспроизводя картины голландских и фламандских мастеров второй половины XVI — первой четверти XVII в. Несмотря на многочисленность привлеченных художников и граверов, Библия Пискатора представляет собою некоторое художественное единство. Художественную манеру Библии Пискатора отличает сильное влияние мастеров
- 174 -
итальянского Ренессанса. Здесь соединились традиции нидерландского и итальянского искусства, пережитки позднеготической живописи (особенно в пейзаже) и элементы барокко (в человеческих фигурах). Гравюры Библии Пискатора выполнены с замечательною старательностью, с мелочной разделкой деталей. Композиции легко обозримы, пространство четко членимо, перспектива проста. Человеческие фигуры в пышных складках одежд даны в сильном, несколько театральном движении. Мимика выразительна. Не всегда правильная анатомия полуобнаженных тел резко подчеркнута, мускулатура преувеличена. Некоторая упрощенность, мелочная и назойливая тщательность в разделке отдельных предметов, обилие деталей, пластичность фигур, четкое выделение формы и подчеркнутая перспектива гравюр Пискатора делали более понятными черты западноевропейского искусства. Посредственная как произведение искусства Библия Пискатора была тем не менее удачным учебным пособием по рисованию. Она отвечала и интересу XVII в. к повествовательности и иллюстративности живописи, к темам Ветхого и Нового завета и Апокалипсиса (вспомним аналогичный интерес к Ветхому завету у Симеона Полоцкого и тягу к повествовательности в литературе XVII в.). Экземпляры Библии Пискатора имелись у жалованных иконописцев и живописцев Оружейной палаты: у И. Безмина, Б. Салтанова и С. Ушакова. По экземпляру Библии Пискатора, принадлежавшему патриарху Адриану, расписывались стены Троице-Сергиевой Лавры. Библия Пискатора была широко распространена среди русских художников и отразилась на ряде их станковых и монументальных произведений. Ответом на это широкое движение был запрет патриархом Иоакимом (1674) продажи печатных на бумаге немецких изображений святых. Немцы, — указывал Иоаким, — «в посмех христианам печатают их на бумаге неистово и неправо, на подобие лиц своей страны, в одеждах своестрастных немецких».
Нет никакого сомнения, что наряду с западноевропейской гравюрой, продававшейся иноземцами в Москве и вызвавшей патриаршее запрещение, существовали попытки собственными средствами печатать иконы и потешные листы. Гравюра, бывшая на Руси во второй половине XVI в. и в начале XVII в. исключительно деревянной, с половины XVII в. становится более разнообразной по технике исполнения. Русский художник Благушин делает в Голландии по царскому заказу гравюры на меди к книге «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», которая выходит затем в Москве в 1647 г. Гравюра облегчала работавшим в этой области художникам освобождение от условного языка иконописи. Сохранилось довольно много гравюр, исполненных А. Трухменским и В. Андреевым, композицию для которых составлял Ушаков. Однако наибольшее значение имеют те немногочисленные гравюры, исполнение которых от начала и до конца принадлежало Симону Ушакову. К ним относится, например, замечательная гравюра «Зде являем делательно седм смертные грехи».
Исследователь творчества Ушакова Г. Филимонов так характеризует эту гравюру:
«Гравюра эта на большом отдельном листе изображает человека, идущего на четвереньках под тяжестью оседлавшего его дьявола, по сторонам которого, во вьюках, сидят еще олицетворенные в виде животных смертные грехи. Группа направляется почти прямолично, и потому художник
- 175 -
должен был преодолеть немало трудностей в представлении раккурсов. Характер лиц схвачен очень удачно, животные вырисованы отчетливо, бойкость рисунка изумительная. В двух главных фигурах выражено сильное движение».
Симон Ушаков. Гравюра к житию Варлаама и Иоасафа
Знание анатомии в этой гравюре поразительно для XVII в. Симон Ушаков придавал этому знанию принципиальное значение: в конце своего теоретического трактата «Слово к люботщателем иконного писания» Ушаков упоминает «Азбуку искусств», которую он режет на меди. В ней он обещает дать рисунки человеческого тела, необходимые, по его мнению, для живописцев.
- 176 -
*
Как видим, живопись в XVII в. шла более трудным путем, чем архитектура. Ее прогрессивные новшества встретили отпор и сверху и снизу. Национальные идеи Аввакума перерастали в проповедь националистической ограниченности и огульного отрицания всего чужеземного; Никон стремился возродить былой престиж византийского искусства. Ни возврат к искусству домосковской Руси, ни грекофильская политика Никона не удались. Живопись, позднее чем архитектура, пробивается сквозь препоны к своему национальному пути, который вел к освобождению искусства от оков церковной схоластики. По этому пути уже шла русская литература, охваченная интересом к судьбе обыкновенного человека, касавшаяся сатирическим жалом темных сторон русской жизни. Любопытно, что литература отразила и тему разрыва с традициями отцов, характерную и для идейной жизни русского искусства.
Последний расцвет древнерусской живописи был связан с проникновением в церковную тематику злободневных вопросов народной жизни, с ее расширением в сторону литературных интересов и художественных вкусов более широких слоев общества. Как и архитектура, живопись, отходя от старых художественных норм, живших в конце XVI и начале XVII в., идет по пути декоративности; к реалистическим стремлениям середины века присоединяется интерес к бытовому или историческому занимательному сюжету.
Так же как и в литературе, где развитие повествовательности было связано с разрушением житийного жанра и превращением сказания в бытовую повесть, бытовой жанр в живописи связан с повествовательными элементами житийной, приточной и проповеднической литературы.
Исключительно благодарный материал для бытовой живописи представляли нравоучительные повести синодиков. Здесь можно было встретить изображения умирающего богача, составляющего предсмертное завещание, пирушки, тюрьмы, терема, декольтированных девиц и девиц в русских нарядах, нищих, просящих хлеба, погребальные процессии с плакальщиками, переезды через реку, сцены в бане, в кузнице, работы в саду и в поварне и т. д.
Интересны две миниатюры к «Повести Григория Двоеслова о попе, моющемся в бане», помещенной в Синодике XVII в. (Библиотека Ленина, № 153). На одной из этих миниатюр изображен сидящий в предбаннике поп с длинными волосами в малиновой рубашке и зеленых сапогах. Молодой банщик стягивает с попа сапоги. Сзади желтого здания бани виден колодезь с ведром, висящим на «журавле». На другой миниатюре представлена внутренность бани. На лавке сидит раздетая женщина с распущенными волосами, с веником и шайкою. Выше, на второй полке, сидит, свесив ноги, поп также с веником и шайкою. Еще выше, на самом верху на полке юноша усердно хлещется веником.
В связи с очерченными выше условиями, значительно меняется характер храмовой росписи: она усложняется, обогащается новыми сюжетами, старые церковные темы приобретают повествовательную или сложную символическую трактовку. Повествование становится главной задачей, основная тема обрастает бытовыми подробностями и чертами, привнесенными из реальной жизни; детали часто затемняют смысл изображения, включенного в многоярусный ансамбль развертывающихся по стенам красочных живописных «поясов».
- 177 -
Западная арка церкви Ильи пророка в Ярославле
Лучшими памятниками фресковой живописи этого течения являются росписи ярославских купеческих храмов Ильи пророка и Иоанна Предтечи в Толчкове. Ильинскую церковь по заказу строителей, гостей Вонифатия с женой и Иоанникия Скрипиных, расписывала в 1680 г. большая артель мастеров во главе с лучшими «изографами» этого времени костромичами Гурием Никитиным и Силой Савиным. Они показали себя не только первоклассными художниками-декораторами, но и людьми большой культуры, развернувшими здесь, в новых сложных символических композициях, всю свою литературно-богословскую эрудицию. Роспись покрывает стены паперти и храма, ее яркая красочность и орнаментальность придают ей характер пышного нарядного ковра. Большой интерес представляет
- 178 -
роспись папертей, получающих в ярославских храмах особое значение. Они богато освещены и снабжены нарядными скамьями как бы для того, чтобы приходящие сюда могли рассматривать развернутые перед ними картины: коронования богоматери, Страшного суда, Апокалипсиса, цикл «Песнь песней», «апофеоз меча» — композиция на слова «не приидох воврещи мир, но меч» и т. д. Внутри храма в алтаре размещались сложно разработанные литургические композиции, роспись стен была посвящена евангельским событиям, притчам, деяниям апостолов, житийному циклу пророка Ильи. Как бы в параллель повести о Савве Грудцыне, живописцы рассказывают об иноке Феофиле, продавшем после служебной неудачи душу дьяволу, и о его спасении богородицей. Живописцы не боятся изображения обнаженного женского тела, рисуют Сусанну, застигнутую старцами, нагих блудниц и грешниц верхом на змее или в огромной колеснице. В эту пеструю повествовательную ткань вплетаются бытовые мотивы и подробности, не лишенные сатирических намеков; свита бесовского князя одета в богатые боярские кафтаны, иудейские воины ходят в штанах из русской набойки, в «притче о званных и избранных» на царском столе стоят штоф вина и витые калачи, израильтянки в сцене «исхода из Египта» несут деревенские берестовые кошелки, Каин трудится на пашне, погоняя кнутом впряженного в соху белого конька; в житийном цикле замечательна сцена жатвы ржаного поля и т. д. Мир религиозных образов и идей насыщается бытовыми чертами русской жизни, люди движутся непринужденно; но все эти черты развиваются вне пространства, живопись остается плоскостной и условной, живое движение не ведет к драматическому взаимодействию действующих лиц, в самом плоскостном и контурном способе изображения в полной силе звучат старые иконописные традиции. Они определяют и характерное переосмысление реалистических оригиналов Библии Пискатора, использованных мастерами: в плоскостных по преимуществу композициях исчезает пространство и перспектива, живой драматизм действия.
Роспись Толчковской церкви (1694—1695) характеризуется еще большей нарядностью и многообразием тематики: Библия, Лимонарь, «Великое Зерцало» и другие повествовательные древнерусские книги с их иллюстрациями служили литературным и живописным пособием при создании этого огромного ансамбля. Его литературная сложность вызвала обильные пояснения в виде надписей, цитат из виршей и церковных произведений.
В Толчковской церкви стены и своды превращены в своего рода «библию для неграмотных», излагавшую языком кисти евангелие, апокалипсис, поучительные события из жизни святых и т. д. Художники, умные и не лишенные юмора городские ремесленники, любящие жизнь, находили в Библии и литературе не только «священные», но и фривольные сюжеты для занимательных изображений в преддверии храма: историю Давида и Вирсавии и убийства Урии, нагую грешницу, «жившую в блуде со сродником своим» и т. п. Видения Апокалипсиса и сцены Страшного суда лишены ужаса и трагизма и окрашены легким юмором и скептицизмом, сообщающими росписи в целом оптимистический и жизнеутверждающий оттенок. Элементы сказочности выражены в росписи паперти фантастическим сплетением святых и чудовищ, ангелов и воинов, цветов и экзотических животных (грифоны, киты, дельфины и т. д.). Как в народной сказке, действующие лица снабжены «постоянными эпитетами», наделены
- 179 -
Фреска церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Казнь жены, грех свой не исповедавшей
(Легенда из сб. «Звезда Пресветлая»)
- 180 -
постоянными атрибутами: царь Саул даже спит в короне, а Давид гуляет со скипетром и в венце.
В этой связи понятно и переосмысление схемы храмовой росписи: место Страшного суда на западной стене занимает жизнерадостная сюита из «Песни песней», изложенной как аллегория на основе Библии Пискатора (Христос — Соломон, церковь — Суламифь). В изображениях много русских бытовых деталей.
Проникновение в церковную живопись черт и приемов народного искусства, с его любовью к орнаментальной и красочной пестроте, к «мирскому» осмыслению церковных тем, с интересом к «мирским притчам» и анекдотическим сюжетам, — в корне разрушало замкнутость церковного искусства. В ряде поздних росписей — 1690-х годов — фреска приближается к формам лубка, народной картинки.
В последние десятилетия XVII в. мастера Оружейной палаты продолжают развивать искусство иллюстрации к светской книге, искусство портрета. Так, в 1672—1673 гг. русские мастера Иван Максимов и Дмитрий Львов иллюстрируют составленный в Посольском приказе «Титулярник» (иначе «Большая государственная книга или корень российских государей»). Эти иллюстрации отличаются тонким искусством и замечательной остротой психологических характеристик. Здесь и упрямое, с злыми глазами, энергичное лицо патриарха Никона; и пресыщенное, немного рыхлое лицо датского короля Христиана; и франтоватый, избоченившийся герцог флорентийский Фердинанд. Этнографически точно переданы изображения хана Бухарского, турецкого султана, грузинского царевича Николая Давыдовича и других. Но наряду с этими, проникнутыми чертами реализма «портретами», мы видим и глубоко традиционные и шаблонные изображения московских святителей и некоторых русских государей и князей.
Выполненные в той же Оружейной палате рисунки к «Книге об избрании на царство Михаила Феодоровича» обнаруживают ту же двойственность мысли и изобразительного языка художников как в передаче пейзажа и городского ландшафта, так и в трактовке человеческого образа. Рисовальщики отходят здесь от условной обратной перспективы иконописи: улицы, площади, здания и внутренности палат имеют реальную пространственную глубину, сокращаясь в относительно правильном ракурсе. Группы людей также уже подчинены законам перспективы. Рисовальщиков интересуют конкретные формы и особенности реальных зданий, среди которых развертывается действие. Мы увидим здесь и внутренность Успенского собора с пышным иконостасом и круглыми столбами-колоннами, и торжественное шествие в Успенской собор через Кремлевскую площадь с Грановитой палатой и кремлевскими храмами, и панораму Ипатьевского монастыря с его живописным ансамблем, и другие изображения, полные конкретных подробностей и верности действительности. В изображении людей также много живости, например, в сцене объявления избрания Михаила собравшемуся в патриаршей палате «освященному собору и царскому сингклиту», где присутствующие оживленно переговариваются и выражают различными жестами свои переживания. В сцене объявления избрания на Лобном месте художник показывает большую наблюдательность в передаче различных типов; здесь мы увидим и толстых бородатых бояр и купцов, и «средовеков» и юношей простого звания, с различными типами лиц и поворотами фигур.
В то же время в изображении больших групп и народных масс художник
- 181 -
обращается к трафаретным иконным приемам, расчленяя людскую толпу на ряды и компактные группы, где из-за передних видны лишь полукруги голов. В этих столкновениях нового и старого сказались те же противоречия эпохи, которые наложили отпечаток двойственности и на творчество Симона Ушакова.
Так любовь к жизни и ее бытовой конкретности, выражавшаяся и в светской и в церковной живописи, хотя еще часто и старым художественным языком, расчищала дорогу к утверждению реалистического искусства Петровской эпохи.
СноскиСноски к стр. 129
1 В. И. Ленин. Соч., т. I, М. — Л., 1927, стр. 73.
Сноски к стр. 130
1 П. Смирнов. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII в., М., 1915, стр. 50—60.
Сноски к стр. 131
1 Беседа И. В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом. ОГИЗ, 1938, стр. 9.
Сноски к стр. 135
1 См. т. II, ч. 1, стр. 230.
Сноски к стр. 137
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, 1937, стр. 296.