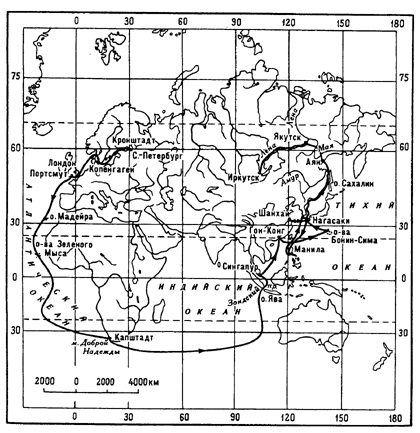- 391 -
ПРИМЕЧАНИЯ
- 392 -
- 393 -
В основном разделе третьего тома настоящего издания помещены очерки «Два случая из морской жизни», «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске», непосредственно связанные с книгой-путешествием «Фрегат „Паллада”», а также авторские предисловия к журнальной публикации очерка «Ликейские острова» и к третьему изданию книги.
В разделе «Приложения» печатаются официальные документы экспедиции, которые Гончаров вел на протяжении 1853—1856 гг. по своей должности секретаря генерал-адъютанта Е. В. Путятина. Извлеченные из Архива внешней политики России и публикуемые впервые эти документы приводятся выборочно.
Раздел «Рукописные редакции и варианты» содержит материалы, относящиеся к очеркам «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и «По Восточной Сибири», а также варианты прижизненных изданий «Фрегата „Паллада”».
Тексты тома подготовили и примечания к ним составили: А. Ю. Балакин («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 7—9 т. II; «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» — реальный комментарий), А. Г. Гродецкая («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 2—8 (последняя при участии А. Ю. Балакина) т. I, гл. 1 и 3 (совместно с К. Савада) т. II , эпилогу «Через двадцать лет»), С. Н. Гуськов («Фрегат „Паллада”» — примечания, разд. 8, реальный комментарий к гл. 1 т. I, гл. 2 и 4 (последняя совместно с Н. В. Калининой и К. Савада) т. II), Н. В. Калинина («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 4 (совместно с С. Н. Гуськовым и К. Савада), 5 и 6 т. II), Т. И. Орнатская («Фрегат „Паллада”» — варианты прижизненных изданий (совместно с Е. И. Кийко), примечания, разд. 1; 2, § 1; 3; 7 (совместно с В. А. Тунимановым), словарь морских терминов; «Два случая из морской жизни» — текст и примечания; «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» — текст, варианты, примечания; «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» — текст, варианты, историко-литературный комментарий; официальные документы экспедиции — текст и примечания), К. Савада («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 1 и 3 (совместно с А. Г. Гродецкой) и гл. 4 (совместно с Н. В. Калининой и С. Н. Гуськовым) т. II), В. А. Туниманов («Фрегат „Паллада”» — примечания, разд. 2, § 2; 4—6; 7 (совместно с Т. И. Орнатской)).
Рецензент тома — М. В. Отрадин.
Редакторы тома — Т. А. Лапицкая и В. А. Туниманов.
Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома к печати осуществлена А. Ю. Балакиным.
- 394 -
Редакция благодарит префекта г. Наха (Окинава, Япония) г-на Симадзири Масанала за сообщение ряда ценных исторических и этнографических сведений.
ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»
Очерки путешествия в двух томах(Т. 2, с. 7)
Автографы тома первого и второго неизвестны.
Источники текста
ОЗ3 — Ликейские острова // ОЗ. 1855. № 4. С. 239—268 (ценз. разр. — 3 апр. 1855 г.) — т. II, гл. IV.
МСб6 — Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири // МСб. 1855. № 5. Ч. IV. С. 52—121 (выход в свет — 1 мая 1855 г.) — т. II, гл. VI.
ОЗ1 — Атлантический океан и остров Мадера // ОЗ. 1855. № 5. С. 71—102 (ценз. разр. — 1 мая 1855 г.) — т. I, гл. II.
МСб8 — Из Якутска // МСб. 1855. № 6. Ч. IV. С. 271—317 (выход в свет — начало июня 1855 г.) — т. II, гл. VIII.
МСб3 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок) <Статья I> // МСб. 1855. № 9. Ч. IV. С. 14—84 (выход в свет — 7 сент. 1855 г.) — т. II, гл. I.
С1 — От мыса Доброй Надежды до острова Явы: (Из путевых записок) // С. 1855. № 10. С. 143—156 (ценз. разр. — 30 сент. 1855 г.) — т. I, гл. V.
ОЗ4 — Манила. От Лю-Чу до Манилы. С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат «Паллада» // ОЗ. 1855. № 10. С. 241—298 (ценз. разр. — 30 сент. 1855 г.) — т. II, гл. V.
МСб4 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до Шанхая // МСб. 1855. № 10. Ч. IV. С. 299—327 (выход в свет — 14 окт. 1855 г.) — т. II, гл. I.
МСб5 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до Шанхая. (Продолжение) // МСб. 1855. № 10. Ч. IV. С. 414—453 (выход в свет — 14 окт. 1855 г.) — т. II, гл. II.
МСб7 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья Ш-я и последняя // МСб. 1855. № 11. Ч. IV. С. 63—128 (выход в свет — 15 нояб. 1855 г.) — т. II, гл. III.
С2 — Острова Бонинсима // С. 1856. № 2. С. 141—157 (ценз. разр. — 31 янв. 1856 г.) — т. I, гл. VIII.
ОЗ2 — Сингапур // ОЗ. 1856. № 3. С. 27—28 (ценз. разр. — 1 марта 1856 г.) — т. I, гл. VI.
МСб1 — На мысе Доброй Надежды. С 10 марта по 12 апреля 1853 г. <Статья I> // МСб. 1856. № 8. Ч. IV. С. 102—169 (выход в свет — 8 июля 1856 г.) — т. I, гл. IV.
МСб2 — На мысе Доброй Надежды С 10 марта по 12 апреля 1853 г. Статья II и последняя // МСб. 1856. № 9. Ч. IV. С. 317—404 (выход в свет — 11 июля 1856 г.) — т. I, гл. IV.
PB1 — От Кронштадта до мыса Лизарда: (Из путевых записок) // РВ. 1856. Т. 6, кн. 1. Нояб. С. 43—104 (ценз. разр. — 29 окт. 1856 г.) — т. I, гл. I.
- 395 -
БдЧ — Аян. Август 1854: (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях); От Якутска. Город Олекма // БдЧ. 1857. № 4. С. 145—181; 182—195 (ценз. разр. — 3 апр. 1857 г.) — т. II, гл. VII, IX.
PB2 — Плавание в атлантических тропиках: (Письмо к В. Г. Бенедиктову) // РВ. 1857. Т. 9, кн. 1. Май. С. 47—72 (ценз. разр. — 14 мая 1857 г.) — т. I, гл. III.
1855 — Гончаров И. А. Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок). СПб., 1855.
1858 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. Изд. А. И. Глазунова. СПб., 1858 (ценз. разр. — 11 мая 1857 г.).
1862 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. 2-е изд. СПб.: В типографии Морского министерства, 1862 (ценз. разр. — 6 февр. 1862 г.).
1879 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. 3-е изд., с переменами, И. И. Глазунова. СПб., 1879 (выход в свет — 19 апр. 1879 г.).
1884 — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостиным, и факсимиле. Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1884. Т. VI—VII.
1886 — Гончаров И. А. Полн. Собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостиным, и факсимиле. 2-е изд. И. И. Глазунова. СПб., 1886. Т. VI—VII.
ЧА — черновой автограф очерка «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (1874), превращенного в 1879 г. в эпилог «Фрегата „Паллада”» под названием «Через двадцать лет» (см. ниже, с. 458, 801).
Главы книги печатались в журналах. Впервые опубликовано полностью отдельным изданием: 1879.
В собрание сочинений впервые включено: 1884.
Печатается по тексту 1886 с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями:
С. 14, строки 24—25:1 введены пропущенные слова «наконец, сквозь японцев и американцев — в Японии» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).
С. 17, строка 42: «Морских ног нет еще у вас» вместо «Морских ног нет у вас» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).
С. 24, строка 29: «явно разногласили» вместо «ясно разногласили» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).
С. 36, строка 5: «Тот уезжает» вместо «Тот не уезжает» (по РВ1, 1858, 1862, 1879)
С. 36, строки 39—40: «оттого и боль в разлуке» вместо «оттого боль и в разлуке» (по РВ1, 1858, 1862).
С. 43, строки 35—36: «почерпнет какое-нибудь знание» вместо «почерпает какое-нибудь знание» (по РВ1, 1858, 1862).
С. 49, строка 44: «Поля здесь — как расписные паркеты» вместо «Поля здесь расписные паркеты» (по РВ1, 1858, 1862).
С. 51, строки 31—32: «машинки для поверки совестей» вместо «машинки для проверки совестей» (по РВ1, 1858, 1862).
С. 54, строка 24: «поднимем крылья» вместо «поднимаем крылья» (по РВ1, 1858, 1862).
- 396 -
С. 55, строки 33—34: «чего не выживешь» вместо «что не выживешь» (по РВ1, 1858, 1862).
С. 60, строка 32: «это варварство» вместо «это коварство» (по PB1, 1858, 1862, 1879).
С. 65, строка 20: «этот оброк» вместо «оброк» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).
С. 70, строка 6: «таким же порядком» вместо «таким порядком» (по ОЗ1, 1858, 1862).
С. 72, строка 22: «стоило немалого труда» вместо «стоило немало труда» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).
С. 73, строка 11: «когда голова и ноги» вместо «пока голова и ноги» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879, 1884).
С. 78, строка 5: «Это просто — равнодушие» вместо «Это простое равнодушие» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).
С. 90, строка 33: «ясеневого» вместо «ясневого» (по ОЗ1, 1858, 1862).
С. 94, строки 33—34: «что нигде лучшего не может быть» вместо «что нигде лучше не может быть» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).
С. 100, строка 17: «Мне хочется поверить» вместо «Мне хочется проверить» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).
С. 101, строка 20: «сказано далее» вместо «далее» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).
С. 118, строка 14: «жар палит» вместо «жара палит» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).
С. 122, строки 35—36: «такова была природа» вместо «такова природа» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).
С. 126, строка 40: «основания из гранита» вместо «основание из гранита» (по МСб1, 1858, 1862).
С. 132, строка 3: «и так же ничем не пахнут» вместо «а также ничем не пахнут» (по МСб1, 1858, 1862, 1879).
С. 132, строка 29: «можно различить» вместо «можно различать» (по МСб1, 1858, 1862).
С. 140, строка 14: «домы» вместо «дома» (по МСб1, 1858, 1862, 1879).
С. 140, строки 38—39: «Толпа мальчишек и девчонок» вместо «Толпа мальчишек и девочек» (по МСб1, 1858, 1862).
С. 184, строка 30: «Туда уже успел» вместо «Туда же успел» (по МСб2, 1858, 1862).
С. 190, строки 4—5: «в таком же костюме» вместо «в таком костюме» (по МСб2, 1858, 1862).
С. 194, строка 41: «тут показались и наши спутники» вместо «и наши спутники» (по МСб2, 1858, 1862).
С. 200, строка 8: «Только рассказал» вместо «Только рассказывал» (по МСб2, 1858).
С. 220, строка 26: «пошли туда» вместо «вошли туда» (по 1858)
С. 239, строки 40—41: «по мокрому песку» вместо «по морскому песку» (по МСб2, 1858, 1862).
С. 256, строка 30: «разрезал один» вместо «разрезал» (по ОЗ2, 1858, 1862).
С. 278, строка 22: «так же вооружены» вместо «так вооружены» (по ОЗ2, 1858, 1862).
С. 286, строки 14—15: «даны-де жарким климатам» вместо «даны-де жарким климатом» (по 1858, 1862).
- 397 -
С. 298, строки 24—25: «не спавши, не евши» вместо «не евши» (по С2, 1858, 1862).
С. 329, строка 14: «одни вынимали» вместо «они вынимали» (по смыслу).
С. 364, строки 38—39: «в других портах» вместо «в двух портах» (по МСб3, 1858, 1862).
С. 365, строка 30: «стол, уставленный блюдами» вместо «стол, установленный блюдами» (по МСб3, 1855, 1858, 1862).
С. 389, строки 35—36: «когда нужно будет иметь дело с вами» вместо «когда нужно иметь дело с вами» (по МСб4, 1855, 1858, 1862).
С. 451, строка 3: «при выходе из пролива» вместо «при входе из пролива» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).
С. 453, строка 36: «Нейдут в лодки» вместо «Нейдут с лодки» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).
С. 487, строка 41: «и доставку воды» вместо «и доставку за воду» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).
С. 488, строка 43: «черенком для ножа» вместо «черенков для ножа» (по МСб7, 1855, 1862).
С. 492, строка 22: «В таких же бледных» вместо «В таких бледных» (по ОЗ3 и по смыслу).
С. 494, строка 16: «картинку» вместо «картину» (по ОЗ3, 1858).
С. 512, строка 23: «слыша наш ропот» вместо «слыша ропот» (по ОЗ3, 1858, 1862).
С. 537, строка 6: «и город очень опрятный» вместо «и город очень приятный» (по ОЗ4, 1858, 1862).
С. 538, строка 26: «мужики» вместо «мужчины» (по смыслу).
С. 551, строки 4—5: «на заказ не простудишься» вместо «на заказ не простудиться» (по ОЗ4, 1858, 1862).
С. 580, строки 29—30: «становиться в ней на якорь» вместо «остановиться в ней на якорь» (по МСб6, 1858, 1862 и по смыслу)
С. 583, строка 14: «продраться сквозь лианы» вместо «пробраться сквозь лианы» (по МСб6, 1858, 1862).
С. 586, строки 40—41: «крильями» вместо «крыльями» (по МСб6, 1858, 1862).
С. 617, строки 8—9: «конечно им неизвестен» вместо «конечно им известен» (по МСб6, 1858, 1862).
С. 619, строка 30: «в 43 градусе» вместо «в 43 градуса» (по МСб6, 1858, 1862).
С. 676, строки 39—40: «в защиту от сорокаградусного мороза» вместо «в защиту сорокаградусного мороза» (по МСб8, 1858 и по смыслу).
С. 677, строка 20: «кроют их байкой» вместо «кроют байкой» (по МСб8, 1858, 1862).
С. 705, строка 9: «сосны, ели, лиственницы» вместо «сосны или лиственницы» (по БдЧ, 1858, 1862).
С. 719, строки 26—27: «велика важность» вместо «великая важность» (по ЧА).
С. 727, строка 12: «фрегат стало бить об дно» вместо «фрегат стал бить об дно» (по ЧА).
С. 731, строка 42: «городок» вместо «город» (по ЧА).
Кроме того, в текстах т. 2 и 3 раскрываются имена реальных лиц, обозначенных (за редкими исключениями) во всех прижизненных изданиях или инициалами, или первой буквой титула (см об этом подробнее ниже, с. 466—467).
- 398 -
1
С 9 сентября 1852 г.1 по август 1854 г. младший столоначальник Департамента внешней торговли Министерства финансов коллежский асессор И. А. Гончаров входил в личный состав фрегата «Паллада», исполняя обязанности секретаря вице-адмирала Е. В. Путятина — главы морской экспедиции, флагманом которой была «Паллада». Настоящей целью экспедиции, которая держалась в тайне,2 было под видом обозрения российских колоний в Северной Америке (Е. В. Путятину предписывалось: «а) собрать на местах сведения обо всем, что происходит вдоль берегов нашего азиатского материка и у берегов северо-западных наших владений в Америке, и сообразить, какие меры ближе всего, при настоящей недостаточности судов Камчатской флотилии, могли бы на будущее время обеспечить тамошние наши владения от своевольства чужеземных китоловов; б) с осторожностью осмотреть остров Сахалин» — РГА ВМФ, ф. 296. 1. 75, № 3, л. 36—37) подготовить почву для заключения русско-японского договора о торговле и границах;3 договор этот был подписан уже без Гончарова — 26 января (7 февраля) 1855 г. в городке Симода. Согласно Симодскому трактату, между странами устанавливались дипломатические отношения и определялась пограничная линия, проходившая между южными островами Курильской гряды Итурупом и Урупом; Сахалин объявлялся «неразделенной» территорией. Для русских судов были открыты три порта: Симода, Хакодате и Нагасаки; в первых
- 399 -
двух разрешалась взаимная торговля, и в одном из них Россия получала право открыть консульство.1
Решение Гончарова отправиться в путешествие — так он называл предстоящий поход — было довольно внезапным. Об этом свидетельствовал сам писатель. В письме от 23 августа 1852 г. к Е. А. и М. А. Языковым он рассказывает: «Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что, между прочим, нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне; я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции».
Разговор с Майковым мог состояться не позднее 20 августа. Рекомендательное письмо, о котором идет речь, принадлежало товарищу министра народного просвещения А. С. Норову. Об этом известно из сентябрьского письма к М. П. Погодину чиновника особых поручений при Норове, тогда начинающего писателя, Г. П. Данилевского, рассказавшего о вечере у Норова с участием Гончарова, А. Н. Майкова, А. В. Никитенко, В. И. Даля и автора письма. Данилевский писал: «В среду третьего дня (т. е. 24 сентября 1852 г. — Ред.) у Авр<аама> Серг<еевича> был замечательный литературный вечер. Щепкин читал „Театральный разъезд” и „Развязку Ревизора”. Тут был <...> Гончаров, который по ходатайству Авр<аама> Серг<еевича> получил место на эскадре <...> и был на вечере накануне своего отъезда из России на три года» (РГБ, ф. 231, разр. II, карт. 10, № 28). О том, что предшествовало вечеру у Норова, рассказано в записках С. И. Смирновой-Сазоновой: «Норов, сделанный министром народного просвещения <...> не был вовсе знаком с молодой русской литературой. Когда вышло распоряжение откомандировать с фрегатом, отправлявшимся в кругосветное плавание, кого-нибудь из русских писателей, он обратился за советом к Данилевскому, кого бы послать.
— Да кого хотите, Ваше пр<евосходительст>во. Все поедут.
— Ну вот поезжай ты!
- 400 -
Д<анилевский> замялся. Он в то время был помолвлен.
— Пошлите лучше Майкова. <...>
Д<анилевский> к Майкову. Тот и руками и ногами. Не хочет оставлять семью. Тут же в комнате сидит Гончаров. Вдруг Майков накинулся на него.
— Да поезжай ты, Иван Алекс <андрович>.
— Я! Что вы? Да я и с лежанки-то не сойду.
Он действительно проводил время чуть ли не на лежанке. Дальше Парголова в жизни своей нигде не бывал. И что же? Всеми неправдами вытащили его. Убедили его, боявшегося качки, что для него вел <икий> князь велел переделать и особенным образом приспособить каюту. Потом настращали, что приспособления уж сделаны, деньги на это затрачены. Это послужило отчасти толчком. Г<ончаров> побоялся, чтоб эти деньги не вычли у него из жалованья. Таково происхождение „Фрегата «Паллады»”» (ИРЛИ, ф. 285, № 2, л. 19—20).
Несколько иначе историю своего решения Гончаров изложил в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. Обращаясь к Евгении Петровне, он напоминает ей: «Ехать <...> и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: „Вот Вам бы предложить!”. Мне захотелось показать Вам, что я бы принял это предложение. А скажи Вы: „С какой бы радостью Вы поехали!” — я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и, разумеется, ни за что бы не поехал. Я пошутил <...> вон спросите Льховского: я ему тогда же сказал, а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я - жертва своей шутки». Здесь же изложен и весь ход дела: «Когда я просил Вас (т. е. Евг. П. Майкову. — Ред.) написать к Аполлону,1 я думал, что Вы не напишете, что письмо нескоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал прежде моего „не хочу” уже доложил письмо, я — к графу,2 а тот давно подписал бумагу, я хотел спорить в департаменте, а тут друзья <...> выхлопотали мне и командировку, и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала».
После встречи Гончарова с Е. В. Путятиным последний ходатайствует перед Гейденом о назначении писателя на «Палладу» «для письменных дел и производства отчетности» (РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, № 5794, л. 71). 1 сентября глава ведомства, в котором служил Гончаров, министр финансов П. Ф. Брок, получил соответствующее «Отношение» от генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича и в тот же день отреагировал на него «всеподданнейшей запиской».3 На другой день, 2 сентября, Гончаров в своем письме благодарил Брока «за просвещенное и благородное содействие» и за предложенные министром «условия» (т. е. материальное обеспечение). Однако эти «условия» не освободили
- [400bis] -
Маршрут плавания «Фрегата „Паллада”» в 1852—1854 гг.
- 401 -
Гончарова от дальнейших хлопот: он был вынужден обратиться к брату Н. А. Гончарову в Симбирск, и тот «устроил ему заем в 2000 рублей».1
9 сентября Николай I на «Отношении» великого князя «собственноручно написать изволил „Согласен”» (письмо П. Ф. Брока великому князю Константину Николаевичу от 17 сентября), а 25 сентября «Паллада» вышла из Средней гавани на Кронштадтский рейд,2 но в плавание отправилась лишь 7 октября. В этот день фрегат посетил великий князь Константин Николаевич.
При всей внезапности принятого Гончаровым решения отправиться в экспедицию, за этим просматривается ряд причин. Прежде всего к этому времени писатель четко уяснил себе «недостаток разумной деятельности» в своей жизни, хотя внешне все складывалось вполне благополучно. Его мучило «сознание бесполезно гниющих сил и способностей» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.).
В Департаменте внешней торговли к 1852 г. Гончаров занимал довольно скромное место. Эта ступень карьеры обеспечивала, по ироническому признанию писателя в упомянутом выше письме, лишь «вечный недостаток средств» и служила «вечной язвой», «разъедавшей» само его существование.
Еще не был забыт «неслыханный», по словам В. Г. Белинского, успех «Обыкновенной истории» (см. об этом: наст. изд., т. 1, с. 719); критика в основном одобрительно приняла с запозданием опубликованный очерк «Иван Савич Поджабрин» (см.: там же, с. 664—667); читатели, в 1849 г. восторженно встретившие главу «Сон Обломова», нетерпеливо ожидали самого романа. Но работа над «Обломовым» шла медленно и трудно.
Отсутствие собственной семьи и домашнего комфорта, казалось бы, отчасти восполнялось дружеским общением с Майковыми и Языковыми, в домах которых Гончаров был своим человеком, а частые встречи почти со всеми близкими по духу и убеждениям петербургскими и московскими литераторами обеспечивали ему интеллектуальный досуг. Но столь необходимые поначалу дружеские и приятельские связи уже не приносили прежнего душевного удовлетворения. По собственным словам Гончарова в том же письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г., он «заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце»,3 и у него созрело понимание того, что все это «надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее, — это всё равно, лишь бы изменить»; «...я был один, свободен, как ветер...» — напишет Гончаров позднее, в очерке «По Восточной Сибири» (наст. т., с. 79).
- 402 -
Вероятно, предложение Майкова пробудило в Гончарове мечты его детства о путешествии вокруг света, зародившиеся под влиянием его «наставника» Н. Н. Трегубова. Уже тогда ему «захотелось поехать с правого берега Волги, на котором <...> родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсу, тропикам» (наст. изд., т. 2, с. 9). Гончаров писал Ю. Д. Ефремовой 20 июня (2 июля) 1853 г., что «хотел только видеть и поверить картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что прибавить», радуясь, что сбылась «старая мечта», а в главе «Плавание в атлантических тропиках» признавался: «Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний <...> будто переживал детство и юность» (наст. изд., т. 2, с. 101). В детстве же писатель запоем читал о «подвигах и приключениях Куков, Ванкуверов» и других великих мореходов, перед подвигами которых меркла слава «Гомеровых героев, Аяксов, Ахиллесов, и самого Геркулеса» (там же, с. 9).
Крестный отец и воспитатель юного Гончарова Николай Николаевич Трегубов (1774—1849), капитан-лейтенант в отставке, надворный советник, в свое время закончил Морской кадетский корпус, затем служил на Черноморском флоте (1789—1799) и участвовал в войне 1812 г. против французов. Трегубов знакомил Гончарова с картой звездного неба, с морскими инструментами, обучал его математической и физической географии. Воспитанник жадно «поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями» «всех кругосветных плавателей» из библиотеки крестного. «Поддаваясь мистицизму, — писал Гончаров в воспоминаниях «На родине» (1888), где Трегубов выведен под именем Петра Андреевича Якубова, — можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия».
Гончаров, таким образом, отправился в экспедицию затем, «чтоб видеть, знать всё то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа 1852 г.). Он словно прислушался к давно звучавшему в нем внутреннему голосу: «Всякий раз, когда я подъезжаю к морю, особенно в портовом городе, я всегда испытываю какую-то приятную, чудесную минуту. На меня, с воздухом моря, пахнет будто бы далью и поэзией прекрасных теплых стран. Этому, конечно, теперь причиной воспоминание о тех местах, где был, но я помню, что и прежде путешествия я что-то вроде этого испытывал в Кронштадте, даже на Неве, на Английской набережной. Не прочила ли меня моя натура в моряки?» (письмо к Е. А. и С. А. Никитенко от 28 июля (9 августа) 1860 г. из Булони). Но, вероятно, главной причиной решения отправиться в плавание было намерение написать книгу о путешествии.
Книга «Фрегат „Паллада”», вышедшая в свет отдельным изданием вскоре после успешного завершения миссии Путятина, во многом способствовала тому, что по ней стали судить о самом походе, т. е. сочли гончаровское произведение, созданное по законам «правды художественной», за «правду действительности»,1 несмотря на то что
- 403 -
в тексте своей книги Гончаров прямо утверждал: «Не касаюсь предмета нагасакских конференций адмирала с полномочными: переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия» (наст. изд., т. 2, с. 480). Не обратив внимания на это и другие подобные утверждения автора, некоторые моряки, в частности кронштадтцы, знавшие многие трагические подробности экспедиции, встретили книгу с чувством «неожиданного разочарования, недоумения и даже обиды» (А. А. Неелов). Излагая рассказ этого старого моряка-кронштадтца, Б. М. Энгельгардт пишет: «И было за что сердиться, — прибавил он, — изобразить героический поход „Паллады” в виде какой-то увеселительной прогулки! Точно в Москву для развлечения съездил».1 Между тем Гончаров знал эту «правду
- 404 -
действительности» не как рядовой участник похода, но как лицо, уже в силу своей должности наиболее близкое к адмиралу. Именно Гончаров составлял официальные донесения и рапорты морскому начальству, а по возвращении из похода писал официальный отчет для государя (см. об этом ниже, с. 828—830).
Приняв решение отправиться в экспедицию, Гончаров и представить не мог, насколько тяжелой и трудной, подчас полной смертельного риска из-за резко обострившейся международной обстановки она окажется. И не только для него, сразу по вступлении на борт «Паллады» ощутившего недостаток столь необходимых ему для творчества покоя и комфорта, испытавшего вскоре привычные приступы хандры и, сверх того, еще зубную и височную невралгию (все то, что в письме к М А. и Е. А. Языковым из Лондона от 3—4 (15—16) ноября 1852 г. он определил как «миллион» «мелких неудобств»), но и для испытанных моряков.
Сразу же по отплытии из Кронштадта на «Палладе» обнаружилась холера, от которой вскоре умерло трое матросов.1 А 17 октября за холерой последовал тиф.2 На второй день плавания во время палубных работ за борт упал один из унтер-офицеров и спасти его не удалось.3 На пятый день плавания, при входе в Зунд, «Паллада»
- 405 -
села на мель, и ей только чудом удалось избежать гибели.1 Фрегат получил при этом значительные повреждения.
Снаряжая экспедицию, Морское министерство подготовило для нее крепкий и надежный фрегат «Аврора», за год до этого прошедший капитальную тимберовку. Однако Путятин настоял на предоставлении ему более комфортабельного и быстроходного судна, имея в виду генерал-адмиральский (великого князя Константина Николаевича) фрегат «Паллада». А между тем к 1852 г. «Паллада» уже была довольно старым и ненадежным судном (она строилась в 1831—1832 гг. и тимберовку проходила в 1841 г.);2 к тому же требовалась почти полная замена гвардейского экипажа балтийскими моряками с разных судов. Сделано это было перед самым отплытием, и команда оказалась разношерстной и недостаточно сработавшейся. В. А. Римский-Корсаков писал родным: «Погода перед тем (т. е. перед отплытием. — Ред.) стояла постоянно дождливая, холодная, при свежем западном ветре, что совершенно препятствовало по выходе на рейд заняться несколько обучением команды некоторым новейшим действиям. А это необходимо сделать на рейде, потому что команда собрана из разных экипажей, и хотя состоит из бравых, знающих дело матросов, но не имеет еще необходимой для правильной работы свычки, без чего пускаться в море осенью, в темные ночи и бурное время, довольно ненадежно» (Римский-Корсаков. С. 38). Только благодаря командиру «Паллады» капитан-лейтенанту И. С. Унковскому команду удалось довольно быстро сплотить. 20 декабря 1853 г. Римский-Корсаков писал об Унковском: «Фрегат он держит в таком состоянии, что со смелой уверенностью может идти против любого англичанина равной и даже большей силы. Мне еще не случалось видеть судна, доведенного до такой быстроты в работах и до такого порядка в боевых маневрах и учениях» (Там же. С. 135). Тем не менее еще долгое время на ходе судна и его маневренности сказывалась недостаточная слаженность и обученность команды. И лишь к осени 1854 г. адмирал Г. И. Невельской, побывавший на «Палладе», назвал экипаж судна «вполне молодецкой и опытной командой» (Невельской. С. 324).
30 октября (11 ноября) 1852 г. «Паллада» наконец дошла до Портсмута, и здесь выяснилось, что при посадке на мель была
- 406 -
повреждена медная обшивка корпуса и погнут киль. Более внимательный осмотр показал, что требуется капитальный ремонт судна с введением его в док; уже при начале ремонта обнаружилась гнилость самого корпуса «Паллады». Путятину, не решившемуся так скоро просить замены фрегата, пришлось изменить маршрут: вместо опасного в осеннее время плавания в южных широтах (для обхода мыса Горн) «Паллада» направилась к мысу Доброй Надежды. Но океан, которого «Паллада» достигла 9 (21) января 1853 г., не оправдал надежд адмирала: бури и штормы преследовали фрегат; кроме трюма течь обнаружилась и в жилых палубах; впереди же был коварный Индийский океан. Перед входом в него «Палладе» вновь потребовался ремонт в Саймонсбее, на мысе Доброй Надежды. Гончаров, незадолго перед этим почувствовавший облегчение от недомоганий и болезней (во время перехода от Мадеры до мыса Доброй Надежды — с 18 (30) января по 10 (22) марта 1853 г.), результатом чего явилась глава «Плавание в атлантических тропиках», теперь смог почти месяц провести на суше в Капской колонии.
«Паллада» вышла в Индийский океан 12 (24) апреля, и в этот же день ей пришлось в течение почти целых суток выдерживать шторм,1 сведший на нет все результаты поправок на Капе. Стало ясно, что починить судно уже нельзя, и Путятин, вынужденный наконец направить в Петербург запрос о новом фрегате,2 решил продвигаться к Японии короткими переходами из порта в порт (Анжер, Сингапур, Гонконг, Ллойд), ремонтируясь в каждом из них. До Анжера «Паллада» добиралась почти месяц, и в течение этого месяца на судне открылась чахотка. На этот раз болезнь захватила и кают-компанию: позднее от нее в Татарском проливе схоронили поручика по шкиперской части М. Истомина.
25 мая (6 июня) из Сингапура в Петербург был отправлен курьером старший офицер лейтенант И. И. Бутаков, а «Паллада» встала на очередной ремонт: во время перехода по Тихому океану ее настиг ураган страшной силы, вызвавший повреждение грот-мачты, которая грозила рухнуть, что повлекло бы за собой неминуемую гибель судна. Вдобавок течь была уже повсюду. Героическими усилиями экипажа и благодаря искусству Унковского грот-мачту кое-как закрепили, но стало ясно, что «Паллада» долго не продержится. Кроме того, экипаж настигла новая вспышка болезней (в частности, у Гончарова обнаружились рожистое воспаление ноги и мучительная желудочная лихорадка); был загублен сыростью провиант; сломался купленный в Англии опреснитель.3 Дождавшись попутного ветра, «Паллада» со значительным опозданием добралась
- 407 -
до порта Ллойд, где собрались и другие суда эскадры — транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца».1 С транспортом прибыли через Панаму два курьера с предписаниями: из Министерства иностранных дел коллежский секретарь В. К. Бодиско, а из Морского министерства лейтенант Александр Кроун; пришла и почта из Петербурга.
К этому времени уже достаточно сильно обострились отношения России и Турции, за которой стояли Англия и Франция: еще в Гонконге Путятин убедился в резко изменившемся отношении англичан к российской экспедиции. Это проявилось не только в практически сорванных кантонских переговорах, но и в мелких вопросах, связанных с ремонтом «Паллады» и приобретением необходимых для дальнейшего пути запасов провизии. Положение эскадры становилось критическим. В любой момент «Палладу» могла захватить в плен стоявшая в ближайших китайских портах английская эскадра. И тем не менее фрегат продолжал путь в Нагасаки, не теряя связи (с помощью транспорта «Князь Меншиков») с Шанхаем. В Нагасаки «Паллада» пришла 10 (22) августа 1853 г., но из-за бесконечных проволочек со стороны японцев официальное письмо канцлера К. В. Нессельроде Верховному совету Японии было передано лишь через месяц, 9 (21) сентября, а ответа на него пришлось ждать еще два месяца. Между тем полученное 14 (26) сентября известие о готовящемся разрыве отношений России с Турцией заставляло требовать ускорения переговоров. Но лишь 7 (19) ноября японские власти сообщили Путятину, что «скорый» ответ ожидается еще через месяц и что привезут его уполномоченные из Эдо (прежнее название Токио). Путятин, решив не терять времени, направился к Шанхаю для дипломатической рекогносцировки. «Палладу» сопровождала шхуна «Восток». По дороге стало известно, что война все еще не началась, и Путятин решил зайти в Шанхай. Положение судна на Шанхайском рейде было критическим — его окружали потенциальные, возможно уже завтрашние, враги.
8 (20) декабря, находясь в Шанхае, Путятин принял решение возвратиться в Нагасаки,2 куда и прибыл 22 декабря 1853 г. (3 января 1854 г.). 31 декабря 1853 г. (12 января 1854 г.), по прибытии полномочных из Эдо, начались переговоры, и русские еще раз убедились, что довести, их до конца не удастся: японцы затягивали
- 408 -
решение вопроса о границах. Оставаться в Нагасаки было слишком опасно, и Путятин решил уйти на Манилу, удовлетворившись полученной нотой: в ней японцы объявляли Россию страной, с которой будут поддерживаться торговые отношения и на которую будут распространяться равные с другими странами привилегии.
27 января (8 февраля) 1854 г. русская эскадра вышла из Нагасаки по направлению к Маниле, с заходом на Ликейские острова. При подходе к гавани Напакиян «Паллада» столкнулась с новой неприятностью: не ожидая штормового ветра, судно бросило якорь близ рейда (ночью подход к гавани был небезопасен из-за отделявшей ее от океана гряды коралловых рифов). Внезапно поднявшийся штормовой ветер прижимал фрегат к рифам, судя по записи в Шканечном журнале, на расстояние «чуть ли не 200 сажен». Экипаж почти двое суток боролся с гибельной опасностью: в любую минуту судно могло разбиться в щепы (позднее Гончаров рассказал об этом в очерке «Два случая из морской жизни» — см.: наст. т., с. 18).
Стоянка на подвластных Японии Ликейских островах вопреки надеждам экипажа оказалась кратковременной, и 9 (21) февраля «Паллада» направилась на Манилу, надеясь здесь произвести необходимый ремонт и пополнить запасы продовольствия. Однако опять не обошлось без осложнений: в гавани стоял французский военный пароход, который в любой момент мог отправиться в Шанхай или Гонконг и вернуться оттуда с целой эскадрой, готовой захватить «Палладу» в плен.1 Но не только это омрачало надежды русских на благополучное пребывание в Маниле. Губернатор Филиппинских островов генерал Павиа дал знать Путятину, что он сможет принять его лишь как частное высокопоставленное лицо, а не как представителя России. В качестве причины называлась позиция петербургского кабинета по отношению к правительству испанской королевы (подробнее см.: Энгельгардт. С. 242). Путятин принял это частное приглашение, но вынужден был просить генерала о предоставлении русской эскадре места в порту для необходимого ремонта. В ответ Путятину было предписано в трехдневный срок покинуть Манильский рейд. Единственное, что
- 409 -
удалось получить адмиралу, это уголь, без которого эскадра дальше двигаться не могла.1 Все это ставило Путятина в чрезвычайно сложное положение: без ремонта «Паллада» не могла совершить сколько-нибудь длительный переход; даже если бы она (в зимних условиях) добралась до ближайших российских владений — Петропавловска или Ситхи — это не было бы выходом: ни в том, ни в другом пункте не было ни базы для ремонта, ни продовольствия для команды.
27 февраля (11 марта) «Паллада» покинула Манильский рейд и стала готовиться к встрече с неприятелем. Путятин вынужден был разделить эскадру и отправить шхуну за провизией на остров Батан, а транспорт к Шанхаю, чтобы узнать об обстановке. «Паллада» и корвет «Оливуца» остались одни с целью пробраться в порт Сан-Пио-Квинто на острове Камигуин (острова Бабуян). Здесь собственными силами команда принялась за ремонт «Паллады», у которой в последний переход налетевшими шквальными ветрами вновь повредило грот- и фок-мачты. Мачты удалось подремонтировать,2 а команда получила кратковременный отдых и запаслась провизией.
21 марта (2 апреля), приведя «Палладу» и «Оливуцу» в боевую готовность на случай встречи с неприятелем, Путятин направился к северу и 26 марта (6 апреля) пересек Северный тропик: впереди был корейский остров Гамильтон «с удобным портом» (наст. изд., т. 2, с. 593). В этот же порт пришел транспорт из Шанхая с известием, что, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Францией и Англией, война России еще не объявлена. Путятин решил воспользоваться этим (известие об объявлении войны могло дойти до Шанхая не ранее чем через две недели), чтобы снова побывать в Нагасаки, тем более что туда можно было добраться за сутки. 8 (20) апреля эскадра была уже в Нагасаки, но, как и ожидалось, ответа из Эдо не было. Адмирал решил провести опись восточного побережья Корейского полуострова, к которому «Паллада» направилась одна. Неизвестные воды, то и дело грозившие посадкой на мель или гибелью от столкновения с невидимыми в темноте скалами, холод и сырость, отсутствие свежих припасов, изнурительная работа — все это привело к вспышке болезней, включая цингу. Но зато были открыты новые бухты, мысы и острова (один из них был назван островом Гончарова).3
- 410 -
К середине мая опись была закончена, и «Паллада» направилась в Татарский пролив. На пути в Императорскую гавань встретились со шхуной «Восток». В. А. Римский-Корсаков привез Путятину свежую почту из Петербурга и официальное сообщение о том, что Англия и Франция объявили войну России; привез он и депешу от великого князя Константина Николаевича, от имени императора повелевавшего адмиралу при первой возможности со всеми судами идти в гавань Де Кастри (ныне залив Чихачева) в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева,1 от которого следовало получить дальнейшие распоряжения. Шанхайский агент извещал Путятина, что английские военные суда собираются отовсюду, даже с мыса Доброй Надежды, для преследования русских в здешних морях.2 Но «Паллада» до предписанной гавани Де Кастри дойти уже не смогла. Она едва дотянула до Императорской гавани, откуда ей уже не суждено было выйти. Выполнить строжайшее предписание великого князя Константина Николаевича, требовавшего «всемерно озаботиться» доставкой фрегата в Балтийское море, не подвергая, однако, команду «явной опасности», из-за большой осадки судна возможности не было. Путятин и Муравьев решили оставить «Палладу» в Амурском лимане, с тем чтобы по окончании войны отвести ее в Кронштадт, о чем и было доложено в Петербург. Но все усилия Унковского провести разоруженный фрегат в устье Амура без буксира оказались тщетными: на судне гибли матросы, продолжала свирепствовать тифозная горячка, не отступала цинга, а впереди была осень. В ночь на 22 июля на «Палладе» было получено известие о пришедшем ей на замену фрегате «Диана».3 26 июля, согласно записи в Шканечном журнале, с помощью «Дианы» «Палладу» попытались провести в Амур. Попытки продолжались с 5 августа по 14 сентября, но закончились неудачей (см.: Невельской. С. 319—326, 332—333).4
- 411 -
Путятин, получив новое судно, внезапно переменил намерение возвращаться в Петербург. Он решил пуститься в крейсерство по Тихому океану и продолжить переговоры с Японией. «Диану» перевооружили за счет «Паллады», взяв на новый фрегат ббльшую часть команды и часть офицерского состава. Другая часть офицеров во главе с И. И. Бутаковым оставалась на Амуре, остальным предстояло возвратиться в Петербург. В рапорте Путятина на имя великого князя Константина Николаевича говорится: «При перемещении моем с фрегата „Паллада” на фрегат „Диана” я, между прочим, признал более сообразным с обстоятельствами предоставить находящимся в экспедиции архимандриту Аввакуму и назначенному секретарем при мне чиновнику Министерства финансов, коллежскому асессору Гончарову возвратиться сухим путем, через Сибирь, в С.-Петербург <...>. Что касается до г-на Гончарова, то, не предвидя, при нынешних обстоятельствах, по случаю изменения на время первоначального плана нашего плавания, почти никакой переписки и других, до должности секретаря относящихся занятий, я полагаю более полезным, не задерживая его далее при себе, обратить к месту его постоянного служения. <...> Донося о сем Вашему императорскому высочеству, имею счастие присовокупить, что о примерном исполнении сими тремя лицами (третьим был П. А. Тихменев. — Ред.) своих обязанностей и об отличной пользе, принесенной ими экспедиции, я счел долгом справедливости свидетельствовать перед их начальствами и ходатайствовать о достойном награждении их рвения и трудов.
- 412 -
Если бы Вашему имп<ераторскому> выс<очеству> благоугодно было иметь какие-либо сведения, сверх заключающихся в моих донесениях, о пребывании нашем в Японии и отношениях с японцами, то я беру смелость донести, что г-н Гончаров удовлетворительнее других может изобразить высокому вниманию Вашего высочества все подробности наших свиданий с японскими полномочными, ибо он, по назначению моему, присутствовал при всех переговорах с ними» (РГА ВМФ, Дела Военно-походной по флоту канцелярии, ф. 296, оп. 1, № 75, л. 180—184)
2 августа 1854 г. был отдан приказ о переводе Гончарова, Н. А. Крюднера и П. А. Тихменева на шхуну «Восток», 4 августа они сошли с борта «Паллады», а 8 августа шхуна направилась в Николаевский пост за Н. Н. Муравьевым.1 1 августа В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике: «Из штаба своего адмирал оставил при себе Посьета, а Гончаров едет в Аян, чтобы оттуда сухим путем отправиться в Петербург. Крюднер посылается курьером к великому князю. Оба они включаются в число моих пассажиров для следования в Николаевский пост, а также Тихменев с „Дианы”» (Римский-Корсаков. С. 348). Сам Гончаров 5 августа писал М. А. Языкову об этом переходе: «Я теперь сижу на мели, в устье Амура, не на фрегате, а на шкуне „Восток” <...> я послан к генер<ал> — губ<ернатору> Муравьеву, который теперь здесь». В Николаевский пост шхуна пришла 7 августа, и на ее борт вместе с Муравьевым была взята и его свита (А. В. Бачманов, А. Л. Бибиков, Е. И. Сычевский, П. В. Казакевич и Рейн). Следующие три дня из-за непогоды шхуна стояла на якоре в Петровском зимовье, и ее пассажиры сошли на берег, оказавшись гостями местных жителей, среди которых Римский-Корсаков называет жену Г. И. Невельского Е. И. Невельскую, жену А. В. Бачманова Е. О. Бачманову, местного священника отца Гавриила (Вениаминова) с женой (см.: Римский-Корсаков МСб. 1896. № 9. С. 348—349). Гончаров во время пребывания на шхуне имел возможность близко познакомиться с Муравьевым, и, вероятно, не раз обедал у него, о чем так писал в книге: «Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино <...> отличное, сигары — из первых рук — манильские, и состояние духа у всех приятное» (наст. изд., т. 2, с. 631). Во время одной из бесед с Муравьевым речь шла о ссыльных декабристах и о М. В. Буташевиче-Петрашевском (см. об этом наст. т., с. 77). Позднее, в очерке «По Восточной Сибири», Гончаров даст Муравьеву восторженную оценку: «Он, кажется, нарочно создан для совершения переворотов в пустом безлюдном крае! Он и совершил их немало. <...> Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями» (наст. т., с. 59—60).2
- 413 -
В Аяне, «на сибирских тундрах», куда шхуна пришла 15 августа, Гончаров, поселившийся у М. С. Волконского, «самого любезного и приятного из чиновников и людей» (наст. изд., т. 2, с. 635), проводит несколько дней.1
С Аяна началось возвращение Гончарова домой. «Я расквитался с морем, вероятно, навсегда. Теперь возвращаюсь сухим путем, но что мне предстоит, если бы Вы знали, Боже мой: 4 тысячи верст и верхом через хребты гор, и по рекам, да там еще 6000 верст от Иркутска», — пишет он М. А. Языкову 17 августа, незадолго до отъезда. Почти две недели занял путь до Якутска — сначала верхом (26 августа: «Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками — двенадцать с половиною» — наст. изд., т. 2, с. 645; 29 августа: «Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги, в лесу» — там же, с. 647), потом на лодках (30 августа: «мы промчались двадцать восемь верст в два часа» — там же, с. 649; 2 сентября: «Мы все еще плывем по Мае, но холодно: ветер из осеннего превратился в зимний, падает снег, руки коченеют, ноги тоже» — там же, с. 652), потом снова верхом и, наконец, в телеге (7 сентября: «Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уже другую станцию еду в телеге <...> каким диваном показалась она мне после верховой езды!» — там же, с. 658).2
Около 12 сентября Гончаров оказывается в Якутске, а 14 сентября в письме к семье Майковых, бросая взгляд на пройденный
- 414 -
путь, пишет, обращаясь к Евгении Петровне: «Вы в письме своем называете меня героем, но что за геройство совершить прекрасное плавание на большом судне, с роскошными каютами, с кухней, библиотекой и в обществе умных людей, по местам, каких и во сне не увидишь? Нет, вот геройство — проехать 10 500 верст берегом, вдоль целой части света и местами, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, всё болота, где нет людей, откуда и звери бегут прочь: страшные пустыни, леса, громады гор, горные потоки, все эти леса, горы и реки без имени, некому назвать их».
В Якутске Гончаров проводит более двух месяцев. В очерке «По Восточной Сибири» он пишет: «Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде <...> весь люд составляло общество, всего человек, сколько помнится, тридцать, начиная с архиерея1 и губернатора2 и кончая чиновниками и купцами.3 Всё это составляло компактный круг, в котором я, хотя и проезжий с моря <...> занял на два месяца прочное положение...» (наст. т., с. 57). Вскоре по приезде Гончаров побывал у архиепископа Иннокентия в его «архипастырской келье», где «почтенными отцами» велся перевод Евангелия на якутский язык. «Когда я был в комитете, — говорится во «Фрегате „Паллада”», — там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами» (наст. изд., т. 2, с. 688—689).
Сам же Якутск Гончарову не понравился. «Столица якутская так жалка и бедна, что больно смотреть. Сотни три-четыре чуть живых деревянных домов, один только каменный, да 6 церквей, вот и всё», — пишет он 14 сентября в письме к Майковым. Но именно в Якутске Гончарову наконец удается поработать над будущей книгой. Здесь он «приводил в порядок свои путевые заметки» (наст. т., с. 68) и писал «статью» о Якутске, из которой выросла глава «Из Якутска».
Работа над очерками продолжалась до отъезда из Якутска — 26 или 27 ноября (глава «Из Якутска» сопровождена пометой: «Якутск, ноябрь, 1854» — см.: наст. изд., т. 2, с. 698). За день до отъезда Гончаров нанес прощальные визиты: «...объездил всех: и областных чиновников, и купцов. Архиерей на прощанье опять осенил меня широким благословением, обнял и расцеловал. <...> Прощальный обед мне состоялся у Ивана Ивановича (Андреева; см. о нем ниже, с. 808. — Ред.), куда собрался меня провожать почти весь город» (наст. т., с. 71—72).
- 415 -
Путь до Иркутска длился почти месяц, и в город Гончаров прибыл «с сильно отмороженным лицом в самый праздник Рождества Христова» (там же, с. 73). Через день, подлеченный местным доктором, он уже обедает в доме Н. Н. Муравьева, встретившего его «так же благосклонно и ласково, как и на устьях Амура», и пригласившего писателя «погостить» у него (см. письмо Гончарова к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1854 г. — 13 января 1855 г.). У Муравьевых Гончаров бывает почти ежедневно вплоть до отъезда из города. 28 декабря он обедает у военного губернатора Иркутской области К. К. Венцеля, позже присутствует на бале в Дворянском собрании, знакомится с целым рядом новых лиц. «Перебывал» он и «у всех декабристов: у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других» (наст. т., с. 76). Особенно часто встречается он с С. Г. Волконским, охарактеризовавшим Гончарова в письме к родным от 14 января 1855 г. как умного и увлекательного рассказчика.1
В Петербург Гончаров прибыл 25 февраля 1855 г., проследовав через Казань, Симбирск и Москву. В Симбирске он задержался у родных, которым «много рассказывал» о путешествии и, вероятно, сообщил, что собирается печатать свои путевые записки.2
2
Кают-компанию «Паллады», кроме штатских — самого Гончарова, о. Аввакума, иеромонаха Арефа, О. А. Гошкевича, А. Арефьева, В. Плюшкина, составляли офицеры (двадцать один человек) и гардемарины (четыре человека) (см.: Отчет. С. 138—139). Ни с кем из них писатель не был знаком до плавания, а впереди были два года «морской жизни», в условиях которой «целое общество живет не какою-то двойной, про себя и вслух, жизнию, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее; настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее» (наст. т., с. 11). «Там каждый шаг виден, там сейчас взвесят каждое слово, угадают всякое намерение, изучат физиономию, потому что с утра до вечера все вместе, в нескольких шагах друг от друга, привыкают читать выражения лиц, мысли» (там же, с. 10). Гончаров после некоторых колебаний принял эту общую жизнь. В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г., возвращаясь к первым дням плавания, он рассказывает, как ему удалось
- 416 -
преодолеть свои первоначальные сомнения: «...думал, что никогда не привыкну к морю, и хотел воротиться, как шум каната, топот людей и свисток не давали мне спать, и я уходил уснуть в общую каюту, как я прежде в качку не мог ступить шагу и просиживал по суткам на одном месте или падал со всех ног при малейшем покушении пройти, как мечтал о возвращении в Россию и как, наконец, привык ко всему: в качку хожу, как матрос, сплю и не слышу подчас пушечного выстрела, ем и не проливаю супа, когда стол ходит взад и вперед, как, наконец, привык к этой странной, необыкновенной жизни и как не хочется воротиться». Правда, спустя два месяца после названного выше письма к Е. А. и М. А. Языковым он писал И. И. Льховскому другое: «Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит <...> по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни — словом — жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли. <...> я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а мне уже о сю пору скучно» (письмо от 26 июля-20 августа (7 августа-1 сентября) 1853 г.).1
Подобные частые смены настроения были вообще характерны для Гончарова: в условиях же новой и непривычной жизни для них были и свои особые, специфические причины. Прежде всего писателя волновало, удастся ли ему справиться с обязанностями секретаря адмирала; его пугало незнание морского дела, морской терминологии. Но главным образом его тревожила невозможность работать над романами в условиях корабельной жизни. Все это привело к тому, что еще на пути в Англию Гончаров принял решение возвратиться в Петербург. Ему удалось добиться согласия И. С. Унковского и Е. В. Путятина — но, верный своему характеру, он внезапно отказался от такого намерения. И в этом немалая роль принадлежала его новому окружению. В письме к Е. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. он писал: «Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они — странно — опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался. Я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет. <...> Некоторые2 побежали к капитану и просили опять поговорить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу — а они! чудаки!». А позднее, в главе
- 417 -
«Острова Бонинсима», упомянув о собственном нездоровье, Гончаров вспоминал: «Каюта моя, во время моей болезни, обыкновенно полнехонька была посетителей: в ней можно было поместиться троим, а придет человек семь...» (наст. изд., т. 2, с. 301).
Состав кают-компании «Паллады» был в определенном смысле исключительным — и не только потому, что русское морское офицерство всегда было элитарным. Дело в том, что Путятин, по словам мемуариста, умел «выбирать людей и окружать себя талантливыми личностями».1 А на «Палладе» собрались именно такие люди — начиная с самого адмирала.
Ко времени знакомства Гончарова с Евфимием Васильевичем Путятиным (1803—1883) последний был не только видной фигурой в дипломатическом мире, но и боевым офицером, героем целого ряда военных кампаний и десантных операций, имел несчетное количество орденов и наград, в том числе статутного Георгия. Велики были заслуги Путятина и по адмиралтейству: ему принадлежала главная роль в реорганизации русского флота в связи с введением в него паровых судов. Он был известен также как военный специалист по Дальнему Востоку. Поэтому, когда в правительственных кругах встал вопрос об экспедиции к берегам Японии, главой ее был назначен именно Путятин. После японской экспедиции он был награжден орденом Белого Орла «за важные государственные заслуги» и возведен в потомственное графское достоинство. В 1858 г. Путятин был произведен в адмиралы и награжден орденом Св. Александра Невского. А в 1881 г. японцы наградили его орденом Восходящего Солнца 1-й степени.
Это был человек прекрасно образованный, отличавшийся достаточной широтой убеждений, с явными наклонностями воспитателя:2 «Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, — сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать <...> кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее» (наст. изд., т. 2, с. 372). Аристократ-англоман (женатый, к тому же, на англичанке), он в то же время был глубоко религиозен и обладал обширными познаниями в области духовной литературы. Биограф капитана И. С. Унковского, моряк В. К. Истомин, пишет, что на «Палладе» «в течение дня многократно раздавалось молитвенное пение, то и дело в каюту адмирала требовали фрегатского иеромонаха, а в свободное от служебных и молитвенных занятий время адмирал любил слушать чтение „Жития святых” или
- 418 -
другие душеспасительные книги» (Истомин. С. 61).1 Один из членов экипажа «Паллады» рассказывает, что он «сам читал Апостола, Часы и т. п.» (Линден. С. 142). Истомин отмечает также, что «глубокая религиозность Путятина и благородство его души сказались впоследствии поистине геройским поступком» (Истомин. С. 61). Зная, что в Японии действует закон, по которому переход подданного в христианство карался смертной казнью, Путятин принял на борт «Дианы» бежавшего от неминуемого наказания японца-христианина. «Диана» затонула, и команда оказалась в полной зависимости от японцев, в категорической форме потребовавших выдачи беглеца. Сначала они грозили не давать команде провизии, потом заявили, что вынуждены будут применить силу. Тогда «на собранном совете Путятин объявил решение в случае необходимости расположить команду „Дианы” в каре, по углам каре поставить спасенные пушки и, защищаясь до последней крайности, умереть всем до единого, но не выдавать единоверца...». И японцы уступили, «пораженные благородной решимостью» адмирала (Там же. С. 63). «Благородство души» Путятина было преобладающей чертой характера, заставлявшей забывать о его несдержанности, придирчивости, недоверии к подчиненным, вспыльчивости,2 мелочности, даже скупости — особенно во всем, что касалось «казенной копейки» (Там же. С. 64—69).3
- 419 -
Гончаров пользовался бесспорным расположением Путятина, сказавшимся в той готовности, с которой адмирал взял его на должность секретаря экспедиции, а затем и в том понимании, с которым он отнесся к его просьбе о возвращении из Англии в Петербург,1 хотя это поставило бы его самого в весьма затруднительное положение, нарушив прежние расчеты и планы. Особое отношение адмирала к своему секретарю было подмечено и проницательными японцами, принявшими Гончарова за фигуру влиятельную и важную, чуть ли не вторую после самого Путятина.2 В одном из поздних писем (из Якутска к Майковым от 14 сентября 1854 г.) Гончаров признается: «...он постоянно оказывал мне особенное внимание и уважение, перешедшее под конец в какое-то весьма приязненное чувство, и всегда ценил мои труды». Благодарность Гончарова Путятину переросла в дружескую привязанность. «Мой бывший отец и командир», — так характеризуется Путятин в письме к А. В. Никитенко из Мариенбада от 29 июня (10 июля) 1861 г.3 И в последующие годы отношения между Гончаровым и адмиралом не прерывались (см., например: Летопись. С. 70).
Командиром «Паллады» был флигель-адъютант капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский (1822—1886), моряк-черноморец, ученик и в течение семи лет адъютант знаменитого адмирала М. П. Лазарева, позднее адмирал. В. А. Римский-Корсаков в письме от 20 декабря 1853 г. (1 января 1854 г.) к родителям так характеризовал этого человека: «Я очень сблизился с Унковским <...> и в службе и в дружбе постоянно рядом. Он человек весьма доброго сердца, с благородными правилами, с открытым нравом и притом
- 420 -
любящий свое дело, бойкий и лихой офицер» (Римский-Корсаков. С. 135).
Биограф Унковского, тоже подчеркнувший доброту и душевную чистоту этого «необыкновенного» человека, перечисляет и другие качества, отличавшие командира, — «...энергию, упорство в достижении намеченной цели, прямолинейность, чуждую всяких соглашений и уступок, и во главе всего идеальную бесстрашную правду и истинное бескорыстие, чуждое тщеславия и честолюбия» (Истомин. С. 7). Но некоторая прямолинейность капитана и вспыльчивость Путятина не раз приводили к серьезным столкновениям, одно из которых чуть не закончилось дуэлью.1 «Главная причина неприятностей между Иваном Семеновичем и Путятиным, — пишет Истомин, — заключалась в том, что последний вмешивался во внутренний распорядок фрегатской жизни, часто требовал исполнения приказаний шефских вразрез со взглядами капитана и, раз предъявив свои требования, не отступал ни перед какими доводами. <...> Путятин, вмешивался решительно во все. Страстный и горячий от природы, Унковский тяготился невыносимо» (Истомин. С. 66). Разумеется, Гончаров по своей близости к обоим не мог не знать характера их взаимоотношений, но в книге нет даже намека на какой-либо конфликт. Не случайно писатель подчеркивал, что напрасно от него ждут, что он станет «историографом» похода.
С самого момента появления Гончарова на судне Унковский был к нему особенно внимателен. 3—4 (15—16) ноября 1852 г. Гончаров писал Е. А. и М. А. Языковым: «...он так ласков и внимателен ко мне, что я не знаю, как и отблагодарить его. Обедаю я у него ежедневно; он всячески устраняет все неудобства путешествия и делает всё, чтобы мне было сноснее, полагая, что я и хандрю от скуки на фрегате». Но если вначале это объяснялось просьбой, содержавшейся в рекомендательной записке к Унковскому,2 то вскоре отношения приняли чисто дружеский характер: от приглашения «посидеть вечерок» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.)) и обычая приходить после обеда в капитанскую каюту выкурить сигару дело перешло к ежевечерним беседам.3 В указанном выше письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г. Гончаров рассказывает: «Четверо нас
- 421 -
собираемся всегда у капитана вечером закусить и сидим часов до двух. Вот и Иван Иваныч (друг и товарищ Унковского, капитана) (И. И. Бутаков. — Ред.) присутствует тут же».1
Еще на пути в Англию Унковский показывал Гончарову, «как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны» или «как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час» (наст. изд., т. 2, с. 26), а по прибытии в Портсмут он и И. А. Шестаков2 предложили Гончарову ехать вместе в Лондон. Унковский постоянно предоставлял Гончарову свой «просторный, удобный, даже роскошный, кабинет» (наст. изд., т. 2, с. 75), а по выходе на берег часто приглашал его в свой экипаж, чтобы показать ему на берегу как можно больше интересного, трогательно заботясь при этом, чтобы тот ног не замочил и чтобы зубы у него не заболели. Сложившиеся дружеские отношения позволили Унковскому попросить Гончарова уделить часть своего времени самому младшему члену экипажа и кают-компании. Это был «маленький, 13-летний Лазарев (сын адмирала), с которым я по просьбе капитана занимаюсь русским языком» (письмо к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г.).
В цитированном выше майском письме к Е. А. и М. А. Языковым, говоря о внимании к себе Унковского, Гончаров замечает: «Другие тоже все внимательны». В числе этих «других» был и капитан-лейтенант Константин Николаевич Посьет (1819—1899), потомок переселившегося в Россию француза. Первое свое плавание он совершил еще в 1837 г., всего на службе состоял в течение 52 лет, закончив ее в чине генерал-адъютанта, адмирала. Кроме высших российских наград Посьет имел ордена многих государств (Бразилии, Греции, Дании, Турции, Японии и др.). Он являлся почетным членом Академии наук и Географического общества, был известным исследователем северо-восточной части Тихого океана и автором сочинения «Вооружение военных судов» (1850), удостоенного полной Демидовской премии. По его инициативе был основан «Морской сборник», на страницах которого вскоре появились и отдельные главы «Фрегата „Паллада”». Посьет состоял при Путятине для особых поручений и был его правой рукой по дипломатической части. Владея голландским языком, на котором велись переговоры с японской стороной, он служил адмиралу переводчиком.3 Посьет возглавлял на «Палладе» так называемую «ученую партию».4 В кают-компании
- 422 -
фрегата «добрый» и «неугомонный» Посьет был носителем высоких духовных интересов, и это, наряду с его тактичностью, скромностью и спокойным, уравновешенным характером, конечно же влекло к нему Гончарова.
Во время стоянки «Паллады» в Портсмуте Посьет в течение трех недель был в Голландии, готовясь к предстоящим переговорам. А в ходе переговоров с японцами он вел дневник, записи которого могут служить в определенной мере «дополнением к гончаровским очеркам».1 В дневнике есть и упоминания о писателе.2
Дружеские отношения Гончарова и Посьета продолжались и после окончания совместного плавания. Гончаров бывал у него дома, познакомился с его женой Розалией Ипполитовной (урожд. Лан, в первом браке кн. Максутовой). В начале 1871 г. писатель по просьбе Посьета пишет статью «Спасительные станции на морях и реках» для газеты «Голос» (21 февр. № 52). В этом же году, узнав о предстоящем кругосветном плавании Посьета с великим князем Алексеем Александровичем3 на фрегате «Светлана», Гончаров просил включить его в состав экспедиции, но, получив согласие, отказался (см. об этом ниже, с. 436). Посьет и Гончаров переписывались и в 1873 и 1885 гг. (см.: Летопись. С. 309). Не все из этих писем сохранились. Об одном из несохранившихся писем известно из письма Гончарова к А. Ф. Кони от 11 января 1887 г. «Я не был на юбилее и своего приятеля Посьета, а писал ему», — говорит Гончаров по поводу отмечавшегося в этом году 50-летия службы своего товарища по плаванию.4 Из этого же письма явствует, что Гончаров бывал у Посьета многократно, встречаясь у него с друзьями по плаванию (например, с И. С. Унковским) и с японскими дипломатами (в письме к А. Ф. Кони от 14 августа 1887 г., например, говорится: «Японских посланников я знал всех, какие у нас были, и даже познакомился с женою одного из них — всё это у Посьета»).5
Еще одним товарищем Гончарова был с самого начала плавания Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822—1871), до получения под свое командование шхуны «Восток» (7 (19) ноября 1853 г. в Портсмуте) плывший на «Палладе».
Представитель древнего и славного аристократического рода Корсаковых, племянник адмирала Н. П. Римского-Корсакова, отличившегося в 1812 г. при Бородине, Римский-Корсаков начал свою
- 423 -
службу сразу по окончании Морского кадетского корпуса (в 1838 г.) и к 1852 г. проделал несколько морских кампаний. К этому же времени он напечатал ряд статей в «Морском сборнике» и вместе с одним из своих сослуживцев перевел сочинение французского адмирала Ж. де па Гравьера «Морские войны времен Французской Республики и Империи», ставшее настольной книгой русских офицеров-моряков. В путятинской экспедиции на долю Римского-Корсакова приходились научно-исследовательские изыскания. Став командиром шхуны, служившей Путятину рассыльным судном, Корсаков должен был осуществлять (помимо общих дел по экспедиции) сбор сведений о разных районах Дальнего Востока, в том числе об острове Сахалин, заниматься (вслед за Г. И. Невельским) гидрографическими исследованиями Татарского пролива и устья Амура; именно Корсакову удалось провести по обнаруженному Невельским фарватеру в Татарском проливе свою шхуну в устье Амура (и это было первое морское судно, которое проследовало этим путем).1
Римский-Корсаков отличался обширными знаниями, прямодушием и гуманностью,2 что, несомненно, импонировало Гончарову.
Время совместного плавания на «Палладе» было временем их тесного общения. Об этом свидетельствуют прежде всего строки из письма Римского-Корсакова к родителям от 14 (26) октября 1853 г.: «Еще у меня есть здесь приятный собеседник Иван Александрович Гончаров, человек уже сорока лет, известный в нашей литературе весьма интересным романом „Обыкновенная история” <...> который мною прочитан с большим удовольствием. Этот Гончаров — чиновник Департамента внешней торговли, взятый Путятиным в качестве секретаря, но, вероятно, настоящая роль его будет историографическое описание экспедиции. Мне сильно хотелось приманить его к себе в товарищи на шхуну. Он составил бы мне весьма приятную компанию» (Римский-Корсаков. С. 40). Представление о Гончарове как историографе похода, вероятнее всего, возникло у Римского-Корсакова в результате общения с писателем, с предельной откровенностью (это будет видно из позднейших писем Римского-Корсакова) поверявшим новому товарищу свои опасения, планы и намерения. Возможно, что делился Гончаров с Корсаковым и своими замыслами, относящимися к будущей книге «Фрегат „Паллада”». Вслед за Гончаровым в 1858 г. в № 5—6 «Морского сборника» Римский-Корсаков поместил очерки «Случаи и заметки на винтовой шхуне „Восток” (из воспоминаний командира)», служащие, как и очерк К. Н. Посьета, своеобразным «профессиональным» дополнением к книге Гончарова.3
- 424 -
На страницах «Фрегата „Паллада”» Римский-Корсаков впервые упоминается в связи с книгой «История кораблекрушений», которую молодой, но опытный моряк дал новичку со словами: «для успокоения воображения...» (наст. изд., т. 2, с. 28). В дальнейшем упоминания о Корсакове не так часты и к концу книги становятся все реже. И это не только потому, что Корсакова не было на «Папладе».1 Дело в том, что после почти трехмесячного совместного пребывания в Англии командир шхуны гораздо сдержаннее, чем прежде, отзывается о своем «приятном собеседнике». В строках письма Корсакова к родным от 24 декабря 1853 г. (5 января 1854 г.) чувствуется даже скептическое отношение к Гончарову. Во многом этот скепсис, вероятно, объясняется мнением о писателе отца Римского-Корсакова — Андрея Петровича, выраженным в письме к сыну (это письмо неизвестно, но о содержании его можно судить по ответному письму сына к отцу). «В письме вашем, — обращается к отцу В. А. Римский-Корсаков, — вы изъявляете опасения, чтоб я не подвергся влиянию взгляда на вещи Гончарова. Надеюсь, что я уже в таком возрасте, что пыл воображения во мне несколько остыл и что едва ли уже теперь могут меня совратить с моих правил умствования какого-нибудь самореченного философа, как бы красноречив он ни был <...>. К тому же Гончаров далеко не имеет в себе той обворожающей привлекательности, какую имеют все люди, обладающие истинным красноречием. Это просто ленивейший из эпикурейцев, расплывшийся от сытных обедов и послеобеденной высыпки, человек, приятный в беседе, но в сообществе часто тягостный по своему слабонервному, бабьему темпераменту, который мучит его разными страхами, заставляющими его охать и наводить на всех тоску. Я в нем несколько ошибся» (Римский-Корсаков. С. 50). Слова об «эпикурействе» Гончарова, о его «слабонервном» темпераменте сказаны, видимо, в какой-то мере под впечатлением от излишне откровенных признаний Гончарова. Он делился с Корсаковым своими сокровенными переживаниями, как с истинным другом, не приняв во внимание, что перед ним человек военный, категоричный в суждениях,2
- 425 -
нетерпимо относящийся к человеческим слабостям и малейшим нарушениям дисциплины.
В числе «ночных собеседников» (см. выше, с. 420—421) Гончарова назван лейтенант Иван Иванович Бутаков (1822—1882), старший офицер, второе лицо1 на «Палладе». На нем лежала особая ответственность за судно во время шторма или бури (см.: наст. изд., т. 2, с. 71). В 1862—1864 гг. Бутаков участвовал в экспедиции С. С. Лесовского (своего старого товарища) к берегам Америки, командуя фрегатом «Ослябя»;2 впоследствии стал вице-адмиралом; с 1873 г. состоял в свите Александра II. В упоминавшемся выше письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г. Гончаров пишет о Бутакове: «Он весь век служил в Черном море — и недаром: он великолепный моряк.3 При бездействии он апатичен и любит приткнуться куда-нибудь в угол и поспать; но в бурю и вообще в критическую минуту4 — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту, орет так, что, я думаю, голос его разом слышен и на Яве, и на Суматре. Он второе лицо на фрегате — и чуть нужна распорядительность, быстрота: лопнет ли что-нибудь, сорвется ли с места, потечет ли
- 426 -
вода потоками в корабль, — он тут — голос его слышен над всеми и всюду, а быстрота его соображений и распоряжений — изумительна». Этот портрет дополняется несколькими штрихами (тоже из писем), подчеркивающими молодость моряка, его веселый нрав и дружеское расположение к Гончарову. Бутаков у Гончарова почти всегда в компании молодых и веселых людей — барона Н. А. Крюднера, К. И. Лосева и барона А. Е. Шлипенбаха.1 В самом начале плавания, во время сильной качки в Английском канале, все эти «отличные приятели» проявляли большое участие к товарищу-новичку. В письме к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г. Гончаров, рассказывая о все усиливающемся шторме, пишет: «...меня с диваном бросило от стены в сторону. Сначала бывшие тут офицеры: Крюднер, Бутаков и Лосев — напугались, думая, что диваном ушибет меня, но когда увидели, что диван помчался к дверям, а я перевалился прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, разразились хохотом, за ними и я».
Путятин, Унковский и Посьет чаще всего лишь упоминаются во «Фрегате „Паллада”» — вероятно, потому, что принадлежали к высшему судовому начальству; что же касается равных Гончарову по положению и особенно младших товарищей, то писатель позволяет себе «рисовать» и «шутить»: дает портретные зарисовки, воспроизводит речь, а иногда иронизирует по поводу черт характера, отдельных поступков, внешности того или иного лица и т. п. С юмором рассказывается в книге, как Гончаров и Бутаков на Мадере «отведывают» «нашего северного плода» — зеленого лука (наст. изд., т. 2, с. 97). В юмористической сценке (глава «Манила»), в которой Гончаров, Бутаков и Крюднер торопятся на местном катере на свой фрегат, где устроен прием, воспроизводится такой диалог: «„Не взять ли рифы?” — спросил барон Крюднер. „Надо бы, да тогда тише пойдем, не поспеем прежде гостей, — сказал Бутаков, — вот уж они где, за французским пароходом: эк их валяет!”» (наст. изд., т. 2, с. 573).
Упомянутый выше К. И. Лосев, артиллерийский офицер на «Палладе»,2 автор статьи «О нагасакских укреплениях» (МСб. 1856. № 6. Ч. IV. С. 300—306), впоследствии генерал, был, по словам
- 427 -
Гончарова, до плавания «хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России» (наст. изд., т. 2, с. 568). Лосев входил в число постоянных собеседников и товарищей писателя. Почти всегда его имени сопутствуют шутка, юмор. В главе «Атлантический океан и остров Мадера» Гончаров сетует вслух: «Боже мой! кто это выдумал путешествия? <...> только и видишь серое небо и качку!». И продолжает: «Кто-то засмеялся. „Ах, это вы!” — сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей, К. И. Лосев». Но если в этом эпизоде обыгрывается лишь рост моряка, то следующая ниже сценка, в которой Лосев опять входит в каюту Гончарова и учит его, как устоять на ногах во время качки, дает о нем самое живое представление:
« — А вы скорей садитесь на пол, — сказал он, — когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!
Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.
— Вот, вот так! — учил он, опускаясь на пол. — Ай, ай! — закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, а он стремительно домчался вплоть до меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня» (наст. изд., т. 2, с. 79, 81). Эти строки дополняются упоминанием о гоголевской «Женитьбе», поставленной на Нагасакском рейде силами моряков: «Смешон Лосев свахой» (наст. изд., т. 2, с. 371).
Среди моряков, оказывавших Гончарову особое и постоянное внимание, был и «дед» — уже трижды ходивший в кругосветное плавание Александр Антонович Халезов (Хализов; ум. 18771), впоследствии генерал-майор корпуса флотских штурманов, корабельная сибилла (наст. изд., т. 2, с. 339) и «морской» учитель Гончарова, — и не только потому, что постоянно отвечал на все вопросы писателя; но если тот вопросов и не задавал, то задавал их сам «дед» и тут же отвечал на них. Он заражал не раз падавшего духом писателя своим оптимизмом и уверенностью. «У него всё отлично, — пишет Гончаров. — Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час — „славно, отлично!” — говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад — „чудесно! — восхищается он, — по полтора узла идем!”. На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр <...> в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль — ему всё равно. Близко ли берег, далеко ли — ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. „Отлично!” — твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. <...> За своеобразие ли, за доброту ли — а его все любили» (там же, с. 80—81).
Халезов у Гончарова чаще всего «ворчит», но по-доброму. Так, в ответ на нетерпеливую мольбу Гончарова показать ему созвездие
- 428 -
Южного Креста, раздаются отрезвляющие слова: «Дался им этот Крест, — ворчал дед, спускаясь в люк, — выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды...» (там же, с. 104); ответ же на другое требование сопровождается ворчливо-добродушной укоризной:
« — Где ж она? подайте луну, — сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх.
— Нет, уж она в Америку ушла, — сказал он, — еще бы вы до завтра сидели в каюте!» (там же, с. 242—243).
Близок был Гончарову и хозяин кают-компании, «общий баловень на фрегате» (там же, с. 427), лейтенант Петр Александрович Тихменев (ум. 1888), впоследствии служащий Российско-Американской компании. Большой знаток морской истории, автор двухтомного труда «Историческое обозрение Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени» (СПб., 1861—1863),1 удостоенного Демидовской премии, он не любил морской службы и принадлежал на фрегате к так называемой «артистической партии».
Тихменев появляется уже в самом начале книги и остается до последних ее страниц (он возвращался в Петербург вместе с Гончаровым через Сибирь). Представив своим читателям этого «миньятюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола» (наст. изд., т. 2, с. 21), Гончаров далее разворачивает характеристику Тихменева: «Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. <...> Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем» (там же, с. 31—32). В главе «На мысе Доброй Надежды» дается такой шутливо-иронический портрет Тихменева: «П. А. Тихменев, — пишет Гончаров, — успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычачьей ногой и арбузами» (там же, с. 128). В книге не раз изображается манера поведения и речи Тихменева, особенно колоритно — в эпизоде ночлега на битком набитой шхуне, направлявшейся в Шанхай: «Пришел П. А. Тихменев, учтиво попросил у нас позволения лечь на полу! „Надеюсь, что вы позволите мне, — начал он, по своему обыкновению, красноречиво, — занять местечко: я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому” и т. д. Ему никто не ответил, все спали или дремали; он вздохнул, разостлал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу» (наст. изд., т. 2, с. 442). Выражение лица этого персонажа чаще всего озабоченное, а то и подозрительное: «... он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины,
- 429 -
от слоеного пирога — того и гляди обидится и спросит: „Разве дурна баранина, черств пирог?” — или патетически воскликнет, обратясь ко всем: „Посмотрите, господа: ему не нравится стол! Если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого...”» (там же, с. 286). Тихменев часто «сокрушительно» вздыхает (там же, с. 322) по поводу «продовольствования» членов кают-компании. В главе «Обратный путь через Сибирь» он, как «взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством», обращается к сузившемуся кругу своих товарищей: «„Нет, уж курочки и в глаза не увидите, — говорит он со вздохом, — котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть”. Схватит фуражку и побежит опять» (наст. изд., т. 2, с. 640).
Столь же часто упоминается в книге большой приятель Гончарова, член гвардейского экипажа, флигель-адъютант великого князя Константина Николаевича барон Николай Александрович Крюднер (Криднер). Светский человек, эпикуреец и эстет, умевший, по словам писателя, жить «настоящим мгновением, зато уж жить вполне», он, без сомнения, привлекал внимание Гончарова, занятого в это время обдумыванием плана романа «Художник». «Никто скорее его не входил в чужую идею, — продолжает писатель, — никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению» (наст. изд., т. 2, с. 207). Упоминая о репетициях «Тяжбы» на Нагасакском рейде, Гончаров подчеркивает: «...барон Крюднер дирижировал всем» (там же, с. 371).
С личностью барона связаны и размышления Гончарова о воспитании вообще и о светском воспитании в частности (там же, с. 57; ср.: наст. изд., т. 1, с. 791—792), имеющие отношение и к продолжавшейся во время плавания работе над романом «Обломов». Молодой Крюднер был постоянным спутником Гончарова во всех береговых экскурсиях и путешествиях, о чем не раз упоминается в книге.1 Он искренно привязался к Гончарову, сочувствовал ему, когда тот болел; будучи занят, всегда находил минуту, чтобы заглянуть в каюту писателя и сообщить ему какую-либо новость («Только барон Крюднер забежал на минуту. — Узкость проходим! — сказал он и исчез» — наст. изд., т. 2, с. 301—302). Гончарову все импонировало в этом человеке, он пишет о нем с явной симпатией, даже когда упоминает (и довольно часто) о непомерном аппетите Крюднера2 («Как много барон съел мяса и живности...» —
- 430 -
наст. изд., т. 2, с. 185; «...барон много ел...» — там же, с. 215), его гастрономических пристрастиях, занимавших столь важное место в его жизни (его «гастрономические наклонности были развиты до тонкости» — там же, с. 222), и далеко не блестящей внешности («Впереди меня плелся барон Крюднер на своих тоненьких ногах...» — там же, с. 307).1 Такое же теплое чувство ощущается в рассказе о его храбрости, проявленной в тот момент, когда на фрегате, узнав о начавшейся Восточной войне, мечтали «поймать французское или английское судно». Гончаров замечает: «Барон Крюднер счел нужным и сам вооружиться. Он появился на палубе с двумя заряженными пистолетами, опустив их, по рассеянности, дулом в карман. Он, по рассеянности же, не заметил, как я вынул их оттуда и отдал Афанасью, его камердинеру, положить на свое место» (там же, с. 630).
Часто вместе с Н. А. Крюднером упоминается Павел Алексеевич Зеленый (ум. 1891). Мичман на «Палладе», потом на «Диане», он в 1857—1860 гг. совершил еще одно кругосветное плавание; впоследствии стал контр-адмиралом, генерал-лейтенантом, с 1885 г. был одесским градоначальником.2 Гончаров дает запоминающийся портрет молодого моряка: «Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости, оттого в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось: он любит и отлично знает свое дело, серьезно понимает и исполняет обязанности, строг к самому себе и в приличиях — это возмужалость. Но беспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий; читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества, — это остатки юношества. Возьмет книгу, всё равно какую, и оставит ее без сожаления; ляжет и уснет где ни попало и когда угодно; ест всё без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград ест с шелухой, „чтоб больше казалось”. Он очень мил; у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее3 и рассказывающее,
- 431 -
никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. <...> Он сию минуту уживается в быту, в который поставлен. Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии: это был драгоценный спутник» (наст. изд., т. 2, с. 181—182). Спустя двадцать лет после плавания Гончаров назовет Зеленого «милейшим из прежних моих спутников» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 334). Зеленый, так же как Гончаров и Крюднер, был представителем «артистической» партии на «Палладе». Гончаров отличает его и среди участников спектакля «Женитьба» («...мичман Зеленый хоть куда: у него природный юмор, да он еще насмотрелся на лучших наших комических актеров» — наст. изд., т. 2, с. 371), и среди других рассказчиков кают-компании (он «вдруг пускался рассказывать, то детскую шалость, отрывок из воспитания, то начертит чей-нибудь портрет, характер или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия» — наст. изд., т. 2, с. 207).1 Излагая смешной эпизод, связанный с Зеленым: «Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, Змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник <...> пустился <...> такими скачками вперед <...> что мы с бароном «становились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки» (там же, с. 223—224), — автор замечает, что это был человек «не робкий, хохочущий и среди опасностей» (там же, с. 223). Позже Гончаров расскажет о происшествии, свидетельствующем о недюжинной храбрости Зеленого: «...вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли, наконец Зеленый врезался с своей шлюпкой в средину их лодок так, что у одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат» (там же, с. 607).
Из других членов экипажа «Паллады» в книге часто упоминается лейтенант Никанор Никанорович Савич (ум. 1860), — «один из самых лихих моряков» (письмо Гончарова к М. А. Языкову от 17 августа 1854 г.), спутник писателя во время пребывания в Капской
- 432 -
колонии. «Мы вдвоем с Савичем <...>, — пишет Гончаров, — отправились в Саймонстоун <...> только Савич, проехавший тут один раз, наперед рассказывал все подробности местности, всякую отмель, бухту, ферму: удивительный глаз и славная память!» (наст. изд., т. 2, с. 230). «Смельчак Савич» особенно поразил воображение Гончарова во время шторма близ островов Бонинсима, когда он «гремел в рупор над ревом бури». «Савичу точно праздник, — продолжает Гончаров, — выпачканный, оборванный, с сияющими глазами, он летал всюду, где ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный след» (там же, с. 299). Савич, как и его товарищи, по-своему «протежирует» Гончарову. Во время шторма, «классического, во всей форме», описанного в главе «От мыса Доброй Надежды до острова Явы», он не забывает показать его писателю: « — Что вы тут стоите? пойдемте вверх, — сказал мне Н. Н. Савич и, ухватив меня мимоходом, потащил с собою бегом» (там же, с. 242); в другой раз, когда команду было решено свезти на берег одного из островов Бонинсима, Гончаров отмечает: «Ко мне пришел Савич сказать, что последняя шлюпка идет на берег, чтоб я торопился» (там же, с. 305). Симпатия Гончарова к моряку проявилась и в описании их совместного путешествия по берегу: «Савич далеко шел вперед и ломал деревья, как медведь; слышен был только треск по его следам» (там же, с. 306—307).
Не раз говорит Гончаров и о молодом моряке Алексее Алексеевиче Пещурове (1834—1891), пришедшем на «Палладу» гардемарином и оказавшемся в числе учеников писателя;1 во время русско-японских переговоров Пещуров, одновременно с Гончаровым, «записывал разговоры» (на протоколах переговоров в конце помета: «Записывал разговоры при свиданиях мичман2 Пещуров» — АВПР, л. 225); столь же тесным было их общение во время описи корейского берега.3 Впоследствии Пещуров получил чин вице-адмирала и был управляющим Морским министерством. Свои впечатления от плавания на «Палладе» он изложил в книге «Плавание в Японском море».4
К «ученой» партии «Паллады» кроме упоминавшегося выше К. Н. Посьета принадлежали еще несколько человек, особенно близких
- 433 -
Гончарову. Прежде всего это архимандрит Аввакум (в миру — Дмитрий Семенович Честной; 1804—1866) — миссионер, востоковед, дипломат и переводчик. В 1824 г., будучи иеромонахом, он отправился в составе русской миссии в Пекин. За продолжительный период своей в высшей степени плодотворной миссионерской деятельности о. Аваакум изучил китайский, маньчжурский, монгольский, тибетский и корейский языки, «стал одним из замечательнейших ученых своего времени».1 В 1842 г. он был избран действительным членом конференции С.-Петербургской духовной академии. В экспедиции о. Аввакум успешно совмещал священнические и переводческие занятия. Путятин высоко оценил его деятельность. Исключительно тепло о нем отзывались и другие современники. «Кто знал его близко, не мог не любить. Это был светильник, который не для себя существовал, но от которого заимствовало свет и теплоту все, что окружало его».2
О. Аввакум был постоянным спутником и собеседником писателя; кроме того, во время переговоров с японской стороной он переводил документы, составленные Гончаровым. Этот персонаж книги обрисован с мягким и добродушным юмором, превосходно подчеркивающим его духовную красоту. К тому же «штатские» привычки и рассеянность этого человека так симпатично выделялись на фоне строгой и жестко регламентированной жизни на фрегате. Колоритен, в частности, эпизод «комического свойства», случившийся с о. Аввакумом, который, забывшись, плюнул на «самое парадное, почти священное место» — шканцы: «А отец Аввакум — расчихался, рассморкался и — плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтоб воздержаться от какого-нибудь замечания, как я — от смеха. „Как жаль, что он — не матрос!” — шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею» (наст. изд., т. 2, с. 729).
В высшей степени импонировали Гончарову такие черты характера архимандрита, как скромность («Он не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных, неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много — и своими познаниями, и нравственным влиянием на весь кружок плавателей, не поучениями и проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души» — наст. изд., т. 2, с. 729), умение сохранять спокойствие, — даже в обстоятельствах начавшейся войны («Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти и ко всему, невозмутимо-покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов <...> то и не предполагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в
- 434 -
людях, ни в кораблях» — там же, с. 728), юмор («В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора» — там же, с. 729). Об о. Аввакуме Гончаров пишет с исключительной теплотой: «Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств — и в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко: ему не нужно было уменья — он иным быть не мог» (там же, с. 729). О. Аввакум, в освещении Гончарова, не только добрый пастырь и энциклопедически образованный человек, но в подлинном смысле нравственный центр кают-компании, идеальный человек, «всеми любимый и сам всех любивший» (там же, с. 728).
Особое место в книге занимает переводчик Осип (Иосиф) Антонович Гошкевич (1814—1871), чиновник Министерства иностранных дел, знаток Дальнего Востока и японист, член «ученой партии» «Паллады». После гибели «Дианы» и во время строительства шхуны «Хеда» он познакомился с бывшим самураем Татибана Косаем, помог ему покинуть Японию и поселиться в Петербурге. Здесь, в 1857 г., он с помощью Косая выпустил в свет «Японско-русский словарь», удостоенный в следующем году Демидовской премии. В 1858—1865 гг. Гошкевич был первым русским консулом в Хакодате, много сделавшим для просвещения японцев (он, например, знакомил их с метеорологией, фотографией). В эти же годы он продолжал свои китайские исследования,1 а также изучение японского языка, результатом чего явилась опубликованная посмертно монография «О корнях японского языка» (Вильно, 1899). Во время путятинской экспедиции Гошкевич собрал большие геологические и естественнонаучные коллекции (последние находятся в петербургском Зоологическом музее и в Эрмитаже).2 Характерно, что Гончаров подчеркивает именно эту сторону деятельности Гошкевича («Наш любитель-натуралист...» — наст. изд., т. 2, с. 131).3 Читатель видит этого человека до «самопожертвования» поглощенным «лягушками», «морскими ежами», «раковинами», «цветами», «прутьями», «листьями»: «...натуралист, если и не спал, то копался с слизняками, раками или букашками; он чистил их, сушил и т. п.» (там же, с. 151—152); «Он был близорук до
- 435 -
слепоты,1 и ему надо было ползать в траве, чтоб увидеть насекомое. <...> Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку — везде» (там же, с. 220). Энтузиазм Гошкевича заразил и писателя: в Гонконге он из-за этого чуть не попал в неприятельский лагерь: «На набережной я увидел множество крупных красных насекомых, которые перелетали с места на место: мне хотелось взять их несколько и принести Гошкевичу. Гоняясь за ними, я нечувствительно увлекся в ворота казарм...» (там же, с. 289). Коллекции Гошкевича, помимо издаваемого ими запаха, причиняли и другие неудобства его спутникам. Гончаров так описывает совместное с Гошкевичем возвращение из поездки по Капской колонии (он ехал в одном «карте» с «ученой партией»): «Нельзя прижаться спиной: что-то лежит сзади; под ногами тоже что-то лишнее. „Вы не прижимайтесь очень спиной, — говорил мне натуралист, — там у меня птицу раздавите”. Я подвинулся <...>. „Ах, поосторожнее, пожалуйста! — живо предупредил он меня, — там змея в банке, разобьете!” <...> Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею: не знали, околела она или нет» (там же, с. 236).2
Еще одним представителем «ученой партии» на «Палладе» был лейтенант Иван Петрович Белавенец (ум. 1878), который вел в экспедиции магнитные и астрономические наблюдения. Он был выдающимся гидрографом и математиком, знатоком прикладной астрономии. После плавания он был командирован в Лондон для изучения компасного дела — так было положено начало его «короткой, но блестящей» карьере изобретателя. Благодаря его научным исследованиям (в сотрудничестве с его коллегой И. П. де Колонгом) «компасное дело в русском флоте было поставлено выше, чем в каком-либо другом государстве. Оба офицера были удостоены редкой награды: каждый из них получил золотой компас с тридцатью двумя бриллиантами — по числу румбов».3 Закончил Белавенец свой жизненный путь в чине капитана 1-го ранга, «служившего в магнитной обсерватории в Кронштадте» (наст. изд., т. 2, с. 739). Гончаров называет его имя в «скорбном списке» в эпилоге «Через двадцать лет».
Последняя «морская» глава книги «Фрегат „Паллада”» заканчивается словами: «Но если б вы знали, что это за изящное, за
- 436 -
благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю „Палладу!”» (там же, с. 627). Благодаря всем этим людям, а также и остальным членам экипажа «Паллады» (и других судов эскадры), лишь иногда упоминаемым в книге, Гончаров с первого дня пребывания на судне чувствовал себя там «как дома» (наст. изд., т. 2, с. 21). И им же он был во многом обязан появлением своей книги.1
***
Гончаров в своих наблюдениях не ограничивался кругом своих ближайших товарищей, членов кают-компании. В поле его зрения были и прочие (строевые и нестроевые) чины, имена которых не перечисляются в «Отчете Морскому министерству о плавании эскадры генерал-адъютанта графа Е. В. Путятина в Японию и Китай. 1852—1854» (см.: наст. т., с. 138—139); эти люди живут и действуют в книге.
В полемически акцентированном предисловии к очеркам «Слуги старого века» Гончаров писал: «Упрекая меня в неведении народа и мнимом к нему равнодушии, замечают, в противоположность этому, что я немало потратил красок на изображение дворовых людей, слуг.
Это правда. На это бы прежде всего можно было заметить, что слуги, дворовые люди, особенно прежние крепостные, — тоже „народ”, тоже принадлежат к меньшей братии». Несомненно «народом» являлись и матросы «Паллады», неотъемлемая часть этого своеобразного «уголка России», «маленького русского мира», в специфических условиях морской экспедиции сохранявшего близость с материком, с Обломовкой, на что неоднократно обращает внимание автор-повествователь. Это на них в первую очередь обрушивались все тяготы плавания; они сильнее всего страдали от многочисленных болезней, первыми и умирали, о чем Гончаров пишет исключительно скупо, нехотя, не желая останавливаться долго на мрачной, трагической стороне экспедиции: «Всё было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. <...> Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно» (там же, с. 23). Даже в эпилоге книги «Через двадцать лет», где в центр повествования помешен рассказ о «страшных» и «опасных» минутах плавания, Гончаров стремится уравновесить описание этих минут комическими эпизодами и утешительными рассуждениями-обобщениями: «Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу,
- 437 -
грозят нам опасности, часто, к спокойствию нашему, не замечаемые. Зато, как будто для уравновешения хорошего с дурным, всюду рассеяно много „страшных” минут, где воображение подозревает опасность, которой нет» (наст. изд., т. 2, с. 720).
В художественном пространстве «Фрегата „Паллада”» безусловно преобладает хорошее над дурным, комическое над драматическим, обыкновенное, будничное над страшным и трагическим. Это относится в равной степени к описанию жизни как кают-компании, так и матросов — крепостных крестьян, помещенных в условия морского режима, по своей суровости отчасти близкого к тюремному статусу острожной «артели». Гончаров, отделенный от народа сословно, живописует его как наблюдатель, хотя и весьма близко находящийся. Собственно, этот мир для «барина» и чиновника Гончарова почти столь же любопытен и характерен, как и далекие страны и континенты, которые предстояло увидеть. В часы, свободные от службы, матросы становятся совсем похожи на крестьян, вынужденных к тому же делать и женскую работу: «Матросы уже отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку, с бака слышатся удары молотка по наковальне». Пение петухов усиливает ассоциации с мирной деревенской жизнью: «Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности» (наст. изд., т. 2, с. 118).
Повествователь-наблюдатель стоит в стороне не только от будничных матросских дел, но и — еще в большей, пожалуй, степени — от праздников, от народного веселья «по свистку» и в любую погоду: «Пляска имела вид напряженного труда. Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны» (наст. изд., т. 2, с. 24). Странное и тягостное зрелище вымученного, «каторжного» веселья, как оно представляется автору, очень сильно смягчено им, смирившим эмоции и не высказывающим прямо свое резкое неприятие «праздника». В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.) он не скрывает раздражения: «Сегодня праздники: меня в эти дни особенно прихватила хандра. Я всегда был враг буйного веселья, в армяке ли оно являлось передо мной или во фраке, я всегда прятался в угол. Здесь оно разыгралось в матросской куртке. Я вчера нарочно прошел по жилой палубе посмотреть, как русский человек гуляет. Группы пьяных, или обнимающихся, или дерущихся матросов с одним и тем же выражением почти на всех лицах: нам море по колено; подойди кто-нибудь: зубы разобью, а завидят офицерский эполет и даже мою скромную жакетку, так хоть и очень пьяны, а всё домогаются покоробиться хоть немножко — так, чтоб показать, что боятся или уважают начальство. Я ушел в свою каюту, но и сюда долетают до ушей топот, песни, звучные слова и волынка. Скучно, а уйти некуда».1
- 438 -
Но эти размышления и эмоции, видимо контрастирующие с общим изображением жизни морского сообщества как полуидиллической, мирной и согласной, в книгу не попали. Более того, описанную в главе I книги картину серого и дождливого воскресенья, когда после обеда «по свистку» начиналось веселье, уравновешивает эпизод масленицы: это веселье не форменное, а смешная импровизация в национальном духе: «Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге <...>. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц» (наст. изд., т. 2, с. 117).
Гончаров, разумеется, видел теневые, мрачные стороны жизни матросов (равно — крепостных крестьян), но совершенно не собирался акцентировать (в отличие, к примеру, от К. М. Станюковича) на этом внимание. Так, о таком явлении, как наказание линьками, широко распространенном на флоте, в книге он просто умалчивает и почти случайно касается его (причем в комическом ключе) в письме к Майковым (25—26 мая (6—7 июня) 1853 г.): «А на днях велел высечь Фаддеева. Последнее обстоятельство замечательно тем, что я с самого начала похода всё проповедовал о гуманности и жарко спорил с капитаном, который меньше 150 линьков виновным не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по званию. А вдруг и сам высек, но, будучи маленького звания здесь, выпросил, чтоб ему дали только 20. Худо служит, а знаете ли отчего: я не бью его, не кричу, а прошу и плачу жалованье. Невероятно, а правда». Естественно, что не прозвучала в книге и гуманная проповедь Гончарова.
Унтер-офицеры, рядовые, юнги, музыканты (все те, кто не входил в кают-компанию) не составляют у Гончарова безымянную и — тем более — безликую массу: это особый, индивидуализированный мир. Здесь свой язык, отдельные характерные особенности которого Гончаров воспроизводит в книге (подобно Достоевскому, широко использовавшему свою «тетрадку каторжную» в «Записках из Мертвого дома» и других произведениях): «Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют, как они или матросиком, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. <...> Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга — братишкой» (наст. изд., т. 2, с. 75). Несколько раз приводит Гончаров выражение Фаддеева «с души рвет», его (и других матросов) свободные «переводы» с английского (в таком же духе простонародные переводы с французского в «Войне и мире»): «„Сволочь эти асеи!” (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи — «I say» («Я говорю, послушай»))» (там же, с. 58); «„Черти этакие <...> вчера полшильника просил, а теперь хочет шильник (шиллинг)”.
- 439 -
— „Да как ты там говоришь с ними?” — „По-англичански”. — „Как ты спросишь?” — „А вот возьму в руку вещь да и спрошу: омач? (how much? — что стоит?)”» (там же, с. 274). Не только лингвистически, но и психологически характерными представляются Гончарову и сложившиеся этикетные формы обращения матросов к начальству и вообще к «господам», одновременно почтительно-иерархические и интимно-простодушные: «„Вот тебе!” — сказал он (мы с ним были на ты; он говорил вы уже в готовых фразах: «ваше высокоблагородие» или «воля ваша» и т. п.)» (там же, с. 79).
Многокрасочный и многоязычный, бесконечно разнообразный мир в книге Гончарова дан не только глазами самого повествователя и других героев книги, принадлежащих к цивилизованному, европеизированному меньшинству, но и в своеобразном, притом сильно упрощающем действительность (часто довольно экзотическую), представлении русского простонародья, упрямо измеряющего чужие миры привычными, на родине сложившимися понятиями. Матросы, окружившие пьяных корейцев в халатах, пытаются оценить их, сравнивая с соседями русских: «„Хуже литвы!” — слышу я, говорит один матрос. „Чего литвы: хуже черкес! — возразил другой, — этакая, подумаешь, нация!”» (там же, с. 612). Они решительно не желают запоминать названия различных племен и народов, полагая, что все эти «нации» вполне подходят под уже известные и устоявшиеся определения, даже и в тех случаях, когда эти последние совершенно не годятся («„Опять чухны, ваше высокоблагородие!” — сказал Фаддеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел на Яве. „Или Литва”, — заметил другой матрос еще равнодушнее» — там же, с. 255).1
В таком нежелании знать «лишнее» и «вздорное» есть некое высокомерие, проявляющееся в презрительном смехе и равнодушии. Фаддеев (он отнюдь не исключение, а яркий и типичный представитель матросской «артели») с несомненным чувством превосходства относится к англичанам и шотландцам: «На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением. <...> Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон и потому с голыми коленками! „Королева рассердилась: штанов не дала”, — говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдат. <...> каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом!» (там же, с. 58—59).
Универсальное равнодушие матросов ко всему чужому, необычному, экзотическому иногда становится объектом забавы, развлечения для «господ». Таковы разговоры мичмана Болтина и Гончарова с сигнальщиком Феодоровым, который «отличался крайней простотой» (там же, с. 372). Но и те, кто не отличался простотой, не так уж далеко ушли от туповатого и наивного Феодорова.2 Более всего
- 440 -
эта характерная черта поразила Гончарова в Фаддееве, жизнерадостном и предприимчивом «младенце с исполинскими кулаками», который никогда ничему не поражался. Равнодушие становится объектом пристального анализа в книге и осмысливается как национальная черта, проявляющаяся в самых различных обстоятельствах. Фаддеев здесь выступает типичным представителем русского простонародья (а не только матросской «артели»), равно населяющего и Петербург, и Обломовку. Равнодушие в сочетании с другими родственными, близкими чертами («Поди, разбирай, из каких элементов сложился русский человек!» — наст. изд., т. 2, с. 78) — неотъемлемая и яркая психологическая особенность, без которой невозможно представить себе лицо нации. Гончаров об этом пишет в своего рода отступлении, структурно и эмоционально близком к знаменитым отступлениям в поэме Гоголя «Мертвые души»: «Это просто — равнодушие, в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием, он, то есть Фаддеев, — а этих Фаддеевых легион — смотрит и на новый прекрасный берег, и на невиданное им дерево, человека — словом, всё отскакивает от этого спокойствия, кроме одного ничем не сокрушимого стремления к своему долгу — работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие — родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фаддеев, где-нибудь на берегу, по веревке, с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе, на верху четырехэтажного дома, оборачиваясь, в размахах веревки, спиной то к улице, то к дому. Посмотрите ему в лицо: есть ли сознание опасности? — Нет. Он лишь старается при толчке упереться ногой в стену, чтоб не удариться коленкой. А внизу третий Фаддеев, который держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверху: он зевает, с своей стороны, по сторонам» (там же, с. 78).
Буфетчики Янцен и Витул, музыкант Макаров, в пьяном виде изломавший спину писарю, скотник Михелька Керн, камердинер барона Крюднера Афанасий, «огневой» артиллерист Дьюпин (тоже из «фаворитов» Гончарова), матрос Агапка, оригинальнейшим образом обучающий Фаддеева грамоте, боцман Терентьев (трюмный унтер-офицер), влепивший затрещину воровавшему воду для барина Фаддееву (позднее боцману раздробит пушкой ноги), матрос, чисто облизавший «из учтивости» деревянную ложку и подавший ее рассказчику, «худощавый, рябой матрос» Мотыгин, друг Фаддеева, так неудачно «поигравший» с портсмутской леди, один обгоревший на азиатском солнце «уже пожилой матрос», с грустью вспоминавший Тамбов, мальчики-камчадалы, читающие басни Крылова, поющие и пляшущие, трезвые и мрачные артисты, отведавшие воды вместо предполагавшейся чарки водки («японское угощение»), Паисов со
- 441 -
Шведовым, подвесившие свои койки вместе с Фаддеевым к одному крюку и, естественно, наказанные за такое баловство линьками, повар Карпов, матрос из малороссиян и другие, сторожившие «дракона» «с крильями», — вот пестрый мир русского простонародья книги, к которому в сибирских главах присоединяются повар Тимофей, кучер князя Оболенского Иван Григорьев и другие слуги. Мир этот изображен с несомненной симпатией, но контурно, штрихами, с преимущественным уклоном в сферу комического, забавного, странного и необычного.
Фаддеев становится одним из основных персонажей книги, но он дан в строго ограниченных сроком экспедиции временных рамках. О прошлом своего вестового автор счел необходимым сообщить лишь одно обстоятельство — его костромское происхождение, не очень, впрочем, отразившееся на внешности: «Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы — всё это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. <...> Сметливость и „себе на уме” были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. <...> Такой ловкости и цепкости, какою обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке» (там же, с. 20). «Костромской элемент» лежал в основе характера и стиля поведения Фаддеева; он его «внес на чужие берега <...> и не разбавил его ни каплей чужого» (там же, с. 58). Автору дорог этот «костромской элемент», в чем он чистосердечно и признается: «...мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизацией...» (там же, с. 84). «Простодушием» порожден целый ряд комических ситуаций (в них участвует, разумеется, и «разрушительная десница» Фаддеева) как в Англии, так и в Сингапуре; последняя из них, когда вестовой вступил в решительную конфронтацию с китайцами из-за корзины, бесподобно описана автором: «Китайцы с лодок подняли крик; кули приставал к Фаддееву, который, как мандарин, уселся было в лодку и ухватил обеими руками корзину. Лодочник не хотел везти, ожидая окончания дела. Фаддеев пошел было с корзиной опять на берег — его не пускают. „Позволь, ваше высокоблагородие, я их решу”, — сказал он, взяв одной рукой корзину, а другою энергически расталкивая китайцев, и выбрался на берег. Я ушел, оставя его разведываться как знает, и только издали видел, как он, точно медведь среди стаи собак, отбивался от китайцев, колотя их по протянутым к нему рукам. Потом видел уж его, гордо удалявшегося на нашей шлюпке с одними покупками, но без корзины, которая принадлежала кули и была предметом схватки, по нашей недогадливости» (там же, с. 292).
Автор-повествователь и Фаддеев составляют неразлучную пару, хотя и не так прочно спаянную, как Александр Адуев и Евсей в «Обыкновенной истории» и — особенно — Обломов и Захар в «Обломове». Во «Фрегате „Паллада”» характер Фаддеева это прежде всего воплощение общерусских национальных черт, требующих «тонкого анализа и особенного определения» (там же, с. 78). «Элементы», из которых он составлен, именно общерусские, со специфическим костромским акцентом, неизменно проявляющимся в необыкновенной обстановке кругосветного плавания. Фаддеев убежден в своем превосходстве над «сухопутными» слугами и старается при
- 442 -
случае продемонстрировать это.1 Об отличии Фаддеева от Филиппа в книге говорится мельком и в частном смысле: «И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема...» (там же, с. 20).2 В письмах разница очерчена гораздо резче; там Филипп и Фаддеев противопоставлены как два полярных типа, причем симпатии Гончарова явно отданы вестовому: «...что мой Филипп перед этим? Тот — поляк в форме русского холопа, весь полонизм ушел в грязный русский лакейский казакин, и следов не осталось, а этот с неимоверной смелостью невредимо провез костромской элемент через Петербург, через Балт<ийское> и Немец<кое> моря и во всей его чистоте, с неслыханною торжественностью, внес на английский берег и, я уверен, так же сохранно объедет с ним вокруг света и обратно привезет в Кострому...» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.)).
Сопоставительную характеристику английских и русских слуг (здесь опять-таки достается Филиппу)3 Гончаров вообще не ввел в книгу, хотя она, вне всякого сомнения, хорошо согласовывалась с одной из ведущих установок автора «Фрегата „Паллада”»: «параллель между чужим и своим» (наст. изд., т. 2, с. 42).
Характер отношений между барином и слугой, в наиболее законченном виде изображенный в «Обломове», во «Фрегате „Паллада”» сильно затушеван. Исповедью Обломова, сценой из будущего романа выглядят признания Гончарова в письме от 29 июля-21 августа (10 августа-2 сентября) 1853 г. к А. Н. и А. И. Майковым: «Вы удивляетесь, что меня именно пойдут искать ваши письма по морям, меня, который не мог ночевать в другом доме, который не мог одеться, раздеться и т. п. без помощи Филиппа и т. п. А разве теперь не то же, разве, вы думаете, я изменился? <...> Без Филиппа — я: а Фаддеев-то на что? Точно так же я без него не раздеваюсь, не одеваюсь и тому подобного не делаю... Он меня купает, только черпает воду не у водовоза из бочки, а прямо из Тихого океана,
- 443 -
причем я иногда любуюсь в сумерки, как по моим приятным формам каскадом льются огненные искры и падают опять в море — это медузы. Вот сегодня и завтра Фаддеев отправлен на берег в речку мыть мое белье <...> за неимением здесь прачки; вот вчера он повернулся, как медведь, в каюте, повалил всё с полки и был выдран за то мною за власы и ударен по голове; вот утром он несет мне в постель чай, приходит будить и после обеда, так же натягивает на меня чулки, и часам к 10-ти мы с ним готовы. Чем же он не Филипп, а я — не я? — скажите на милость? Да еще делает то, чего не сделает ни за что Филипп: в бурю, например, когда я не могу сойти с места под опасением слететь с ног и удариться головой о пушку или носом о мачту, он, балансируя, приносит мой обед и держит у самого рта тарелку с супом, не проливая ни капельки, — где же Филиппу?» Перед нами импровизация в духе романа «Обломов», даже «романическая» стилизация реальной жизни в письме к друзьям. Но от нее мало что осталось во «Фрегате „Паллада”», где отношения между рассказчиком и его вестовым очерчены, как уже говорилось, далеко не так резко.
Естественно, что в книге матросам уделено больше внимания, чем «обычным» слугам, т. е. людям из «простонародья». Последние появляются в основном на сибирских страницах «Фрегата „Паллада”». Это адмиральский повар Тимофей; кучер Иван Григорьев, «которого князь Оболенский привез с собою на фрегате „Диана”, кругом Америки» (наст. изд., т. 2, с. 634), и еще один слуга князя Оболенского — Ванюшка, о котором сказано только, что это «...молодой малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели да за углом, особенно на сеновале, покурить трубку...» (там же, с. 635), впрочем (об этом упомянуто вскользь), неплохой стрелок по уткам (там же, с. 649); четвертым был Витул, матрос с фрегата, приданный П. А. Тихменеву. Гончаров пишет о них: «Одно неудобно: у нас много людей. У троих четверо слуг. Довольно было бы и одного, а то они мешают друг другу и ленятся. „У них уж завелась лакейская, — говорит справедливо князь Оболенский, — а это хуже всего. Их не добудишься, не дозовешься, ленятся, спят, надеясь один на другого; курят наши сигары”» (наст. изд., т. 2, с. 654—655). Эта отрицательная характеристика, хотя и относится ко всем названным слугам, как бы не касается каждого в отдельности. Так, Тимофею писатель воздает должное в полной мере. «Повар этот, — рассказывает он в письме к Майковым из Якутска от 14 сентября 1854 г., — немалое утешение для меня. Сколько раз, мучимый предвкушением огромного пути, лежал я в дымной, грязной юрте или на лодке на Майе и постепенно успокоивался, глядя, как этот повар суетится со сковородой около якутского чувала или около разложенного на носу лодки огня, как успешно поджаривается котлетка или нами же застреленная на реке утка <...>. Мрачные мысли тихохонько исчезали, я на минуту мирился с судьбой и кушал». Развеивали «мрачные мысли» Гончарова и беседы с Тимофеем, человеком, много ездившим и много повидавшим на своем веку. Но не только поварские способности Тимофея и беседы с ним привлекали Гончарова и мирили с тяготами пути. Нравились ему рачительность и хозяйственность слуги, радение о барском добре. В главе «Из Якутска» есть эпизод, вызывающий в памяти пушкинского Савелия с заячьим тулупчиком из «Капитанской дочки»: «Я велел
- 444 -
подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. „Всего один рябчик остался”, — сердито шепнул мне человек. „Где же прочие? — сказал я, — ведь у якута куплено их несколько пар”. — „Вчера с проезжим скушали”, — еще сердитее отвечал он» (там же, с. 668). Приводит Гончаров и диалог с Тимофеем по поводу зонтика, который был куплен им еще в Англии. «„Брось за борт, — велел я, — куда всякую дрянь везти?”. Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал» (там же, с. 634). Гончаров отмечает в Тимофее крестьянскую жилку; некошеную траву в тундре ему было больно видеть: «„Сена-то, сена-то! никто не косит!” — беспрестанно восклицает с соболезнованием Тимофей, хотя ему десять раз сказано, что тут некому косить. „Даром пропадает!” — со вздохом говорит он» (там же, с. 659).
С неменьшей симпатией обрисован в книге и кучер Иван Григорьев, «рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе», говорящий к тому же «с важностью авторитета» (там же, с. 635, 640). В письме к Майковым из Якутска от 14 сентября 1854 г. Гончаров рассказывает об Иване: «Тот тешил меня еще больше Тимофея своим воззрением на виденные им страны». В книге приведено несколько таких рассказов. «Он, между прочим, с гордостью рассказывал, как король Сандвичевых островов, глядя на его бороду и особенное платье, принял его за важное лицо и пожал ему руку» (там же, с. 647). В Сибири кучер Иван, «по своей части, приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам» (там же, с. 645). «Словоохотливость» Ивана распространялась не только на товарищей по путешествию, но и на местных жителей, даже якутов, с которыми у Гончарова и его спутников разговор «не ладился»: «...только Иван Григорьев беспрестанно говорит с ними, а как и о чем — неизвестно, но они довольны друг другом» (там же, с. 648). Довольны были Иваном и путешественники, продвигавшиеся лесом, водой, болотами: ему было все нипочем. «Когда нужно стол, — повествует Гончаров, — обыкновенно говорили Ивану Григорьеву: „Чтоб был стол”. — „Слушаю”, — отвечал Иван и отправлялся в лес: через четверть часа перед нами стоял стол. В одной юрте не было ни окон, ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтоб была дверь и окно. „Слушаю”, — сказал он, — и окна заткнул потниками от лошадей, а дверь так приладил, что наутро отворить было нельзя, а надобно было выколотить» (там же, с. 650). Передает Гончаров и своеобразную манеру речи Ивана: с своим хозяином, князем Оболенским, он зачастую объясняется ворчливо, с долей упрямства («Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову: „Не прикажете ли бросить этот камень?” Он держал какой-то красивый, пестрый камень в руке. „Как можно! это надо показать в Петербурге: это замечательный камень, из Бразилии...”. — „Белья некуда девать, — говорил Иван Григорьев, — много места занимает. И что за камень? хоть бы для точила годился!”» — там же, с. 653).
Таков многоликий мир книги Гончарова, где «перед читателем проходит целая вереница живых человеческих образов, с индивидуальным характером, неподдельным своеобразием общего облика, с печатью личности. <...> Огромная галерея человеческих лиц, изображенных иногда двумя-тремя штрихами, но всегда живых, всегда индивидуальных, характерных и своеобычных» (Энгельгардт. С. 267).
- 445 -
3
Непосредственная работа Гончарова над текстами «путевых записок» началась летом 1853 г. До этого, несмотря на то что еще в начале плавания у писателя было намерение написать книгу (скорее всего, именно о будущей книге говорил Е. В. Путятин с Гончаровым до отправления в поход),1 он все отдалял процесс писания: «А тоска-то, тоска-то, Господи, Твоя воля, какая! Бог с ней, и с Африкой! А еще надо в Азию ехать, потом заехать в Америку. Я всё думаю: зачем это мне? Я и без Америки никуда не гожусь: из всего, что вижу, решительно не хочется делать никакого употребления; душа, наконец, и впечатлений не принимает» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 29 марта (10 апреля) 1853 г.). 25—26 мая (6—7 июня) того же 1853 г. в письме к семье Майковых он признается: «...я до сих пор не веду своих записок <...> от качки невозможно физически писать, всё рвется из рук, а чуть выдается свободная минута, надо приниматься за казенный журнал».2 Конечно, это и другие подобные заверения Гончарова нельзя всецело принимать на веру: «записки» в это время уже велись. Ведь еще 17 (29) марта 1853 г. он писал Майковым: «...пробовал вести и свои записки, но сделал очень мало. Причиной этому моя несчастная слабость выработывать донельзя». И вскоре в письме к И. И. Льховскому (недатированном, но относящемся к этому же времени) он сообщал: «...я всё надеюсь вести записки и даже написал главу о плавании от Англии до Мадеры и о Сингапуре...».
Приступив к писанию «глав» будущей книги, Гончаров перестает отправлять друзьям подробные письма. Он пришел к мысли, что нужно описывать не земли, события и факты, а «впечатления» от них («Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах» — наст. изд., т. 2, с. 34—35). Важнейшее значение имело для Гончарова и то, какие впечатления подлежат передаче (ибо «путешествие — это книга; в ней останавливаешься
- 446 -
на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи» — наст. изд., т. 2, с. 616), каким путем они возникают в сознании («Вообще большая ошибка — стараться собирать впечатления <...> нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй» — там же, с. 41). Каждое из обозначений жанра, употребляемых Гончаровым («путевые записки», «очерки путешествия», «письма к друзьям», «путевые очерки», «журнал», «дневник», «страницы из дневника», «воспоминания о плавании» и т. д.), заключало в себе один общий признак, чрезвычайно важный для писателя. Признак этот — максимальная свобода творческого волеизъявления, возможность писать, считаясь не с требованиями того или иного жанра или же «маршрута» путешествия,1 а единственно с логикой и последовательностью возникающих в сознании впечатлений, мыслей, ассоциаций и т. п.
О времени и характере работы Гончарова над отдельными очерками судить трудно. Не сохранились ни упомянутый выше «казенный журнал», ни «памятная книжка»,2 ни рабочая «толстая тетрадь», ни «дневник»,3 ни первоначальные тексты будущих очерков. Некоторое
- 447 -
представление о характере этой работы дают ранние письма из плавания, послужившие литературной и фактической основой для соответствующих очерков. Письма к Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа, 3—4 (15—16) ноября, 8 (20) декабря 1852 г., 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.) и Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. использованы в главе I «От Кронштадта до мыса Лизарда» тома первого; письмо к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г. — в главе II «Атлантический океан и остров Мадера» этого же тома. Подобным материалом послужили письма к М. А. Языкову от 9 (21) января 1853 г. и к Языковым и Майковым от 18 (30) января 1853 г.1
К середине декабря 1853 г. было написано несколько новых «глав», или «статеек».2 Правда, об их печатании речь пока не идет, а в ответ на напоминания «редакторов» (из таких «редакторов» пока известен один А. А. Краевский — см. ниже, с. 448) выдвигается довод о «закрытости» темы похода.3 Тем не менее работа над «записками» шла успешно, и к середине марта 1854 г. «частный портфель» (в отличие от «казенного журнала») оказался «набит довольно туго», так что «уж больше туда не лезет» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 13 (25) марта 1854 г.). В письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 14 (26) марта 1854 г. назывались и конкретные «путевые записки», содержавшиеся в портфеле: «„Мыс Доброй Н<адежды>”, „Сингапур”, „Бонинсима”, „Шанхай”, „Япония” (две части), „Ликейские острова” — всё это записано у меня, и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас...». Однако здесь же Гончаров отмечал, что «большая часть» написанного набросана «слегка и требует большой обработки». О характере такой «обработки» можно судить по словам самого писателя в одном из позднейших его писем. Посылая в 1888 г. жене своего племянника Д. Л. Кирмаловой статью «На родине», Гончаров рекомендовал, читая ее, помнить, что «там, в статье, не всё так написано точь-в-точь, как было на самом деле. Кое-что прибавлено, иное прикрашено или изменено. Целиком с натуры не пишется, иначе ничего не выйдет, никакого эффекта. <...> Словом — надо обработать, очистить, вымести, убрать. Лжи никакой нет: многое взято верно, прямо с натуры, лица, характеры <...> даже разговоры, сцены. Только кое-что украшено и покрыто лаком. Это и называется художественная обработка...». Представление об «обработке» дает и письмо от 12 декабря 1855 г. к Н. А. Некрасову, которому незадолго до этого был обещан очерк об «урагане на Китайском море» и о «приезде на о<стро)>ва Бонинсима», носивший условное
- 448 -
название «Ураган».1 «За статью я еще не принимался, — пишет Гончаров, — всё отвлекает служба и другие дела...». Однако название «Ураган», данное в спешке, писатель заменяет другим — «Острова Бонинсима». Очерк был готов, и в этот же день Некрасову сообщалось: «...я, по возможности, очистил ее <статью> и лишнее выкинул, а лишнего было много и работы немало, потому что вторая половина статьи была у меня написана в памятной книжке и весьма беспорядочно».
К середине июля 1854 г. была готова «толстая тетрадь» (или «дневник»), из которой Гончаров «кое-что», предварительно отдав переписать, собирался выслать в «Отечественные записки». Все же остальное по-прежнему предназначалось пока для прочтения в узком кругу друзей и только после этого должно было появиться в печати.2 В письме к А. А. Краевскому из Якутска, датируемом сентябрем 1854 г., содержится ряд уточнений о степени готовности материалов из «портфеля»: «Иногда я просматриваю свои путевые тетради <...>. Вот на выдержку вынулся „Шанхай” <...> „Сингапур” <...>. Ищу „Мадеры” <...> она еще в проекте, как „Очерк истории Якутской области”;3 „Мыс Д<оброй> Надежды” — это целая книга <...> „Анжер на Яве” — годится, да всего три страницы. „Манила” <...> она готова почти <...>. Вот к Майковым, если не поленюсь, так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу. <...> Если эта страница будет годиться в печать, то тисните ее, пожалуй, куда-нибудь подальше, в „Смесь” <...> но только без подписи имени4 <...> О помещении же чего-нибудь побольше в „О<течественных> з<аписках>" из моих записок мы потолкуем при свидании...».
25 февраля 1855 г. Гончаров возвратился в Петербург, а 5 апреля вышел в свет № 4 «Отечественных записок» с очерком «Ликейские острова». Публикация сопровождалась авторским предисловием — «выноской» (текст его см.: наст. т., с. 80—81), где повторялось многое из того, что уже говорилось в письмах из плавания: «Автор не имел ни возможности, ни намерения описывать свое путешествие как записной турист или моряк, еще менее как ученый. Он просто вел, сколько позволяли ему служебные занятия, дневник и по временам посылал его в виде писем к приятелям в Россию, а чего не
- 449 -
послал, то намеревался прочесть в кругу их сам...». Предисловие заключалось обещанием «печатать и прочие главы дневника», но лишь «по временам», если автору «позволят другие занятия» (т. е. работа над романами «Обломов» и «Обрыв», писание «отчета государю об экспедиции» для Е. В. Путятина (текст его см.: наст. т., с. 162—224), служба,1 переезды с квартиры на квартиру).2
Несмотря на занятость, подготовка очередных очерков к печати шла очень интенсивно, и в том же 1855 г. кроме «Ликейских островов» в «Отечественных записках», «Современнике» и в «Морских сборниках» появились еще восемь очерков (или глав) в такой последовательности: «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири»,3 «Атлантический океан и остров Мадера», «Из Якутска», «От мыса Доброй Надежды до острова Явы: (Из путевых записок)», «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок)», «Манила. От Лю-Чу до Манилы. С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат „Паллада”», «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II» и «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья III-я и последняя». В 1856 г. в тех же журналах и дополнительно в «Русском вестнике» были напечатаны еще четыре очерка: «Острова Бонинсима», «Сингапур», «На мысе Доброй Надежды. С 10 марта по 12 апреля 1853 г.» и «От Кронштадта до мыса Лизарда: (Из путевых записок)». В 1857 г. печатание было завершено: в «Библиотеке для чтения» появились очерки «Аян. Август 1854: (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях); От Якутска. Город Олекма», а в «Русском вестнике» — очерк «Плавание в атлантических тропиках: (Письмо к В. Г. Бенедиктову)». О двух последних публикациях в письме к Н. А. Гончарову писатель сообщал 21 апреля 1857 г.: «...теперь досказываю последние слова этого длинного рассказа, но вяло, потому что самому до крайности надоело. В „Библ<иотеке> для чтения” поместил просто заметки, деланные на сибирских станциях карандашом в памятной книжке, да на днях посылаю небольшую статью о тропиках в „Русский вестник”». Декларируемое равнодушие к завершаемым очеркам вряд ли было искренним. Так, в упомянутом выше письме к Некрасову об очерке «Острова Бонинсима» говорилось: «...если Вы, читая корректуру, найдете промахи против языка или длинноты и исправите их, то
- 450 -
поступите очень хорошо...». Печатая же в «Русском вестнике» главу «Плавание в атлантических тропиках: (Письмо к В. Г. Бенедиктову)», Гончаров воспротивился сокращениям, сделанным М. Н. Катковым. 3 мая 1857 г. он писал ему: «<Не прими>те, пожалуйста, в ху<дую сторону то>, что я вставил оп<ять некоторые> из выключенных В<ами строк, а> именно о практичнос<ти и ин>ых достоинствах в анг<личанах> <...> О<стальное> же — осталось выключенным». В письме к тому же адресату от 5 июня 1857 г. он сокрушается о вкравшихся в текст досадных опечатках: «Вместо мления напеч<атано> мнение, вместо шарок (так моряки назыв<ют> акул) напеч<атано> марок, вместо бак фрегата — бок и, наконец, увы! вместо исторические страдания напеч<атано> истерические».
Параллельно с публикацией в журналах Гончаров, по требованию читателей (и, вероятно, в соответствии с пожеланиями издателей), выпустил отдельные оттиски некоторых очерков («От мыса Доброй Надежды до острова Явы», «Сингапур», «Манила. От Лю-Чу до Манилы. С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат „Паллада”»), а также несколько сброшюрованных очерков и даже отдельную книгу (Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок). СПб., 1855).1 К концу 1856 г. он, вероятно, уже думал об отдельном издании своего «путешествия». Об этом свидетельствует опубликованный в ноябрьской книге «Русского вестника» очерк «От Кронштадта до мыса Лизарда», явно задуманный как начальная глава будущей книги, своеобразное предисловие к ней. Но каковы бы ни были дальнейшие намерения Гончарова, пока все до сих пор опубликованное подверглось лишь начальной обработке и на этой стадии представляло собой разрозненные очерки.
Первое отдельное издание книги с посвящением великому князю Константину Николаевичу2 вышло в свет 10 мая 1858 г. (ценз.
- 451 -
разр. — 11 мая 1857 г.) по инициативе московского книгоиздателя А. И. Глазунова. Об этом Гончаров пишет в Автобиографии 1858 г.: Глазунов «...собрал их все (т. е. главы путевых записок) и издал под заглавием „Фрегат «Паллада»” (со включением одной небольшой новой главы «Гонконг») в двух томах»; ср. также слова из предисловия «От издателя», написанного близким другом писателя И. И. Льховским: «...предлагая публике, в последовательном порядке, собрание этих очерков, печатавшихся вразбивку в разных журналах в течение двух лет, издатель смеет надеяться не только на успех, но и на благодарность публики». Это предисловие содержит ряд положений, безусловно исходящих от самого Гончарова и в принципе повторяющих то, что говорилось им в предисловии к журнальной публикации «Ликейских островов»: «Очевидно, не одна скромность заставила г-на Гончарова назвать описание своего путешествия „Письмами к друзьям”, „путевыми записками”, — писал Льховский, — он сказал правду и вместе с тем самым названием и формой охарактеризовал уже отчасти свое произведение. Действительно, несмотря на строгую законченность некоторых эпизодов и классическое совершенство языка, задушевный тон рассказа, преобладание подробностей, в которых так искренно и без всяких претензий выражается личность автора, порой намеки на обстоятельства из частной жизни, порой проскользнувшее в печать собственное имя, наконец, самая небрежность и недосказанность в некоторых местах — все это показывает, что автор писал к действительным, а не воображаемым друзьям и что он не хотел принять на себя обязательной роли хоть сколько-нибудь специального путешественника». Отметив, что Гончаров плавал «по должности» и что потому у него не было времени более тщательно подготовить книгу, Льховский продолжал: «При таких условиях автор лично для себя и для публики мог сделать только то, что он сделал, то есть не забыть о призвании, доставившем уже ему известность и внимание публики <...> и в своем быстром и случайном пути взглянуть на разнообразные картины беспрестанно сменявшейся перед ним панорамы, на мелькавшие перед ним явления чуждой жизни с точки зрения поэта» (1858. Т. I. С. VI, I—III).
Корректуры этого издания Гончаров не держал: с начала июня 1857 г. он был за границей — а дела по очередному изданию «Обыкновенной истории» и «Фрегата „Паллада”» вел по его просьбе Льховский
- 452 -
(не исключено, однако, что Льховский просьбы не выполнил и перепоручил корректуры Е. Е. Барышову, — см. письмо Гончарова к Льховскому от 15 (27) июля 1857 г.).1 Но участие автора в ранней стадии работы по подготовке книги несомненно: перед каждой главой появились традиционные для жанра подробные росписи содержания; были заменены (или частично изменены) названия некоторых глав; из названий отдельных глав ушли подзаголовки, свидетельствовавшие о том, что глава ранее была самостоятельным очерком (см.: наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 227, 230, 233, 235 и др.); были композиционно перестроены японские статьи (выделена китайская глава «Шанхай»2); появилась дополнительная глава «Гонконг». Безусловно, только самим Гончаровым была проведена значительная разнородная правка текста отдельных глав (исключение составили главы «Острова Бонинсима», обе японские главы и глава «До Иркутска»). Так, в главе «От Кронштадта до мыса Лизарда» после рассуждения о практичности англичан появилось следующее авторское отступление, связанное, возможно, с текущей работой над романом «Обломов»: «Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им» (вариант к с. 50, строки 36—40). Это дополнение повлекло за собой включение около полугора страниц текста, развивающего авторскую мысль о нации, «добродетельной» «по машине, по таблицам, по востребованию», и завершающегося словами: «Казалось бы, всё равно, но от чего же это противно? Не всё ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? — можно бы спросить...» (вариант к с. 50—52, строки 42—6).
Другое заметное дополнение было введено в текст главы «Ликейские острова»: это рассуждение о губительном влиянии цивилизации на «единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер», по которому можно было бы «поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни» и в котором «книг, пороху и другого подобного разврата нет». «Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок? — спрашивает автор и отвечает: — Тронет, и уж тронула» (вариант к с. 496—497, строки 32—3). Еще одно незначительное по объему, но важное дополнение в этой же главе — замена слов «эти островитяне» на
- 453 -
другие: «эти добродетельные, мудрые старцы» (вариант к с. 507, строки 42—43), усиливавшая ее «идиллический» характер.
Проводит Гончаров и значительное сокращение журнального текста. Чаще всего это касается авторской речи. Так, снимается следовавший за словами «деда» (А. А. Халезова): «Что за холодно — отлично! — отвечал он» — ответ его собеседника-автора: «Вам всё отлично, — возразил я, — если б вы умирали с холоду, так вы бы сказали, что отлично замерзли» (вариант к с. 80, строка 8). Убираются и различного рода авторские рассуждения «по поводу». Таково довольно крупное изъятие из условного письма к друзьям в главе «На мысе Доброй Надежды». Имеется в виду следовавший за словами: «Я писал вам, что нас захватили штили в Южном тропике...» — текст, в котором отчасти повторялись романтические пейзажи из предыдущей главы «Плавание в атлантических тропиках», вновь упоминались описанные ранее «диковинки моря и неба» и который завершался фразой: «Смотришь на всё холодно, думая: я это видел, учил, читал, оно так и должно быть» (вариант к с. 125, строки 26—27). Такого же рода сокращения сделаны в главе «От мыса Доброй Надежды до острова Явы». Здесь снимается авторское пояснение, относящееся к А. А. Халезову: «Из прежних писем вы знаете, кого мы звали дедом. Он старше других, но вовсе не стар, и прозван так только потому, что шел четвертый раз вокруг света» (вариант к с. 242, строка 44). Это пояснение нужно было, когда упоминаемые здесь «прежние письма» находились в главах, печатавшихся вразбивку в журналах; теперь же оно становилось излишним. Из главы «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» изымается явно дневниковый фрагмент, существовавший в журнальном варианте. Здесь после слов: «много нового и важного» — шел текст: «Ах, если б кто мог заглянуть в наш маленький плавучий мир. <...> Ветер был так силен, что когда я отворял дверь в своей каюте, меня толкало с нею назад. Гул и рев ужасный; даже читать мешал, а я было собрался спать, но куда! Выйти тоже нельзя: дождь лил потоками — и я не видал моря. На палубе шум, беготня, всё это рядом с моей каютой: пойти в кают-компанию, тем более что уже 5 часов: там, вероятно, встали и скоро чай подадут. Я было вниз, а тут свистят всех наверх: стеньги и нижние реи спускать...» (вариант к с. 376, строка 16). Продолжая переработку главы «Ликейские острова», Гончаров, восхищенный идиллией в духе «мадам Дезульер» и Геснера: «Что это такое? — твердил я <...> недостает барашков на ленточках», — теперь завершает весь пассаж фразой: «А тут, кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии» (наст. изд, т. 2, с. 495). В журнальном же тексте за нею следовал текст, разрушавший целостность всего эпизода: «Как ни скоро шли товарищи, но я останавливался полюбоваться красавцами тропических лесов — банианами <...>. Иногда я карабкался на забор и заглядывал на дворы» (вариант к с. 495, строка 33). И еще одно сокращение в том же роде сделано в этой главе. После перечня изделий, на которые идет бамбук, и в том числе упоминания варенья, «вроде инбирного», снимается ретроспектива: «Я сам ел в Сингапуре, кажется: что говорить — нехорошо <...>. Если б сварить в сахаре кусочек березовой коры, так оно, пожалуй, вышло бы не лучше, конечно, но и не хуже» (вариант к с. 518, строки 20—21). Из главы «Манила» убирается текст, фактически
- 454 -
повторяющий сказанное в предисловии Льховского: «...только не ждите, пожалуйста, никакой истории и географии, никаких справок, довольствуйтесь одними впечатлениями и легкими очерками» (вариант к с. 524, строка 42).1 В тексте этой же главы начинается переработка эпизода прогулки автора по площади близ дома губернатора (вариант к с. 556, строки 10—11).
Особая причина была у Гончарова, чтобы изъять пушкинскую цитату «точно в гробе тьмы людей» (вариант к с. 544, строка 17). Эта цитата находилась в журнальном тексте главы «Манила», напечатанной в 1855 г. А глава «От Кронштадта до мыса Лизарда», с той же цитатой, была опубликована в 1856 г. (ср.: наст. изд., т. 2, с. 49). Теперь, в отдельном издании, в главе «Манила» этот отрывок стал выглядеть иначе: «...в театре — молчание».
Но если заметные дополнения и сокращения проводятся лишь в отдельных главах, то обильная стилистическая правка затрагивает текст всей книги. Так, сдержанная по тону фраза в тексте «Русского вестника» «Одна старушка упрашивала ехать „лучше сухим путем кругом света”» — в отдельном издании распространяется за счет слов «все грустно качала головой, глядя на меня, и», вставленных после слова «старушка» (вариант к с. 8, строки 37—38). Изменения коснулись и эпизода с птицей-секретарем. В журнальном тексте было: «Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать небольшие круги по траве» (вариант к с. 223, строки 12—13). Гончаров изменил конец фразы: «...описывать крути по траве, всё меньше и меньше». Уточнение совершенно необходимое, ибо дальше следовало: «и когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась» (наст. изд., т. 2, с. 223), — т. е. птица уменьшала круги, потому что путешественники приближались к ней, а не просто ходила кругами. В журнальном тексте эпизод с купцом Вампоа, показывающим гостям растения в своем саду, читался так: «Вот гвоздичное, вот перцовое дерево, — говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту, — вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажное, хлебное». Два последних слова непонятно с чем связаны — с деревьями или с кустами, и Гончаров дописывает: «...хлопчатобумажный куст, хлебный плод» (вариант к с. 280, строки 7—8). Значительна (количественно) и правка типа «домы» вместо «дома», «гробы» вместо «гроба», «порты» вместо «порта» и т. п.
Существенный слой стилистической правки — правка, упрощавшая текст. Так, вместо документального перечня дат «14-го, 15-го и 16-го числа» — стало: «Следующие дни» (вариант к с. 83, строка 14), из отрывка: «хотя под южным донельзя, но еще серым небом» — ушло слово «донельзя» (вариант к с. 84, строка 6), сложная конструкция с двумя частицами: «Одно только не покорилось ни Реперовым таблицам» — стала простой: «Одно только не вошло в Реперовы таблицы» (вариант к с. 101, строка 35), абстрактное: «глазами поэзии и науки» — стало вполне конкретным: «...глазами и
- 455 -
поэта, и ученого» (вариант к с. 116, строки 28—29), излишне усложненный двумя сравнениями текст: «...каменная глыба была мертва и нема, точно очарованный замок, а мы, как богатыри, пришли...» — теперь читался: «...все окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли...» (вариант к с. 500, строки 39—40).
Следующее издание книги появилось к весне 1862 г. Работа над ним могла вестись в ограниченный отрезок времени — середина ноября 1861-январь 1862 г.;1 но на этот раз Гончаров сам держал корректуры.2 Это позволило ему прежде всего устранить довольно многочисленные, но не бросающиеся в глаза опечатки и ошибки, проникшие в первое отдельное издание (теперь стало: «...даже послышится запах мороза» — вместо: «...даже получается запах мороза» (вариант к с. 39, строки 29—30), «доллары» вместо «талеры» (вариант к с. 303, строка 28, к с. 420, строка 12 и др.), непонятный крик упавшего в воду китайского мальчика «Та-та, та-та!» заменяется на понятный, да еще и поясняемый: «Тата, тата (тятя)!» (вариант к с. 438, строка 35)).
Продолжается и замена устаревших грамматических форм современными («пудов» вместо «пуд», «матросов» вместо «матрос», «футов» вместо «фут», «в отеле» вместо «в отели»,3 «карт» (повозка) вместо «карта» и т. п.), но главным образом проводится дальнейшая художественная «обработка» очерков, изменяются отдельные акценты, делаются мелкие, но необходимые уточнения, замены и т. п. Вместо слов: «...нельзя измерить этого необъятного ощущения» (речь идет о впечатлении от красоты тропического неба) — первоначально было: «...нельзя вычислить и измерить этого необъятного ощущения» (вариант к с. 121, строки 27—28). Слово «вычислить» явно неуместно рядом со словом «ощущение». Другой пример: в главе «На мысе Доброй Надежды», рассказывая об истории заселения так называемой Британской Кафрарии, Гончаров пишет: «Выше сказано было, что колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории...». В журнальном же варианте и в тексте 1858 г. вместо: «своей истории» — было: «будущей своей истории», что явно противоречит настоящей форме сказуемого (вариант к с. 173, строка 35). В текст с описанием японского обычая — харакири: «Вскрывать себе брюхо — самый употребительный здесь способ умирать поневоле» — вводятся уточняющие слова: «по крайней мере так было в прежние времена» (вариант к с. 317, строки 2—3), фраза: «Бараны и куры криком беспрестанно напоминали о себе» — уточняется за счет слов «натисканные в клетках» (вариант к с. 442,
- 456 -
строка 8). До 1862 г. в главе «Обратный путь через Сибирь» читалось: «Встретили красивый каскад и груды преживописно разбросанных зеленоватых камней, похожих на развалины здания, разбросанного взрывом» (вариант к с. 644, строки 6—8). Гончарова, безусловно, не устраивало столкновение слов «разбросанных» и «разбросанного», кроме того, вся фраза, очевидно, показалась ему тяжеловесной, и он снял последнее сравнение, заменив слово «преживописно» на «причудливо». Теперь стало: «Встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней». Лишней, очевидно, показалась писателю часть фразы в описании красивой картины засыпанного снегом леса на Лене, напомнившей ему «природную декорацию „Нормы”». До 1862 г. описание сопровождалось авторскими словами: «Вот разгул-то романтизму и беда реальности...». Слова «и беда реальности» были сняты (в 1879—1886 гг. фраза еще более упростилась, стало: «Какой разгул для фантазии...») (вариант к с. 705, строка 11).
Преимущественная же правка текста и теперь идет по линии его дальнейшего сокращения. И прежде всего это касается фраз от первого лица единственного или множественного числа. Так, в главе «На мысе Доброй Надежды» вместо: «Я смотрел на эти исполинские скалы...» — стало просто: «Исполинские скалы...» (вариант к с. 126, строки 34—35), в главе «Шанхай» после слов: «...с яростью лают» — в журнальном тексте и в издании 1855 г. было: «Мы, эгоисты, хохочем» (вариант к с. 403, строки 43—44); здесь же Гончаров убирает слова, относящиеся к обязательному визиту к американскому консулу: «Я думал, авось его нет дома, и я отделаюсь карточкой, но...» (вариант к с. 415, строка 24); в главе «Русские в Японии» эпизод поездки моряков для знакомства с предоставляемым японцами новым местом стоянки «Паллады» включал фразу: «Звали меня, но ехать тотчас после обеда!» (вариант к с. 451, строки 2—3); в главе «От Манилы до берегов Сибири» снимаются фразы: «Я спал у капитана в каюте, на диване, полуодетый, ночи три» и «Облитый потом, я дотащился до палатки и лег, а через час вернулся на фрегат, довольный, что видел хотя не совсем новые, но всегда занимательные предметы» (варианты к с. 580, строка 17, и 585, строки 33—34). Сокращаются и эпизоды, в которых автор рассказывает о своих «впечатлениях» от увиденного. Из главы «От мыса Доброй Надежды до острова Явы», например, уходит «патетический» текст: «Мы останавливались и озирались кругом: немея от изумления, от восторга, не верили глазам, не верили себе, что мы не во сне и не на сцене видим эту картину, что мы в центре чудес природы. Что шаг — то новый, роскошный и невиданный для северных глаз ландшафт» (вариант к с. 247, строка 42), а из главы «От Манилы до берегов Сибири» — описание ранее упоминавшихся случаев качки: «В это время напор волн поднимает его снизу; при обыкновенной, правильной качке следовало бы упасть на другой бок и т. д., но тут с противной стороны выросла опять волна, и обе они яростно устремляются друг на друга, поднимая судно высоко на вершины свои, потом расступятся внезапно, и он летит вниз» (вариант к с. 582, строка 9) (возможно также, что Гончаров заметил и местоимение «он», т. е. корабль, в то время как выше в этой же фразе упоминается «судно», т. е. «оно»). В этой же главе снимается еще один эпизод, начинающийся с записи дневникового характера: «Я всякий день,
- 457 -
пока мы здесь чинимся для дальнейшего пути, иногда два раза, хожу по пням и кочкам от какого-нибудь мыса к другому, до скалы или до бухточки, мешающей идти дальше, отдыхаю у ключа...», — которая перерастает в длинное описание пасущейся на берегу фрегатской живности и характера местных собак (вариант к с. 626, строка 3).
Еще при подготовке первого отдельного издания Гончаров начал выправлять текст с учетом морской терминологии1 (вместо «отъезд» — «отплытие» и т. п.). И в 1862 г. он продолжил эту правку. Так, слова: «и выехали из Европы и подъезжали к Африке», во-первых, заменяются «профессиональными»: «И вышли из Европы и подходили...», во-вторых, документальная «Африка» превращается в художественный образ африканской Костромы: «...к Костроме в своем роде» (вариант к с. 84, строки 43—44). Второе исправление носит чисто стилистический характер; такого рода исправления доминируют в работе писателя над текстом книги в 1862 г. Еще один пример — исправление во фразе о первых исследователях Капской колонии: «Кто ж это? Присяжные ученые, труженики, герои науки, жертвы любознания?». Вместо «герои науки» до 1862 г. было довольно неловкое словосочетание «страдальцы науки» (вариант к с. 154, строка 31).
Правка Гончарова связана с уточнением, углублением смысла, с появлением новых важных для него содержательных моментов.
Говоря о системе внутреннего управления в Японии и о кажущейся незыблемости этой системы, писатель снимает оттенок неопределенности, указывая прямо, кто будет способствовать изменению настоящего положения вещей. Если во всех трех предыдущих изданиях читалось: «...если только не помогут им ниспровергнуть ее <систему> — американцы или хоть кто-нибудь другой» (вариант к с. 351, строки 27—29), то в 1862 г. последние слова фрагмента стали выглядеть уже иначе: «...или хоть... мы!». В другом случае Гончаров смягчает текст, который мог задеть гордость японцев, снимая следовавший за словами «давно ли <японцы> называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним?» — пассаж: «Видно, появление четырех вооруженных судов в одном месте да стольких же в другом озадачило их и сбавило спеси?» (вариант к с. 370, строка 17).
Подчас автор достигает своей цели с помощью замены только одного слова. Рассуждая о губительности страсти к роскоши и приводя исторические примеры, Гончаров писал о прошлом и настоящем Испании: «...трудно выдумать наряднее эпанчу, а в какую дырявую мантию нарядилась она теперь!». В новом издании он заменяет последнее слово другим: «после», тем самым посчитав необходимым несколько отдалиться от современности (вариант к с. 272, строка 3). Выражение «бассейн мертвой воды» было заменено на «бассейн стоячей воды» (вариант к с. 567, строка 13). Тем самым ушел напрашивающийся, но совершенно ненужный в данном контексте сказочный мотив живой и мертвой воды,
- 458 -
естественно меняющий звучание всей фразы. Иногда введение прежде отсутствовавшего одного-единственного слова дает нужный эффект. До 1862 г. во фразе: «Нигде ни звука, ни движения; птичка даже не пролетит, и солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV» — отсутствовало местоимение «эта», указывавшее, что поименованный монумент стоит не где-нибудь, а рядом, в сквере (вариант к с. 536, строки 27—28).
Далее в работе над книгой наступил значительный перерыв. И в 1862 г., и спустя двенадцать лет Гончаров не помышлял о новом издании «Фрегата „Паллада”». В 1874 г. в литературном сборнике «Складчина» появилась статья «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (подробнее о ней см. ниже, с. 801—806), в начале которой Гончаров уверял публику, что говорит о своем путешествии в последний раз. Он писал здесь: «Может быть, имя этого последнего фрегата напомнит некоторым читателям путевые заметки автора этих строк. Обращая благодарный взгляд назад, к той эпохе, к плавателям, радушно принявшим меня в свой круг, и к публике, ласково встретившей мое незатейливое, но верное повествование о плавании в Японию, — я решаюсь опять заговорить, конечно в последний раз, об этом путешествии» (наст. т., с. 26).
Но уверение оказалось преждевременным. В 1879 г. эта статья под новым названием «Через двадцать лет» превратилась в заключительную главу книги, вернее, в эпилог.
Почти двадцатилетний перерыв объясняется прежде всего тем, что Гончаров всегда различал работу над романами и нероманами, свидетельством чего являются строки из его письма к Е. В. Толстой от 31 декабря 1855 г. — 2 января 1856 г.: «А романа нет как нет: есть донесение об экспедиции, есть путевые записки, но не роман (курсив наш. — Ред.). Этот требует благоприятных, почти счастливых, обстоятельств, потому что фантазия, участие которой неизбежно в романе как в поэтическом произведении, похожа на цветок: он распускается и благоухает под солнечными лучами, и она развертывается от лучей... фортуны». Позднее, в «Необыкновенной истории», Гончаров вновь подтверждает эту мысль. Он пишет в связи с посвящением первого отдельного издания книги великому князю Константину Николаевичу (см. об этом выше, с. 450—451): «...эта книга была, так сказать, моим обязательным литературным отчетом о путешествии. <...> Но романы — это другое дело!». К концу 1870-х гг., когда все романы были написаны (а новых, как известно, Гончаров не замышлял), его творческая фантазия постепенно стала угасать. Сказывались последствия двадцатилетней мучительной работы над романом «Обрыв»; писатель тяжело переносил резкое неприятие этого произведения многими современниками и критиками; разрушительно действовал на его творческое и психофизическое состояние незатухавший конфликт с Тургеневым; удручала несложившаяся личная жизнь; пугали материальные затруднения, вызванные необходимостью содержать чужую семью и обеспечить обучение воспитанников и т. д. Кстати, именно последнее обстоятельство привело Гончарова к мысли о переиздании «Фрегата „Паллада”».1 Переиздание преследовало и другую
- 459 -
цель; о ней говорится в письме к графине А. А. Толстой от 11 августа 1878 г.: «Романы пишутся для взрослых, а взрослые поколения меняются, следовательно, и романы должны меняться. Дети — всегда дети, всегда будут верны своему возрасту. Книга моя (путешествие) нравилась прежним поколениям детей, пригодится и нынешним». Эта же мысль повторяется и в письме к П. Г. Ганзену от 30 августа того же года: «Его («Фрегат „Паллада”») много требуют училища для классов и библиотек. Родители охотно дают его детям, потому, между прочим, что там нет ничего несвойственного и преждевременного для ума и воображения юношей».
Работа Гончарова над текстом нового издания не ограничилась введением главы-эпилога, о чем он и уведомляет публику в очередном авторском «Предисловии»: «Если этот фрегат, вновь пересмотренный, по возможности исправленный и дополненный заключительною главою <...> прослужит (как это бывает с настоящими морскими судами после так называемого „тимберования”, то есть капитальных исправлений) еще новый срок <...> автор сочтет себя награжденным сверх всяких ожиданий» (наст. т., с. 82). Новый «пересмотр», новые «исправления», по сути означавшие продолжение прежней правки (дополнения, сокращения, замены, стилистические уточнения), придали книге характер обычной гончаровской «выношенности».1
Количество внесенных в текст дополнений довольно велико, хотя по объему они, как правило, не очень значительны. Но каждое из них привносит в текст новый важный оттенок. В главе «От Кронштадта до мыса Лизарда», например, во фразе: «Офицеры бросили книги, карты, разговоры» — после слова «карты» появилось уточнение: («географические: других там нет») (вариант к с. 17, строка 17), окрашенное к тому же чисто гончаровским юмором. В главе «Атлантический океан и остров Мадера», когда речь идет о непоколебимом спокойствии денщика Гончарова Фаддеева, к словам: «Это просто — равнодушие» — прибавлено: «в самом незатейливом смысле», по-видимому, с целью добиться наибольшей психологической точности (вариант к с. 78, строки 5—6). В главе «На мысе Доброй Надежды» в эпизоде с о. Аввакумом, которому при всем его желании так и не удалось повидать Столовую гору, появляются очень точные слова, передающие сожаление именно священнослужителя по этому поводу: «Это меня за что-нибудь Бог наказал!» (вариант к с. 234, строка 39). Два небольших вкрапления появились и в тексте главы «Острова Бонинсима». Первое из них относится к самому автору. К фразе: «Я хотел перешагнуть в одном месте через ручей,
- 460 -
ухватился за куст, он изменил, и я ступил в воду, не без ропота» — было прибавлено «к удовольствию товарищей» (вариант к с. 307, строки 6—7). Получилась психологически динамичная, с юмористическим оттенком зарисовка. В главе «От Манилы до берегов Сибири» в рассказе о кочующих с места на место тунгусах, приходящих к морю «ловить рыбу», к фразе «За ними же скоро, говорят, придут медведи» — прибавляются, казалось бы, незначительные слова «за этим же», без которых фраза о медведях просто не имела бы смысла (вариант к с. 625, строка 14).
При всей многочисленности частных дополнений появлялись и вкрапления в текст более общего характера. Так, с помощью одного из них подчеркивается связь главы «На мысе Доброй Надежды» с предшествующим повествованием: упоминая шхуну «Восток», на которую Гончаров направлялся на шлюпке вместе с Посьетом и Унковским, он отсылает читателя к началу книги: «Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии, для совместного плавания с нашим фрегатом, должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед» (наст. изд., т. 2, с. 240). В главе «Сингапур» рассуждение о благах цивилизации предваряется фразой: «Прогресс сделал уже много побед» (там же, с. 273), без которой переход к последующему тексту, содержащему сопоставление условий путешествия «пятьдесят лет назад» и «теперь», был бы не столь органичным.
Итоговыми положениями дополняется прежнее «бесхитростное» повествование и в японских главах. Примером может служить текст, в котором сообщалось о первых вопросах японцев. После фразы: «Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах?» — следует обобщение, которое трудно было бы сделать вскоре после первого знакомства со страной и ее жителями: «В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на все искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки...» (там же, с. 318). В ранних же изданиях читалось просто: «Мы на все отвечали и не могли воздержаться от улыбки...» (вариант к с. 318, строки 12—14). Упорно настаивая на сходстве двух народов, китайского и японского, и заметив, что «...японцы оскорбляются, когда иностранцы <...> смешивают их с китайцами», Гончаров прибавляет: «Я затронул этот вопрос только потому, что я в Японии теперь. А кто сюда попадет, тот неминуемо коснется и вопроса о сходстве японцев с китайцами. Это здесь капитальный вопрос. Я только следую примеру других. Что делать от скуки вдался в педантизм!» (вариант к с. 333, строки 10—14). Окончательное завершение получил наконец эпизод, в котором обильно цитируется старое «сочинение Карона и Гагенара» «о Японе». Раньше этот текст заканчивался цитатой: «У инных земля много произносит жита, инныи вынимают много золота и сребра, а прочий меди, олова, свинца...». Теперь за нею последовало авторское восклицание: «И этим языком и тоном написана вся эта любопытная книга, вероятно современница „Телемахиды”!» (вариант к с. 334, строки 8—9). Подобной же сентенцией заканчивается теперь описание японских солдат, стоявших по сторонам дороги, которой следовала
- 461 -
колонна русских во время первой встречи с японскими полномочными. «На плечах у них, — пишет Гончаров, — казалось, были ружья: надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах, — и прибавляет: — а может быть, были одни чехлы без ружей», следом за этими словами идет итоговая фраза: «Здесь все может быть, чего в других местах не бывает» (вариант к с. 350, строки 6—8). Обобщающая фраза появилась и в главе «Манила»: описание приемной залы редакции местной газеты, пол которой был весь в щелях, а потолок набран из «небольших дощечек, выбеленных мелом», теперь заканчивалось словами: «Видно, землетрясения не шутят здесь и всех держат в постоянном страхе» (вариант к с. 552, строки 25—27). Авторским заключением («Всем знакомые картины Руси!») завершается теперь живописная картина сибирской деревни (вариант к с. 709, строки 43—1). Итоговая фраза последовала и за словами: «Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне». Гончаров вписал: «Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии» (вариант к с. 710, строки 3—5). Характерно и еще одно дополнение, появившееся в тексте главы «До Иркутска». Только в 1879 г. во фразу, сообщающую, что население по Лене состоит «и из крестьян, и из сосланных на поселение из разных наций и сословий», включено упоминание (среди прочих национальностей) и о поляках (вариант к с. 703, строка 39); в 1862 г. о ссыльных поляках не могло быть и речи.
Если дополнений, введенных в текст 1879 г. довольно много, то различного рода изъятий прежнего текста вдвое-втрое больше. Возможно, что сокращения были сделаны под влиянием некоторых критиков, упрекавших писателя в «гастрономических» пристрастиях, в склонности к «благодушному покою» и в стремлении «выставить себя главным действующим лицом» (см. ниже, с. 526—527). Очевидно, поэтому Гончаров продолжает освобождать текст от собственных размышлений и впечатлений по поводу увиденного. В главе «Атлантический океан и остров Мадера» до 1879 г. после слов: «...с душой человека» — следовал текст: «Давно ли еще я с томительным чувством скуки и нетерпения глядел со шканцев или из окна капитанской каюты на величественные, конечно, но куда однообразные водяные бугры и от нечего делать ожидал по временам того периодического вала, который называют девятым <...>. А теперь шагаешь по улицам южного города, сидишь в португальском семействе, поднимаешься в горы, как будто вдруг после скучного чтения развернулась самая живая страница книги. С этого утра я убедился, что недаром завидуют страннической жизни и стремятся пожить ею» (вариант к с. 85, строки 33—34). Из главы «От мыса Доброй Надежды до острова Явы» изымается такое «впечатление»: «Мы останавливались и озирались кругом: немея от изумления, от восторга, не верили глазам, не верили себе, что мы не во сне и не на сцене видим эту картину, что мы в центре чудес природы...» (вариант к с. 247, строка 42). Из главы «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» уходит эпизод, начинающийся от первого лица: «Я смотрел, как на волшебное представление, на все это шествие и жалел, что я участник, а не зритель; что не любуюсь на это откуда-нибудь с выгодного пункта» (вариант к с. 350, строка 17). Жертвует Гончаров и сценкой с собственным участием в церемонии у японцев. Рассказывая о
- 462 -
поднесенных гостям курительных принадлежностях — трубке, табаке и маленькой жаровне с горячими углями, он пишет: «Трудно было нагнуться со стула к жаровне, стоявшей на полу: я хотел взять уголь рукой, но роль Сцеволы оказалась не по мне, и я уронил уголь на циновку; надо было проворно поднять его, чтоб не испортить циновки, и положить в жаровню, потом дуть на пальцы. Я проклял журавлиное угощение» (вариант к с. 359, строка 31). Возможно, он отказался от этой сценки еще и потому, что уже дважды упоминал «угощение Лисицы и Журавля» (наст. изд., т. 2, с. 341, 359). А в главе «Русские в Японии» снимается следующее авторское рассуждение: «Но мне еще больше этой нравится другая крупная рыба, бониты. Я видел ее только в тропиках, как она там гонится за летучей рыбой. Последняя, как стая воробьев, вдруг поднимется и, пролетев сажен пять, падает, обессиленная, в воду, в жертву врагу, которого она обманула, но ненадолго. В прозрачной воде бонит блещет, как яхонт, своей фиолетовой спиной; но для меня он больше блещет на столе: он очень хорош и напоминает вкусом осетрину. Но обратимся к обеду» (вариант к с. 478, строка 20). Из главы «Манила» выбрасывается целая страница текста, начинающаяся словами: «Не ждите от меня описаний чего-нибудь нового, каких-нибудь поразительных красот Манилы; я побывал в эти полтора года под многими прекрасными небесами, ступал на многие жаркие и цветущие берега: тропическая природа имеет все одну и ту же обаятельную физиономию, на которую не устаешь любоваться» (вариант к с. 537, строка 20). Из главы «От Манилы до берегов Сибири» уходит еще одно авторское рассуждение: «Прекрасное чудовище на взгляд — и на вкус, говорят, тоже. Я не ел, во-первых, потому, что меня не было <...> во-вторых, не люблю гомаров. Они многим нравятся, но мне кажутся грубы, жестки и приторны. То ли дело наши речные раки? я пробовал всех возможных шримсов, креббов и лобстеров, и ни одни не сравнятся с теми» (вариант к с. 587, строки 29—30). По той же причине, видимо, оказывается снятой сценка, в которой сам Гончаров — главное действующее лицо — объясняется с Фаддеевым (см. варианты к с. 78,
строки 30—31, 32). Был удален длинный отрывок текста из главы «До Иркутска», начинающийся со слов: «Я удивился этим предосторожностям при спуске с гор...», в котором содержатся два ярких сюжета-воспоминания. Первый («Я знаю в одной деревеньке холм...») представляет собой прекрасную иллюстрацию к отчаянному характеру русского мужичка, съезжающего с горы, с которой «съехать невозможно»: «По крайней мере, если послать туда англичан да немцев, так они, вымерив, взвесив и исчислив, сказали бы, что тут не съедешь. А мужички ездят, потому что объезжать кругом горы будет чуть не версту. Они не то что ездят — им это редко удается, они низвергаются вдруг, и с дровнями, и с бочонками, и с лошадью — зимой быстро, в одно мгновение, а летом потише, но вскачь, так что лошадь с размаха по брюхо забежит в воду» Во втором отрывке («В другом месте, в маленьком городе, я знаю большую гору...») речь идет об отчаянном купце, человеке «умном и словоохотливом», любителе «попировать», который, «если позовут его на гору, на пир вечером, спускался к себе под гору на возвратном пути всегда по этой горе в дрожках и сам правил. Утром, едучи не с пира, а из своей лавки, он возвращался по обыкновенной дороге. И никогда не случалось, чтобы Михей Евлампиевич (так
- 463 -
звали купца) и конь не воротились домой, хотя частенько они возвращались порознь» (вариант к с. 700, строка 32).
Гончаров продолжает сокращать по тексту всей книги и мелкие реалии с явным автобиографическим оттенком. Так, из главы I уходят личные подробности (из словосочетания «мотив из вчерашней оперы» вычеркивается слово «вчерашней» — вариант к с. 17, строка 40); в главе II снимаются упоминания имен друзей (вместо «в сочельник и в ваши именины, Е<вгения> П<етровна>» — остается лишь обозначение дня: «в сочельник» — вариант к с. 54, строка 38), указания определенного места действия (вместо: «ваша гостиная или языковская зала» — остается безличная «ваша гостиная» — вариант к с. 73, строка 18), обращение «мой друг Ю<ния> Д<митриевна>» превращается в безымянное «мой прекрасный друг» (вариант к с. 77, строка 12): в главе «Ликейские острова» оказывается снятым еще одно упоминание Евг П Майковой: «Англичане уже переняли этот способ (удобрения полей. — Ред.): если он водворится у нас, тогда вы, мой друг Е<вгения> П<етровна>, много разлюбите поля» (вариант к с. 519, строка 19).
Существенная часть сокращений носит, как и в предыдущих изданиях, характер стилистической правки. Таково изъятие поэтической пейзажной зарисовки в главе «Острова Бонинсима»: «Раздавались шум буруна, клики матросов по лугу да пение из палатки то мотива из оперы, то цыганской песни. Красный отблеск огня на вершинах дерев, движущиеся силуэты людей, котлы, дым, а на небе яркие звезды — всё это достойно было кисти Сальватора Розы» (вариант к с. 309, строка 9). Казалось бы, что лишнего в этих двух фразах? Но Гончаров-стилист, старательно избегавший повторения даже одного слова, заметил, вероятно, что в предьщущем абзаце уже говорилось и о вечерних кострах, и о пении матросов, и о буруне: «Вечером зажгли огни под деревьями, матросы группами теснились около них; в палатке пили чай, оттуда слышались пение, крики. В песчаный берег яростно бил бурун <...>. Вдали светлел от луны океан, точно ртуть, а в заливе, между скал, лежал густой мрак» (наст. изд., т. 2, с. 309). К тому же текст содержал отдаленную пушкинскую реминисценцию из «Путешествия в Арзрум», от которой Гончаров, возможно, решил отказаться,1 как, впрочем, и от других скрытых или прямых пушкинских цитат.2
Стилистические исправления, внесенные в текст в 1879 г. можно разделить на несколько групп:
- 464 -
1. Подбираются более точные и образные слова и выражения («поэт» во фразе: «Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит в „безбрежную даль” океана поэт...» — заменяется «литератором» (вариант к с. 12, строка 29); вместо «Черная, как атлас, старуха-негритянка» — стало: «Черная, как поношенный атлас, старуха-негритянка» (вариант к с. 184, строка 21); «фальшивый хозяин» стал «подставным хозяином» (вариант к с. 201, строка 16); слова «в красивой, но не изученной позе» заменены словами: «в красивой, небрежной позе» (вариант к с. 335, строка 43); вместо «с злым выражением» — стало: «с сердитым выражением» (вариант к с. 457, строка 31—32) (ведь японскому губернатору, присутствующему на торжественной церемонии приема русского адмирала со свитой, больше «подходит» сердитое выражение лица); слова «покатили по широкому океану» — заменяются отсылкой к популярной народной песне: «покатили по широкому раздолью» (вариант к с. 491, строки 15—16), волосы туземца, прежде сравнивавшиеся «и цветом и густотой» с «медвежьей шкурой», теперь стали похожими на «медвежью шерсть» (вариант к с. 627, строки 6—7); прежнее сухое авторское заключение: «Словом, свой быт, нравы, свой язык и целая литература!» (наст. т., с. 38) — сменилось яркой фразой с забавной цитатой: «Это „мористо” напоминает двустишие какого-то проезжего <...> написанное им на стене после ночлега в так называемой чистой горнице постоялого двора: „Действительно, здесь чисто, — написал он, — но тараканисто, блохисто и клописто!”» (наст. изд., т. 2, с. 723)).
2. Снимаются «чрезмерности» в отдельных выражениях и описаниях. Вместо: «Я опять сладострастно содрогнулся» — стало: «Я радостно содрогнулся» (вариант к с. 10, строка 33); вместо: «Его неудержимо повлекло с горы» — стало: «Его потащило с горы» (вариант к с. 81, строка 41); вместо: «преживописную группу» — стало: «живописную группу» (вариант к с. 387, строка 22). Характерной представляется последовательная правка фразы, передающей облик жены Сейоло. Изначально в тексте было: «У ней круглое смугло-желтое, очень приятное, кроткое лицо, карие глаза, несколько томные, с выражением доброты...» (МСб2, 1858). В 1862 г. Гончаров снял слова «очень приятное, кроткое», а в 1879 г. отказался и от слов «несколько томные», тем самым освободив портрет реальной жены кафрского предводителя от эпитетов, более подходящих для героини романа (вариант к с. 238, строка 14).
3. Соблюдается точность в употреблении морских и других терминов и выражений (выражение «шторм в океане» заменяется принятым у моряков выражением «шторм на океане» (вариант к с. 71, строка 23); слово «дедушка» применительно к А. А. Халезову заменяется морским словечком «дед» (вариант к с. 80, строка 3); ошибочное «семидесяти семи толковников» исправляется на правильное «семидесяти толковников» (вариант к с. 317, строки 34—35, см. также ниже, с. 615, примеч. к с. 317)).
4. Заменяются более современными или простыми некоторые устаревшие или излишне «литературные» формы. Например, вместо: «торжественный глагол» — стало: «торжественный голос» (вариант к с. 254, строка 21); вместо: «упадает только луч его» — стало: «только падает его луч» (вариант к с. 263, строка 3); вместо: «был посылан» — стало «был послан» (вариант к с. 342, строка 6).
- 465 -
5. Снимаются всякого рода повторы (из текста «...просто и бедно: простой, грубый, деревянный стол» — уходят слова: «...и бедно: простой» (вариант к с. 513, строки 2—3); слова: «Главная трудность» — заменяются словами: «Вся трудность» (вариант к с. 557, строка 31): четырьмя строками выше уже было: «Главное препятствие»; текст: «лес не темный, не частый и не мелкий частокол» — освобождается от слова «не частый» (вариант к с. 649, строка 16)).
Превращая мемуарную статью из «Складчины» в эпилог, Гончаров изменил заглавие и не проставил перед ним очередного номера (последняя глава книги «До Иркутска» была обозначена как IX-я). От введения эпилога выиграла архитектоника книги, о которой писатель так заботился во время работы над всеми своими произведениями.1 Ранее повествование заканчивалось сухой констатацией факта появления автора в Иркутске («В самую заутреню Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже — до свидания» — наст. изд., т. 2, с. 711). Теперь его заключали проникновенные слова: «Дальнее плавание населит память, воображение прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядным знанием всего того, что знаешь по слуху, — и, кроме того, введет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей.
И этого всего потом из памяти и сердца нельзя выжить во всю жизнь, и не надо — как редких и дорогих гостей» (там же, с. 740).
В целом же правка, внесенная в текст очерка из «Складчины», велась в прежнем русле. Это прежде всего отдельные сокращения, вызванные новой функцией текста. Например, снято ставшее ненужным «напоминание» о вышедшей около двадцати лет назад книге («Может быть, имя этого последнего фрегата напомнит некоторым читателям путевые заметки автора этих строк. Обращая благодарный взгляд назад, в той эпохе, к плавателям, радушно принявшим меня в свой круг, и к публике, ласково встретившей мое незатейливое, но верное повествование о плавании в Японию, — я решаюсь опять заговорить, конечно в последний раз, об этом путешествии» — наст. т., с. 26); убран текст, в котором говорилось, что автор не написал ставшую в эпилоге главкой VI (наст. изд., т. 2, с. 730—736) «главу о землетрясении» (в «Складчине» после слов: «...самому видеть и описать» — было: «Я шутя заметил своим бывшим спутникам, что не совсем не имел права мешаться в группу лиц, праздновавших избавление свое от гибели. Хотя я потерял возможность написать главу о землетрясении, но я мог торжествовать, что совершенно случайно избежал не только гибели, которой избежали и они, но и выстраданной ими драмы приготовления к ней и потом продолжительных и тяжелых ее последствий» — наст. т., с. 27); в рассказе о дальнейших судьбах участников похода не стало некоторых подробностей («Третьи подвизаются еще на море: так, адмирал И. И. Бутаков, бывший старшим офицером на „Палладе”, командует нашей эскадрой в Греции, бывшие мичмана теперь начальствуют большими пароходами, другие управляют техническими заводами и т. д.» (наст. т., с. 53—54).
- 466 -
Текст издания 1879 г. с незначительными поправками включался в оба собрания сочинений (1884, 1886) вместе с авторским предисловием.
О характере предпринятой Гончаровым новой правки свидетельствует такой пример: в 1884 г. в главе «Атлантический океан и остров Мадера» оказались снятыми две фразы: «Тут-то я и поселился. Качка усиливалась» (вариант к с. 75, строка 36). Очевидно, первая показалась Гончарову, всегда старательно избегавшему любых повторов, лишней, потому что несколькими строками выше уже сообщалось о капитанской каюте: «Любезный, гостеприимный хозяин И. С. Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение», а чуть ниже описывалась и буря, так что и упоминание о качке было ненужным. Другие исправления, менее заметные, также относятся к стадии последней «обработки» текста.
Продолжается и начатое ранее исправление некоторых устаревших грамматических форм («карт» вместо «карта», «матросов» вместо «матрос» (ср. выше, с. 455); «трое суток» вместо «трои суток»); в то же время Гончаров продолжает выправлять форму «дома» на «домы».
Наконец, исправляются и некоторые фактические неточности: вместо: «миль за девять» — стало: «миль за десять» (вариант к с. 187, строки 31—32); вместо: «мили четыре, то есть около семи верст» — стало: «мили три, то есть около четырех верст» (вариант к с. 278, строка 37).
Но в оба собрания сочинений проник целый ряд опечаток, ошибок набора — пропусков частей фраз или слов.1 Так, из главы I тома первого выпала совершенно необходимая заключительная часть фразы, содержащей перечень всех посещенных автором мест. После: «и Китае» — во всех предыдущих изданиях следовало: «наконец, сквозь японцев и американцев — в Японии» (наст. изд., т. 2, с. 14). Тем не менее текст последнего из этих авторизованных изданий принят в настоящем издании за основной (с целым рядом необходимых смысловых и отдельных стилистических и грамматических исправлений, например: «Тот уезжает» вместо «Тот не уезжает», «это варварство» вместо «это коварство», «по мокрому песку» вместо «по морскому песку» и т. д.). Всего в текст книги внесено свыше 70 поправок; из них оговорено в Списке исправлений (наст. т., с. 395—397) 62; явные описки и опечатки в Списке не отмечены.
Имена реальных лиц, печатавшиеся под инициалами и другими обозначениями (к. — капитан; б. — барон и т. п.), раскрыты; основания для этого дает сам Гончаров. Уже в издании 1879 г. имена членов кают-компании обозначены более пространно, чем прежде: «К. И. Л.» вместо «К. Л.», «О. А. Г.» вместо «О. А.», «Б. К.» вместо
- 467 -
«К.» и т. д. Но и на страницах предыдущих изданий, правда непоследовательно, встречаются: «барон», «о. Авв<акум>», «В. А. Корсаков», «капитан Фуругельм», «Унковский»,1 «надворный советник О. А. Гошкевич». В издании 1886 г. на с. 115 читаем: «Нас было десять человек. <...> Кроме офицеров, гг. Посьета, Назимова, Кроуна, Белавенца, Болтина, Овсянникова, кн. Урусова, да нас троих, не офицеров, о. Аввакума, О. А. Гошкевича и меня...», на с. 179: «Место видели: говорят, хорошо. С К. Н. Посьетом ездили: В. А. Римский-Корсаков, И. В. Фуругельм и К. И. Лосев»; на с. 182: «Наконец, адмиральский катер: в нем, кроме самого адмирала, помешались командиры со всех четырех судов: И. С. Унковский, капитан-лейтенанты Р<имский>-Корсаков, Назимов и Фуругельм, лейтенант барон Крюднер, переводчик с китайского языка О. А. Гошкевич и ваш покорнейший слуга».2 В главе «Через двадцать лет» полностью даются имена всех офицеров, за исключением Унковского и Посьета (с. 522, 557). В этой главе Гончаров пытается придерживаться принципа, декларированного им позднее, в 1890 г., в письмах к Д. Н. Цертелеву от 27 ноября и 29 декабря: печатать имена умерших «en toutes lettres» (см. ниже, с. 809). Впрочем, сознавая, что его позиция в отношении передачи имен не слишком последовательна, окончательное решение в данном случае он оставлял за редактором «Русского обозрения»: «Я совершенно равнодушен к этому вопросу и позволяю предоставить это Вашей редакторской мудрости».
4
Еще не зная, придется ли ему принять участие в экспедиции Путятина, Гончаров оправдывал свой столь решительный поступок («такой дальний и опасный путь»), в частности, будущим литературным трудом: «...написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа 1852 г.).
«Книга» — это самое общее и неопределенное наименование того, чем собирался «отчитаться» Гончаров перед друзьями и публикой; слово, однако, обязывающее, и позднее писатель старался его не употреблять. В дальнейшем, рассказывая друзьям о своих литературных занятиях на фрегате, Гончаров предельно осторожен и ни о чем конкретном очень долго не сообщает. В письме к Е. А. и М. А. Языковым из Лондона от 3—4 (15—16) ноября 1852 г. он жалуется, что не может «ни читать, ни писать, ни даже думать свободно», и вместо путевых записок шутливо обещает особую главу в роман «Обломов»: «...я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием „Путешествие Обломова”:3 там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан,
- 468 -
знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п.». Возвращается Гончаров к «обломовским» сюжетам и в большом письме к Евг. П. и Н. А. Майковым От 20 ноября (2 декабря) 1852 г. из Портсмута, называя это частное послание «вступлением (даже не предисловием, то еще впереди) к „Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова”». В осенних письмах 1852 г. он часто вспоминает Илью Ильича Обломова, что неудивительно, — экспедиция прервала работу над романом, которая, впрочем, к тому времени затормозилась. Возможно, одной из причин, побудивших Гончарова отправиться в многолетнее плавание, и было желание отдохнуть от романа. Постепенно новые и сильные впечатления потеснили обломовские мотивы. Гончаров вспоминал в «Необыкновенной истории»: «На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками. <...> Обе программы романов («Обломов» и «Обрыв») были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями».
Чрезвычайно начинает беспокоить Гончарова судьба его писем к друзьям. В упомянутом письме к Майковым он просит бережно обращаться с ними, очевидно рассматривая их как материал для будущих путевых очерков, работу над которыми явно откладывает. «Что касается до этого и следующих писем, то Вы, Николай Апол<лонович>, обещали не давать их никому, — напоминает Гончаров, — а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может, понадобится. Притом я пишу без претензий для Вас и других самых коротких друзей, оттого и желал бы, чтобы прочли только они; Вы их всех знаете. Если будут спрашивать, скажите, что кто-нибудь взял, да не принес».1 Вместе с тем
- 469 -
Гончаров жалеет, что тратил время на частную переписку, считая, что это сильно повредило его работе над путевыми записками. В письме к семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г. он говорит: «Материалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться, времени недостанет; а если откладывать, — пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки — и потом всё это прочесть вам вместе, а теперь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом бо́льшую часть событий я обязан вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написана — это собственно о море и о качке. Читал — смеялись». Написанная «глава» — фрагмент главы I «Фрегата „Паллада”», была собственно первой «путевой» пробой пера Гончарова — автора книги-путешествия, по сути еще только приступающего к запискам, чрезвычайно озабоченного и неуверенного, сомневающегося в том, сможет ли он из богатейшего и пестрого материала создать что-либо интересное и занимательное: «До Мадеры, до Зеленого мыса, до тропиков еще не дотрогивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я всё воображаю на своем месте более тонкое и умное перо, например Боткина, Анненкова и других, — и страшно делается. Зачем-де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а вокруг света!» (там же). В основном речь идет пока об устных и письменных рассказах для узкого круга друзей.
Из письма к семье Н. А. Майкова от 25—26 мая (6—7 июня) 1853 г. (Сингапурский пролив) мы узнаем о существовании «памятной книжки», куда «для самоуслаждения» Гончаров вносит самые разные, по видимости случайные, записи: «...чуть явится путная мысль, меткая заметка, — я возьму да и запишу в памятную книжку, думая, не годится ли после на что, хотя после холодного размышления сам же увижу, что ничего не будет». «Памятная книжка» и стала основой путевых очерков, работа над которыми оставляла все меньше времени для писем; И. И. Льховскому Гончаров сообщает 26 июля-20 августа (7 августа-1 сентября) 1853 г.: «...я всё надеюсь вести записки и даже написал главу о плавании от Англии до Мадеры и о Сингапуре, а писать письма так же подробно и отчетливо, как записки, некогда, одно вредит другому». Так Гончаров писал очень близкому человеку, с которым был откровенен; в письмах к другим адресатам он старается скрыть свою работу над записками: «Меня немало печалит в моем путешествии то, что некоторые знакомые и незнакомые ожидают, как я слышал, каких-то записок или писем, что ли, о моих странствиях. Вот этого я боялся пуще всего: ни писем, ни записок никаких нет и не будет, и на ум мне об этом нейдет, потому что я и нездоров, и некогда мне, а тут ждут.
- 470 -
Я часто каюсь, что поехал <...> у меня нет ни малейшей охоты, ни времени делиться с другими, да еще печатно, тем, что я вижу. <...> Замечаю и записываю только то, чего не смею не записывать, то есть за что получаю жалованье» (указанное выше письмо к Э. А. Белавиной). Гончаров предпочитает ничего не говорить о «записках», «письмах путешественника», «памятной книжке», каких-либо новых «главах» до середины декабря 1853 г. Только 15 (27) декабря, описывая Е. А. и М. А. Языковым шанхайские впечатления, он осторожно, со всевозможными оговорками, сообщает, что «иногда, на досуге», набрасывает «заметки в тетрадь, не зная, пригодится ли на что-нибудь» («тетрадь», видимо, та же «памятная книжка»), и тут же проговаривается о существовании готовых «статеек», не уточняя их названий и всячески оттягивая публикацию до возвращения из экспедиции: «...меня приводит в смущение выноска, сделанная в Вашем письме: что редакторы ожидают от меня статейки. Вот это-то и беда. Поверите ли, что у меня набросано на бумагу в виде писем всего три-четыре статейки? Одну какую-нибудь я, может быть, и послал бы Андрею Алекс<андровичу>, исполняя давнишнее обещание, да мне не пришло в голову о возможности напечатать без себя (то есть до возвращения в Петербург. — Ред.): лучше уж вместе всё, если только наберется побольше. Но всё это такие пустяки, что совестно и показывать».
Несколько конкретизирует Гончаров состояние работы над записками («Да записывал: то о Маниле, то доканчивал о мысе Добр<ой> Н<адежды>, то чего не кончил в свое время») и ее характер («Делал это просто, не мудрствуя лукаво, с свойственным мне беспорядком, начиная с того, чем другие кончают, и наоборот») в письме к Языковым от 13 (25) марта 1854 г. Оценивает Гончаров свои «записки», «статейки», «главы» невысоко («Дурно, бестолково, ничего нового, занимательного...»), но сделал он уже немало. Чувствуется, что он почти всецело сосредоточился на создании своих личных записок, забросив должностной труд («официальный журнал остановился и нейдет вперед», чем недоволен Путятин), и что работа над путевыми очерками идет легко и, видимо, доставляет наслаждение: писатель не спешит приводить разрозненные записи в порядок, предпочитая свободное, спонтанное творчество — мозаику, арабески, которые небрежно рисует «перо туриста». Это хорошо видно из письма Гончарова к Евг. П. и Н. А. Майковым от 14 (26) марта 1854 г., где он уже перечисляет в основном законченные путевые очерки: «...к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. „Мыс Доброй Н<адежды>”, „Сингапур”, „Бонинсима”, „Шанхай”, „Япония” (две части), „Ликейские острова” — всё это записано у меня, и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас...». Со всей определенностью он уже «разводит» путевые записки и частные письма, которые «формализует», сообщая друзьям лишь самые общие сведения: «Не сердитесь, что письмо вяло и неполно. Я сообщаю Вам кое-какие крупные сведения, на выдержку. Подробности записаны у меня в путевых записках, иногда с литературными замашками, но без всякой лжи» (там же).
Редактору «Отечественных записок» А. А. Краевскому Гончаров решится написать только в сентябре 1854 г. В письме, в котором так много изящной и шутливой «болтовни», Гончаров бегло
- 471 -
характеризует написанные очерки, не видя в них особенных литературных и прочих достоинств: «Иногда я просматриваю свои путевые тетради — какая нагая пустота! никакой учености, нет даже статистических данных, цифр — ничего. Ну как пошлешь что-нибудь к Вам — и что? Вот на выдержку вынулся „Шанхай”: нет, нельзя, тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже отца Иоакинфа, а уж он ли не весело пишет? „Сингапур” — тут много восторгов: не по летам. Ищу „Мадеры” (острова), но напрасно шарю рукой, я вспомнил, что она еще в проекте <...> „Мыс Добб<рой> Надежды” — это целая книга с претензиями на исторический взгляд: надо повыкрасть кое-каких данных из других путешествий; „Акжер на Яве” — годится, да всего три страницы. „Манила”... вот „Манилу” бы хорошо, она готова почти, да, того... не переписана, а здесь писарей не видать».1
Перечислив законченные и полузаконченные очерки, включая «целую книгу» «Мыс Доброй Надежды», упомянув и о том, какие очерки еще находятся в «проекте», Гончаров сам, по сути, опровергает уничижительную их оценку: «нагая пустота». Труд Гончарова явно значительно продвинулся, и, может быть, особенно в Якутске и Иркутске, где он, задержавшись на некоторое время, успешно творил. О литературных занятиях в Сибири свидетельствует письмо к семье Майковых от 13 января 1855 г. из Иркутска, в котором Гончаров сообщает, что, прочитав фельетон А. Н. Майкова «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому» в «С.-Петербургских ведомостях», он «тотчас же отбросил путевые записки, которыми тогда занимался, и написал статью „Якутск”, в которой фактами подтверждаю Вашу <А. Н. Майкова> мысль о том, как Россия подвластным ей народам открывает обширное поприще деятельности и разумногоприложения сил». В сущности Гончаров не «отбросил», а продолжил путевые записки: это рассказ о том, как сложилась глава VIII тома второго «Фрегата „Паллада”», первая из сибирских глав. В самой же главе Гончаров, между прочим, поведал о не прекращающейся в любых условиях работе над путевыми записками: «Я дорогой, от скуки, набрасывал на станциях в записную книжку беглые заметки о виденном. При свидании прочту вам их, и вы увидите подробные доказательства всему, что говорю теперь» (наст. изд., т. 2, с. 681). Там же, повествуя о смотрителе Плотникове, Гончаров пишет: «„Очень хорошо — Плотников”, — записал я в книжечку, и мне живо представилась подобная же сцена из „Ревизора”. <...> Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же, при нем, записал его разговор» (там же, с. 668). Такого рода свидетельства редки во «Фрегате „Паллада”», но тем они драгоценнее — скупые авторские признания, непосредственно вводящие читателя в творческую лабораторию Гончарова.
У Гончарова долго не было уверенности в том, что путевые очерки могут сложиться в книгу. Только по мере публикации отдельных
- 472 -
очерков в 1855—1857 гг. контуры книги стали вырисовываться все отчетливее. Но это был медленный процесс. В 1874 г. был написан очерк «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании», превращенный в 1879 г. в эпилог к книге под названием «Через двадцать лет».
25 февраля 1855 г. Гончаров вернулся в Петербург, где сразу же с энтузиазмом вошел в литературную жизнь. Это становится ясно уже из письма от 1 марта 1855 г. к В. Ф. Одоевскому: «Радуюсь, что буду иметь удовольствие видеть Вас завтра у Панаева, и горю нетерпением засвидетельствовать мое почтение княжне. Извините за беспорядок бумаги, почерка и стиля: я еще пока на бивуаке».
«Бивуачное» положение скоро изменилось. Наступила пора радостных встреч, рассказов о путешествии и чтения избранных отрывков друзьям, которые, должно быть, выслушали их с большим вниманием и одобрили, — иначе Гончаров, чья мнительность с годами возрастала, не решился бы отдать в «Отечественные записки» Краевского очерк «Ликейские острова». Публикацию Гончаров сопроводил предисловием — «выноской», в котором вновь говорил о своих колебаниях, сомнениях, часто упоминавшихся и в письмах. Поражает в небольшом предисловии обилие «не» и «ни», к которым автор прибегает, чтобы подчеркнуть свои скромные цели: он «не имел ни возможности, ни намерения описывать свое путешествие как записной турист или моряк, еще менее как ученый» (наст. т., с. 80). Автор, разъясняет Гончаров, уступил приятелям, хором объявившим ему, что он «будто бы должен представить отчет о своем путешествии публике», и сделал это неохотно, после того как приятелями были отвергнуты все многочисленные «не», с помощью которых писатель пытался такого отчета избежать: «Напрасно он отговаривался тем, что он не готовил описания для нее <публики>, что писал только беглые заметки о виденном или входил в подробности больше о самом себе, занимательные для них, приятелей, и утомительные для посторонних людей, что поэтому дневник не может иметь литературной занимательности, что автор, по обстоятельствам, не имеет времени приготовить его для публики, что, наконец, он не успел даже собрать всех посланных в разные времена и места отрывков, и потому нельзя представить всего журнала с начала и в связи» (там же; курсив наш. — Ред.). Уступая, Гончаров не только не обещает в будущем ничего определенного, но и предъявляет публике свои условия, от выполнения которых зависит судьба публикации других очерков: автор «...решается представить первую, какая попалась, главу не на суд, а на снисходительное внимание публики. Если читатели будут смотреть на этот дневник с той же точки зрения, с какой смотрит сам автор и его приятели, то он по временам, сколько позволят ему другие занятия, будет продолжать печатать и прочие главы дневника» (там же, с. 81).
Самоуничижительные реплики и оговорки-предуведомления не могут быть объяснены лишь свойственными Гончарову мнительностью и осторожностью. Они, вообще говоря, традиционны. Гончаров следовал устоявшейся традиции литературных «писем путешественника»; в них предисловие было «необходимой частью», которая «обычно заключала извинение в слабости пера, оправданием
- 473 -
чему служило нередко то обстоятельство, что друзья настояли на опубликовании этих интимных страниц, написанных для себя и для тесного круга» (Роболи. С. 47).1
Гончаров считает, что «путевые заметки», как сугубо частное, приватное дело, предназначены для автора и самых близких друзей. Дневник, содержащий разрозненные, нерегулярные наблюдения, послужил материалом для писем, а письма легли в основу заметок.2 Как объясняет Гончаров, «он (автор «Ликейских островов». — Ред.) просто вел, сколько позволяли ему служебные занятия, дневник и по временам посылал его в виде писем к приятелям в Россию, а чего не послал, то намеревался прочесть в кругу их сам, чтоб избежать изустных с их стороны вопросов о том, где он был, что видел, делал и т. п.» (наст. т., с. 80). Вводя наивную, ложную мотивировку,
- 474 -
Гончаров несколько искажает подлинную картину.1 Безусловно, он использовал материалы дневника («памятной книжки») равно для писем и путевых очерков, в чем-то близких, но порой и очень значительно расходящихся; так, Гончаров совсем немного сообщает Е. А. и М. А. Языковым в письме от 13 (25) марта 1854 г. о Ликейских островах, не дублируя дневник: «Я дополнил, как умел, картину Базиля Галля, записал, что видел, да боюсь, не поверят». Записанное будет использовано в очерке. Лукавил Гончаров и отзываясь о «Ликейских островах» как о первой, случайно попавшейся на глаза главе. Это одно из самых поэтичных и художественно совершенных произведений писателя. К тому же очерк теснейшим образом связан с опубликованным еще в 1849 г. шедевром Гончарова «Сон Обломова». Возможно, что, возобновляя литературную деятельность, писатель хотел напомнить о незавершенном романе и подчеркнуть связь между «Обломовым» и «Фрегатом „Паллада”».
***
В 1855—1856 гг. вслед за «Ликейскими островами» один за другим в разных журналах и сборниках печатаются двенадцать других путевых очерков; последним был очерк «От Кронштадта до мыса Лизарда» (в 1857 г. Гончаров прибавит к ним еще два, а в отдельное издание 1858 г. включит также небольшую главку «Гонконг»). Очерк «От Кронштадта до мыса Лизарда» в конце концов станет не только первой, но и ключевой главой «Фрегата „Паллада”». Здесь «излагаются эстетические принципы Гончарова, завязывается проблемно-тематический узел всего повествования, формулируются опорные пункты описания», «наглядно разворачивается процесс взаимодействия различных жанровых форм: письма, дневника, очерка».2 Глава стала важнейшим этапом становления книги, сцементировала пестрое собрание путевых очерков-писем.
Гончаров начал главу с сожаления по поводу пропажи двух писем из Лондона и Гонконга, которые он будто бы вынужден сочинить заново: «...теперь поздно производить следствие <...> лучше вновь написать, если только это нужно...» (наст. изд., т. 2, с. 7). Время и место вновь сочиненного послания Гончаров счел необходимым
- 475 -
обозначить точно («Июнь 1854 года. На шхуне „Восток”, в Татарском проливе»), после чего следуют еще два письма, которые не были посланы из Англии и которые датированы ноябрем-декабрем 1852 г. Завершает же главу небольшая приписка, датируемая январем
1853 г. («Британский канал»). Два неотосланных письма Гончаров собирался дополнить и отшлифовать, но передумал и оставил в первоначальном виде. Так во всяком случае объясняет писатель их появление в своеобразном промежуточном авторском предисловии, предпосланном английским картинам.
Предисловие «восстанавливает» характерную последовательность рассказа, и в нем еще раз обращается внимание на эскизный и сугубо личный характер наблюдений автора: «Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции — стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях» (там же, с. 34—35). И на этот раз «скромность» Гончарова носит традиционный характер.1
Разумеется, нельзя исключить того, что какие-то письма Гончарова почта не доставила друзьям, но, скорее всего, это мистификация — весьма распространенный литературный прием, к которому писатель охотно прибегал; В. Б. Шкловский считает, что «он дал письмо суммирующее, как будто написанное в самом конце путешествия. В этом вымышленном письме, основанном на письмах реальных, Гончаров дал общую характеристику путешествия, самого себя как путешественника, характеристику англичанина купца, противопоставление северной природы и России, олицетворенной в корабле, и тропиков. <...> Разговор о потере письма является способом преодолеть литературную условность и дать все письма как реальную дружескую переписку» (Шкловский. С. 230—231).
Не подлежит сомнению факт, что Гончаров включает в главу I (и, конечно, в другие) фрагменты реальных писем и материал дневника,2 но, конечно, это вовсе не старые, «без перемен», по разным
- 476 -
причинам не отправленные письма или листки из дневника;1 они подвергнуты серьезной литературной обработке. В главе I «перемены» очень значительны, а многое (в том числе «путешествие» в Обломовку и программные заявления автора) было специально написано Гончаровым в 1856 г. для этой главы. Отсюда, кстати, и усложненная композиция главы, и обилие всевозможных разъяснений и отступлений, восполняющих отсутствие авторского предисловия к первому изданию книги, и ее исповедально-литературный характер.
Страхи и сомнения, тревоги литератора, неизменно присутствующие в корреспонденции Гончарова, в обобщенном и концентрированном виде вошли в главу I, воплотившись в образ «грозного привидения», чем дальше, тем настойчивее преследующего писателя: «Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плавателями? Экспедиция в Японию — не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать?» (наст. изд., т. 2, с. 13).
Отклоняя разнообразные требования и ожидания друзей и публики, которые он даже, если бы очень хотел, не мог бы исполнить, Гончаров предпочитает ограничиться беглыми и сугубо личными наблюдениями и впечатлениями, воспользовавшись той свободой, которую предоставлял недогматический жанр писем и дневников путешественника: «Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученой пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры, — словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику» (там же).
Отсутствие «науки о путешествиях» и «ферулы риторики» предоставило Гончарову максимальную свободу в выборе литературных
- 477 -
форм и приемов повествования (свободу, в чем-то даже пугающую, — одновременно и «простор», и «тесно писать»), которой он блестяще воспользовался, создав книгу, занявшую «свое особое место в истории жанра путешествий, где очень трудно подыскать к ней какую-нибудь аналогию во всей европейской литературе...» (Энгельгардт. С. 225).1
В письме к М. Н. Каткову от 21 апреля 1857 г. писатель усиленно обращал внимание на то, что в путевых очерках он «не спроста, как думают, а умышленно, иногда даже с трудом, избегал фактической стороны и ловил только артистическую, потому что писал для большинства, а не для акад<емиков>». И. И. Льховский в предисловии к первому изданию книги, в большой степени инспирированному Гончаровым,2 особенно много говорил как раз об «артистической» стороне «Фрегата „Паллада”»: «Из ограниченного круга предметов, подлежавших наблюдению, автор обратил исключительное внимание на то, что влекло его с особенной силой, как человека и поэта народного по преимуществу, начиная от природы, которую он подверг такому осязательному анализу, полному действительного блеска и аромата, и кончая простым матросом, костромским парнем, перенесенным под тропическое небо <...> главный элемент дарования г-на Гончарова, как поэта и притом романиста, постоянно дает себя чувствовать в его путевых очерках. <...> Голос поэта эпического, романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника» (1858. Т. 1. С. III—V).
В рецензии на издание Льховский гораздо подробнее коснулся той же темы. Рассуждая о «роде», к которому принадлежат путевые очерки Гончарова, Льховский сопоставляет их не только с путевой прозой выдающихся современных английских писателей Ч. Диккенса и У. Теккерея, но и с поэзией Пушкина и Байрона, а также с совсем недавно вышедшими «Очерками Рима» А. Н. Майкова и «Письмами об Испании» В. П. Боткина. Завершает Льховский рецензию указанием на несомненные и огромные преимущества художественного способа познания мира перед «специальным», научным:
- 478 -
«Никому более недоступен жизненный смысл явлений и их интимный характер, как современному поэту с его свободными воззрениями, тонким психологическим развитием и сознательным стремлением к истине. Художники новейших времен своими произведениями едва ли не более всех способствовали распространению в обществе психологического анализа и философских воззрений, созданных наукой, и, вероятно, окажут ей подобные же услуги и на других поприщах» (БдЧ. 1858. № 7. Лит. летопись. С. 11).1
Однако отношение Гончарова к «поэтическим» (или «артистическим») сказаниям (как и к «морской» лирике) весьма сложно и противоречиво. Даже в очерке для юношества «Два случая из морской жизни», который должен был быть занимательным, назидательным, «пропагандистским», Гончаров не удержался и добавил слова, производящие впечатление холодного душа: «Поэзия старых времен! Всё это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там даже оно красивее, нежели в натуре: больше блеску, ярче. На море теперь это редкое явление» (наст. т., с. 14). Гораздо резче обозначен контраст между старой «поэзией» и современной «прозой» во «Фрегате „Паллада”», особенно в главе I книги, где впечатляюще повествуется о прогрессе и успехах цивилизации, уносящих последние тайны и с ними поэзию. «Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. <...> Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью» (наст. изд., т. 2, с. 13).
Исчез «величавый образ Колумба и Васко де Гама», вытесненный русским штурманом и главным образом английским лоцманом («в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом» — там же, с. 12). Все стало (или становится) однообразнее, прозаичнее, будничнее. Поэзия не впереди, не в далеких морских странствиях, а позади, в чухонских болотах, где хоть изредка, но еще случаются «чудеса»: «Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любуясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое „чудо”, ликует в непривычном зное, и всё заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря» (там же, с. 15).
Традиционные сюжеты, от которых некогда замирало сердце ребенка, Гончаров пересказывает, незаметно соскальзывая в пародию, в очерке «Два случая из морской жизни»: «Вы, может быть, ожидаете от меня какой-нибудь великолепной картины крушения: вам, конечно, хотелось бы, чтобы судно разбилось об утес, а мы спасались бы на досках, или ураган сломал бы все три мачты, оторвал руль, унес паруса, чтобы беспомощный корабль носился по воле ветров несколько суток, пожалуй недель, по бурному морю; мы простирали бы к нему руки, умоляя о спасении... Между тем провизия вышла, мы томимся голодом и жаждой, доходим до отчаяния, готовы съесть друг друга. Наконец, нас принесло к неизвестному острову и разбило об утесы, мы попадаем в руки диких. Они пляшут
- 479 -
около нас военную пляску, зажигают костер... и делают из нас жаркое...» (наст. т., с. 13—14).1
Ничего даже отдаленно приближающегося к такого рода приключенческим, авантюрным сюжетам ни в очерке, ни в книге Гончарова нет, как нет и описаний моря-океана в духе Байрона, Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Сознательно затушевывается или устраняется (особенно в главе I) все, что возвышается над будничным и прозаическим уровнем. Б. М. Энгельгардт в основном точно (хотя и не без преувеличения) характеризует эту повествовательную тенденцию книги: «В центре повествования оказывается уже не само путешествие с его невзгодами, лишениями и страхами, с бездной острых, необычайных впечатлений и переживаний, с его поэзией и красками, а упорный труд человека, его отвага и предприимчивость, покорившие ему весь мир, сделавшие этот мир его привычным достоянием. И с этой точки зрения совершается своеобразная переоценка всего наличного материала наблюдений и впечатлений. Опасные приключения, штормы, рифы, туманы, нехватка провизии, появление на судне болезней, военные опасности отходят назад, искусно затушевываются; вперед выдвигаются все достижения, настоящие и будущие, европейской цивилизации, техники и комфорта, на которые натыкаешься во всех углах мира; в этом плане, действительно, тихоокеанский тайфун имеет меньше значения, нежели вопрос об отелях на Капе, о колясках в Австралии, о прачках на Сандвичевых островах и т. п., и т. п.» (Энгельгардт. С. 257).
***
Рассказ о путешествии разворачивается как будто спонтанно, прихотливо, капризно, переменчиво, подобно погоде на разных широтах, его течение регулируется дневниковыми записями и потому хронологически последовательно (исключение — глава I, где почти все этапы плавания перемешаны: здесь и начало, и итог). Свободная структура «Фрегата „Паллада”» предполагает сосуществование различных жанров: от поэтических посланий друзьям до небольших книг с приложенными к ним историко-географическими очерками, иногда резко выпадающими из главенствующего тона повествования.2 Гончаров избрал метод свободного, откровенно субъективного
- 480 -
изложения, хотя и опирается на опыт многочисленных предшественников (европейских и российских), отталкивается от некоторых традиций художественной путевой прозы.
Подобно другим русским путешественникам, он вспоминает повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм»: «...помните „милый Борнгольм” и таинственную, недосказанную легенду Карамзина?» (наст. изд., т. 2, с. 23).1 Большое значение имели для писателя и традиции знаменитой книги Карамзина, где был создан «устойчивый культурный образ „русского путешественника” за границей».2 В определенном смысле книга Гончарова тоже «имитация писем частного лица, „русского путешественника”, непритязательно описывающего свои дорожные впечатления».3 И образ автора во «Фрегате „Паллада”» строится в тени «путешественника» Карамзина и его многочисленных литературных последователей (П. П. Сумароков, В. В. Измайлов, П. И. Шаликов, М. И. Невзоров, П. И. Макаров), сохраняя, однако, рельефно очерченные индивидуальные черты.4
Гончаров почти механически воспользовался некоторыми устоявшимися повествовательно-композиционными приемами (превратившимися
- 481 -
в своего рода клише) «литературы путешествий», в частности разработанной ею мемуарно-эпистолярно-дневниковой структурой («Форма дневника, описывающего мелочи жизни изо дня в день, форма писем к друзьям, с намеками на какие-то известные адресату происшествия и лица», создающими «иллюзию особой интимности», — Роболи. С. 44) и теми преимуществами, которые она предоставляла, освобождая автора от многих условностей, предписываемых поэтикой романа («Рассказчик не был стеснен ни во времени, ни в пространстве. Самое трудное в большой форме — конец — здесь является, по существу, механичным: путешественник мог в любое время вернуться домой или доехать до места назначения» — Там же. С. 45). Но написана книга Гончарова в другом, во многом «антиромантическом» стилистическом ключе. Совершенно очевидна огромная литературная дистанция между этим заземленно-бытовым, отчасти «антипоэтическим» произведением и предромантическими «Письмами русского путешественника».1
Важным компонентом книги Карамзина были частые обращения к друзьям-читателям. Это, например, сентиментальные признания автора, жаждущего «выплакать сердце свое»: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!»; «Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался»; «Друзья мои! Дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас куда хочет!»; «Сейчас получил от вас письмо — и как обрадовался, нет нужды сказывать. Можно ли, что вы не писали ко мне от 14 февраля до 7 апреля? Любезные друзья мои, конечно, не знали, как дорого стоило их молчание бедному русскому путешественнику; иначе, без сомнения, они не заставили бы его мучиться» (Карамзин. С. 81, 82, 88, 300, 403). Аналогично и у Гончарова, но гораздо сдержаннее, без сентименталистской чувствительности: «Как я обрадовался вашим письмам — и обрадовался бескорыстно!...»; «Еще последнее „прости”! Увидимся ли? В путешествии, или походе, как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня — надежда воротиться» (наст. изд., т. 2, с. 38, 68). От чувствительных излияний, признаний в любви и вечной дружбе Гончаров воздерживается; свой тихий, без непременных объятий отъезд он объясняет так: «...я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря „о петербургской станции”, умолчал о дружбе...». И тут же Гончаров разбирает понятия «дружба» и «любовь», восставая против «обязанностей», житейских «кодексов», теоретической
- 482 -
трескотни: «Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за дружба такая, что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. <...> Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры...» (наст. изд., т. 2, с. 36—38).1
Есть во «Фрегате „Паллада”» и суховатое, короткое прощание с «вещами бездушными»: «Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть всё это, променять на что?» (там же, с. 11). Карамзин прощается с «вещами» гораздо пространнее и эмоциональнее: «На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставало меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями» (Карамзин. С. 81—82).
Карамзин часто и с энтузиазмом рекомендует друзьям путешествовать: «Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!» (Карамзин. С. 201). Этот элемент есть и в книге Гончарова, но, в соответствии с господствующей в ней стилистической тенденцией, редуцированный: «Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать!» (наст. изд., т. 2, с. 85).
Книга Карамзина изобилует риторическими вопросами-обращениями к друзьям, которые не могут быть свидетелями увиденного автором и его спутниками во время заграничных странствий: «Итак, ваш друг уже в Саксонии!»; «Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия!»; «„Я в Париже!”. Эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение...»; «Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижские улицы: разумеется, где что-нибудь случилось, было или есть примечания достойное» (Карамзин.
- 483 -
С. 140, 207, 369, 425). Сходным образом и у Гончарова: «Где я, о, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета?»; «Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах?»; «Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1-го мая?»; «Что это за край; где мы? сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь?» (наст. изд., т. 2, с. 253, 363, 541, 625).
Карамзин часто прибегает к диалогу с друзьями, ведет с ними задушевную беседу, прерываемую теми или иными обстоятельствами: «Но перервем разговор, который занял уже с лишком две страницы и начинает утомлять серебряное перо мое»; «Чего не напишешь в минуты бессонницы! Простите до Кенигсберга!»; «Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру свой страннический посох — иду смотреть на засыпающую природу и странствовать глазами по звездному небу»; «Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающие, отвлекают глаза мои от бумаги»; «Простите! Перо выпадает из рук моих, и мягкая постель манит меня в свои объятия»; «Теперь ночь — Беккер спит — я не могу — сижу за столиком и лечу мыслями в мое отечество, — к вам, моим любезным!» (Карамзин. С. 98, 99, 181, 215, 299, 362). Не менее часты такого же типа стилистические фигуры и у Гончарова (но у него, конечно, не может быть «страннического посоха» и «серебряного пера»): «Скажите, положа руку на сердце: знаете ли вы хорошенько, что такое Капская колония?»; «Однако нет возможности писать: качка ужасная <...>. Пойду посмотрю, что делается...»; «До свидания. Пойду уснуть, я еще не оправился совсем»; «Прощайте! Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скудно наблюдениями или фактами и сухо...»; «Помните условие: я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день» (наст. изд., т. 2, с. 154, 293, 301, 442, 519).
В общем поэтика сентименталистской и романтической «литературы путешествий» несомненно была во многом чужда Гончарову, который развенчивает романтические штампы (культ дружбы, патриархально-идиллической жизни), низводит на землю поэзию дальних странствий. И напротив, многое роднит книгу Гончарова с незатейливыми, однако документально точными произведениями путешественников-исследователей (И. Крузенштерна, В. Головнина, О. Коцебу).1 Документально-дневниковый пласт «Фрегата „Паллада”»
- 484 -
это в прямом смысле жизненный фундамент книги, автор и персонажи которой являются реальными лицами, причем некоторые из них (Посьет, Римский-Корсаков, о. Аввакум) сами были авторами дневников путешествия, этих своеобразных спутников книги Гончарова.
Книга создавалась в середине века, и к тому времени «Письма русского путешественника» Карамзина и — тем более — сочинения его подражателей в значительной степени уже стали архаичным явлением, «прошлым», почти без остатка растворившимся в новейшей путевой прозе Герцена, Анненкова, Хомякова, Боткина и других выдающихся современников Гончарова.
Сам писатель особенно выделял «Письма об Испании» Боткина, печатание которых началось в 1847 г. в «Современнике» одновременно с «Обыкновенной историей»; об этом факте напомнил А. В. Дружинин в рецензии на отдельное издание (1857) книги Боткина: «„Письма об Испании” печатались в 1847 году в одно время с „Обыкновенной историей”, „Записками охотника”, „Антоном Горемыкой”, лучшими произведениями Некрасова. Они представляют вместе с названными нами произведениями горсть поэтических зерен, брошенных на почву, готовую к их принятию, на почву, отчасти засушенную антипоэтическою атмосферою предшествовавших годов» (Боткин. С. 261).
Симптоматично, что выходу отдельным изданием «Фрегата „Паллада”» предшествовало издание отдельной книгой «Писем об Испании» (это, возможно, и вдохновило вечно колеблющегося Гончарова).1
- 485 -
Гончаров, предвкушая путешествие по «тропической Испании» («Манила! Манила! вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще вдобавок Испания тропическая!» — наст. изд., т. 2, с. 491), прямо обращается (в тексте, напечатанном в октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1855 г) к автору «Писем об Испании» с просьбой объяснить одну забавную уличную сцену: «Особенно одна коляска обратила мое внимание; там сидели две испанки, одна пожилая, худая, с впалыми глазами, вся в черном; другая молодая, высокая, с пышной грудью, вся в белом. Пожилую ярко освещала луна, и оттого я видел ее лицо; молодая сидела с другой стороны, в тени, и только раза два обратилась лицом к свету. Она всё наклонялась к молодому человеку, который стоял подле коляски. Они говорили тихо-тихо и долго; я обошел сквер раз десять, и они всё говорили. Пожилая дуэнья старалась не глядеть, не слушать. Что это? Испанские нравы, что ли? Беглянка из дома, от мужа, от тетки, под предлогом гулянья? Объясните, автор „Писем об Испании”!» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 299). Эта колоритная сцена есть и в первом издании книги, но позднее Гончаров ее, к сожалению, сократил.
Вспоминает Гончаров Боткина и его книгу и в очерке «Атлантический океан и остров Мадера»: «А вот Испания, с своей цветущей Андалузией, — уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу. — Севилья, caballeros с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. Dahin бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин, умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, — пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет» (наст. изд., т. 2, с. 83).
Вероятно, Гончаров обратил внимание на своеобразнейшую «испанскую» параллель его «Сну Обломова», которой Боткин завершил последнюю главу книги «Гранада и Альамбра. Октябрь», напечатанную впервые в январском номере «Современника» за 1851 г.: «Солнце давно скрылось за горами, Гранада, равнина лежат в сером сумраке, а снеговой полог Сиерры горит еще лиловым сиянием, и чем выше, тем ярче и багровее; вот, на самой вершине, сверкнуло оно последним, алым лучом... да нет! этой красоты нельзя передать, и все, что я здесь пишу, есть не более как пустые фразы, да и возможно ли отчетливо описывать то, чем душа бывает счастлива! описывать можно только тогда, когда счастие сделается воспоминанием. Минута блаженства есть минута немая. Представьте же себе, что эта минута длится для меня здесь вот уже три недели. В голове у меня нет ни мыслей, ни планов, ни желаний; словом, я не чувствую своей головы, я ни о чем, таки совершенно ни о чем не думаю; но если б вы знали, какую полноту чувствую я в груди, как мне хорошо дышать... мне кажется, я растение, которое из душной, темной комнаты вынесли на солнце; я тихо, медленно вдыхаю в себя воздух, часа по два сижу где-нибудь над ручьем и слушаю, как он журчит, или засматриваюсь,
- 486 -
как струйка фонтана падает в чашу... Ну что если б вся жизнь прошла в таком счастьи!» (Боткин. С. 193—194).1
Япония «Фрегата „Паллада”» (в меньшей степени Ликейские острова) напоминает Испанию Боткина, эту отсталую «средневековую» страну (но не окаменевшую, сохранившую внутреннюю энергию), выпадающую из общеевропейского стиля; отчасти схож с дробным, «мелочным» рассказом Гончарова о пребывании фрегата в Нагасаки избранный Боткиным стиль повествования: «Простите, если я надоедаю моими мелкими заметками и повторениями: в стране, нравы и обычаи которой так резко разнятся от общеевропейских, всякая мелочь невольно как-то становится предметом особенного внимания» (Боткин. С. 56).2
Должно быть, Гончаров обратил внимание на заявленную в первом же письме («Мадрит. Май») полемику с расхожими романтическими представлениями об Испании: «Красота Испании давно вошла в пословицу, с давних пор поэты воспевают ее апельсинные и лимонные рощи... увы! это также одно из заблуждений, существующих насчет Испании» (Боткин. С. 9). Испания сначала предстала взору Боткина унылой и однообразной пустыней, которая «постоянно расстилается пред глазами, ни одного дерева по всем этим нескончаемым полям, — нет даже и прежних кустарников розмарина. <...> Деревни встречаются как редкие оазисы — и какие унылые оазисы!» (Там же. С. 10). Реальная унылая, скудная Испания напомнила Боткину Россию: «От Бургоса до Мадрита те же пустынные поля. Сколько раз говорил я про себя: да это наши бесконечные равнины России! — только дальняя, синяя полоса гор разрушала сходство. По пустынным равнинам подъезжаешь наконец к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнаженных полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке. Окрестности Мадрита состоят из пустого поля; бедный Мансанарес высыхает еще весною, и от него теперь остался маленький ручей; палящее солнце и сухая песчаная почва истребляют всякую растительность; словом, вы ничего не можете себе представить печальнее этой природы» (Там же. С. 11). Как прозаизация романтически-легендарных, «литературных» сюжетов, так и постоянные сопоставления заморских нравов, природы, быта с русскими станут непременным компонентом «Фрегата „Паллада”».
- 487 -
Близка гончаровской и оценка Боткиным энергичной, упорной деятельности англичан, везде стремящихся укоренить английские порядки и завести английский комфорт. Английский мир в Гибралтаре поразил Боткина колоссальным различием с испанским анархическим неустройством: «Переселенцы Англии принесли сюда всю свою терпеливую деятельность, всю свою угрюмость, обыкновенную у людей, жадных к прибыли. <...> У англичан внешние формы жизни составляют род какого-то фатума, против которого все бессильно. Под этим пламенеющим небом они настроили себе дома на английский манер, перетащили сюда весь свой лондонский comfort и вместе с ним все свои английские предрассудки. Я никогда не забуду той неги, которая разлилась по всему моему существу, когда, столько месяцев живя в грязных испанских фондах, я в Гибралтаре увидел себя в превосходной английской гостинице, чистой, с прекрасной постелью, исполненной всех самых мелочных удобств, по-видимому излишних, но удивительно способствующих к изящному ощущению жизни. Улицы Гибралтара похожи на улицы всех маленьких английских городов, дома без балконов, у окон английские зеленые решетки; но на каждом шагу поражают вас следы самой высокой цивилизации и торговой деятельности» (Боткин. С. 114).1
В «Письмах об Испании» английская тема периферийна, во «Фрегате „Паллада”» — одна из основных, сквозная, но тем не менее близость позиций Боткина и Гончарова не вызывает сомнений. Беглые, не претендующие на широкие обобщения, эпикурейско-бытовые наблюдения Боткина больше в духе Гончарова, чем концептуальные и неизбежно тенденциозные, подчиненные идеологической схеме размышления А. С. Хомякова в очерке «Англия» (1848), который в свое время был весьма популярен. Гончаров не сближает, подобно Хомякову, английские и русские начала, а противопоставляет их. Хомяков влюблен в Англию, что органично сочетается в нем со славянофильскими убеждениями; характерен заключительный аккорд очерка: «Я взошел на английский берег с веселым изумлением, а оставил его с грустною любовью».2 Гончаров испытывал другого рода эмоции, покидая берег Альбиона: «Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти» (наст. изд., т. 2, с. 60).
Уже после выхода «Фрегата „Паллада”» отдельным изданием Гончаров, оглядываясь на многолетний труд, в письме к И. И. Льховскому от 2 апреля 1859 г. давал ему советы, и при этом в очень сжатой форме и без обычных оговорок отчетливо охарактеризовал художественную структуру, стиль, тональность своей путевой прозы. Гончаров одобрительно отозвался о письмах Льховского: «... Вы смотрите
- 488 -
умно и самостоятельно, не увлекаясь, не ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые красоты». Такова же была и позиция автора-рассказчика в его собственной книге. Совет Гончарова Льховскому представить в своих будущих записках «всё взглядом простого, не настроенного на известный лад ума и воображения <...> взглянуть прямо, верно и тонко и не заразиться ни фанфаронством, ни насильственными восторгами» — это именно та линия, которую он последовательно, неуклонно проводил во всех главах своей книги, что и дало ему возможность «выражать и горячие впечатления и останавливаться над избранной, не опошленной красотой».
«Свобода» — ключевое слово в письме Гончарова Льховскому. «Abandon, полная свобода — вот что будут читать и поглощать», — неутомимо повторял он. Свобода автора от тех или иных образцов и правил, непринужденность стиля, естественность и легкость переходов от будничных зарисовок к роскошным «романтическим» картинам, от сугубо личных наблюдений к идеологическим и историко-географическим очеркам, от жанра лирических посланий к сероватой повседневной хронике — таковы отличительные особенности художественной структуры книги Гончарова.
Не менее ценны и другие звучащие почти как послесловие к книге советы Гончарова-художника, щедро делящегося с другом и коллегой секретами мастерства: «...настоящий взгляд, приправленный юмором, умным и умеренным поклонением красоте, и тонкая и оригинальная наблюдательность дадут новый колорит Вашим запискам. Но давайте полную свободу шутке, простор болтовне даже в серьезных предметах и, ради Бога, избегайте определений и важничанья. Под лучами Вашего юмора китайцы, японцы, гиляки, наши матросы — всё заблещет ново, тепло и занимательно».
«Занимательность» — это то, к чему непременно стремился Гончаров. И здесь ему очень пригодился опыт французской художественной путевой прозы, представленной именами А. Дюма, Т. Готье, Ж. де Нерваля и других популярных писателей. Рассказывая в письме к А. А. Краевскому (сентябрь 1854 г.) о нравах и обычаях якутских чиновников, их жен и дочерей, Гончаров шутливо упоминает Дюма, уверяя, что вовсе не фантазирует в его манере: «Вы, может быть, подумаете, что все это так, анекдоты, литературный прием à la Dumas: клянусь Вашей сединой, всё правда». Путевые картины Дюма отличались какой-то «хлестаковской» фантазией. «Бернские медведи», «развесистая клюква», «святой Хитобель», по поводу которого ироничный комментатор книги «Кавказ», вышедшей в русском переводе в 1861 г., писал: «Не понимаю, какого тут святого разумеет г-н Дюма. Анапурский собор посвящен Божьей матери, а Божья матерь по-грузински „гвтасмтыбели”. Не от этого ли произошла ошибка автора?»1 — и многие другие достойные удивления «открытия» французского писателя снискали ему определенную славу; И. И. Льховский в рецензии на книгу Гончарова особо «выделяет» Дюма, «который с искусством замечательно-художественного таланта и бесстыдством плохо образованного француза описывал свои странствия даже по таким местам, где не бывал...» (БдЧ. 1858. № 7. Лит. летопись. С. 4).
- 489 -
В год издания «Фрегата „Паллада”» Гончаров встречался с Дюма; разговор шел, видимо, о «литературе путешествий», и французский писатель превзошел все ожидания Гончарова, о чем последний с иронией писал 28 июля 1858 г. А. В. Дружинину: «Дюма я видел два раза минут на пять, и он сказал мне, что полагает напечатать до 200 волюмов путешествий и, между прочим, определяет 15 вол<юмов> на Россию, 17 на Грецию, 20 на Малую Азию и т. д. Ей-богу, так!».
Занимательных «анекдотов» (характерных юмористических сцен) в книге Гончарова очень много, писатель ими дорожил и почти все сохранил как в первом, так и в более поздних изданиях. Это, конечно, не простые зарисовки с натуры: автор не скрывает своих пристрастий и не чуждается художнической фантазии, стилистической импровизации. Но во «Фрегате „Паллада”» Гончарова не только нет вранья à la Dumas, но отсутствуют и завуалированные заимствования из других сочинений, подаваемые как авторский текст, что было нормой во французской путевой прозе и даже стало для нее неписаным правилом.1 Книга Гончарова построена на твердом, документальном, реальном фундаменте.
5
Друзья, к которым обращены письма во «Фрегате „Паллада”», отнюдь не абстракция, а реальные очень близкие и дорогие Гончарову люди из его ближайшего литературно-артистического окружения, без которых не было бы ни плавания, ни книги. Друзья благословили его в дорогу. От них он с нетерпением ждал писем и стихотворных посланий. К ним часто обращается в тексте книги суммарно, анонимно и персонально — к художнику Н. А. Майкову, поэтам А. Н. Майкову и В. Г. Бенедиктову. Лирическое обращение к Н. А. Майкову — воспоминание о его эскизах, открывает первый появившийся в печати путевой очерк «Ликейские острова»: «Я всё время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный; всё мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом... Придешь потом через несколько дней — и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы: берега дышат жизнью, всё ярко и ясно...» (наст. изд., т. 2, с. 492).
- 490 -
Так и Гончарову Ликейские острова сначала предстали легкими, бледными, туманными очертаниями, позднее превратившись в яркую картину, «отрывок из жизни древних», как изображают ее Библия, Гомер, Феокрит, Вергилий, — «древние веси, сени, кущи и пажити»: «Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые»; «Что это за сила растительности! какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково богатство и разнообразие видов, что перестаешь наконец дорожить увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно смотришь вокруг: всё равно, куда ни смотри, одно и то же — всё прекрасно, игриво, зелено»; «Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородной зеленью, то бледною, то изумрудно-темною! <...> Над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и надежным приютом» (там же, с. 496—498).
Рисуя идиллическую картину сказочного края, Гончаров вступает в соревнование с Н. А. Майковым, но, не уповая на свои изобразительные способности, чувствуя бессилие перед загадочной и неуловимой силой красоты, отсылает друзей-читателей к классическим литературным образам и знакомым им реалиям (дорога в Парголово, пруд Марли). А в основе очерка — задушевная беседа с другом-художником, способным по-настоящему оценить эти картины.
Одной из характерных особенностей книги Гончарова и является то, что она в очень большой степени ориентирована на артистическое восприятие поэтов и художников, требовавших от путешественника «чудес, поэзии, огня, жизни и красок», и представляет собой отчасти диалог с ними (там же, с. 14). Это им еще до начала плавания Гончаров поверял свои мечты, о чем и напомнил в главе I книги: «Нет, не в Париж хочу <...> не в Лондон, даже не в Италию, как звучно вы о ней ни пели, поэт, — хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень всё, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеяный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, — туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться» (там же, с. 9—10).
Этот поэтический фрагмент ощутимо контрастирует с антипоэтической и скептической тенденцией, особенно сильно звучащей именно в главе I. Ирония там проникает и в обращение к друзьям-поэтам, которое предшествует появлению на страницах книги образа англичанина («в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках»), никакого отношения к поэзии и чудесам не имеющего: «Ваши музы, любезные поэты, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику».
- 491 -
И даже то, что так любят воспевать поэты (море, небо, звезды), в сущности, буднично и прозаично: «А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Всё так обыкновенно, всё это так должно быть» (там же, с. 14—15).
Тенденция к снижению романтико-поэтического заметна также в главе II («Атлантический океан и остров Мадера»). Будничным оказался океан, с которым так «хотелось познакомиться» автору, заранее настроенному торжественно: «Я уже от поэтов знал, что он „безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим”, а учитель географии сказал некогда, что он просто — Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего предо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время» (там же, с. 70). Знакомство сразу же сильно разочаровало, не вызвав никаких поэтических аналогий и возвышенных эмоций: «„Где ж он неукротим? — думал я опять, — на старческом лице ни одной морщинки! Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль”. „Могуч, мрачен — гм! Посмотрим”, и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фаддеева» (там же, с. 70—71). Созерцание прозаической физиономии слуги еще больше сбило поэтический настрой. Наступившая буря (точнее, сильный ветер) вызывает у Гончарова явное неудовольствие; отнестись ко всему этому беспорядку с подобающим, литературой предписанным, восторгом автор не в состоянии: «Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! <...> Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно» (там же, с. 75). По мере того как умножаются неудобства, растет и раздражение автора, вступающего уже в прямую полемику с поэтами: «...я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагосклонно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими — „угрюмый, мрачный, могучий”, и Фаддеевым — „сердитый”. „Соленый, скучный, безобразный и однообразный! — прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз, — заладил одно — и конца нет”» (там же, с. 82).
Глава III (так в книге — в соответствии с маршрутом; в периодике она появилась позже всех) «Плавание в атлантических тропиках» имеет подзаголовок «(Письмо к В. Г. Бенедиктову)». Это ответ на «поэтическое и дружеское напутствие»,1 беседа с поэтом-другом:
- 492 -
«...мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг всё спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана» (там же, с. 100). Здесь вновь звучат ставшие уже непременными жалобы на исчезновение из этого мира поэзии, чудес, тайн. «Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными» (там же, с. 100—101). Такова реальная ситуация в промышленном, торговом, меркантильном, буржуазном веке, который стыдится чудес и чудесного, поэтических грез и сильных чувств. Об этом гениально писал еще Е. А. Баратынский в стихотворении «Последний поэт» (1835):
Век шествует путем своим железным.
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещень
Поэзии ребяческие сны
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.(Баратынский Е. А. Полн. собр.
стихотворений. Л., 1957. С. 173).Гончаров в растерянности (и это не только поза);1 он просит помощи у друга, не обнаруживая того, что принято называть поэзией, в «чудных странах»: «Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством. Куда же делась поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом. Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите» (там же, с. 101). Слышатся ему и вопросы поэта, с жадностью ждущего ответов («„Ну, что море, что небо? какие краски там? <...> Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Всё прекрасно —
- 493 -
не правда ли?”»). А ответы Гончарова сухи, коротки, способны лишь охладить восторги и мечты поэтического друга: «„Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день...” Вы хмуритесь?» (там же, с. 103). И затем, немного поддразнивая Бенедиктова, Гончаров предлагает ему не устремляться далеко мыслью, а попытаться запечатлеть поэзию Петербурга, Петергофа, Финского залива и сам плавно, незаметно переводит повествование из прозаической плоскости в поэтическую, в которой господствует «нежная, высокая, артистическая сторона жизни»: «...рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет через Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновенье разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...» (там же, с. 103—104). Правда, возвращаясь к тропикам, писатель замечает: «Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца», а Южный Крест и вообще не удается обнаружить, да и ничего в нем нет особенного, как, впрочем, считает «дед»: «...выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды...» (там же, с. 104).1 Однако проза уже не может остановить поэзию, тут же мощно заявляющую о себе: «Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. <...> Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Всё хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей?» (там же, с. 104—105). Открылся наконец автору истинный смысл эпитета «синее», постоянно сопровождающего море («...до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас»), поэзия стала реальностью, а не литературной выдумкой: «Вот наконец я вижу и синее море, какого вы не видали никогда. Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод» (там же, с. 105).
Таковы подступы к замечательной океанской симфонии, озаглавленной Гончаровым «Море и небо» и завершающей очерк.2
- 494 -
Одно из самых совершенных творений писателя, рядом с которым в русской путевой прозе, пожалуй, можно поставить лишь некоторые очерки книги И. А. Бунина «Тень птицы», рождается неспешно. Вторгается в повествование Фаддеев, ничему никогда не удивляющийся, а с ним и проза жизни. Сообщается, что экзотические края вызывают «что-то похожее на ужас или на тоску» своей застывшей и избыточной красотой: «Ужасно это вечное безмолвие, вечное немение, вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. <...> А какие картины неба, моря! какие ночи! Пропадают эти втуне истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло! <...> Ничто не шевелится тут; всё молчит под блеском будто разгневанных небес» (там же, с. 107). Праздник Нептуна («торжество Нептуна»), казалось бы неизбежное, ритуальное событие, не состоялся, и Гончаров пишет об этом без малейшего сожаления, цитируя стихи Бенедиктова и противопоставляя им непраздничную реальность.
«Пересеки и тропик, и экватор,
И отпируй сей праздник моряков!... —предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич: я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было» (там же, с. 115). Жизнь на фрегате стала, кажется, еще более однообразной, будничной, он принял «вид какой-то отдаленной степной русской деревни», где даже поют петухи: «...получается полное разрушение традиционного художественно-эстетического штампа, и создается бытовая, будничная установка для характеристики тропического дня» (Энгельгардт. С. 265). Но именно тогда, когда прозаизация достигнет предела, будничное перетекает в поэзию: «фантастические звуки», туманные, «какие-то отдаленные образы...» (там же, с. 118); совершается плавный, тонкий переход к рассказу о тайнах, чудесах, фантастической красоте мироздания, которую Гончаров «бессилен» выразить и призывает к этому подвигу Бенедиктова: «...широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновениям науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его, нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы, где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорей сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух, который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас, этот блеск неба в его фантастическом неописанном уборе, эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце? <...> Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, — а я винюсь в своем бессилии и умолкаю!» (там же,
- 495 -
с. 121—124).1 Аналогичен и призыв автора к художникам: «Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса!» (там же, с. 122).
Живописуя тропическое небо, не забыл Гончаров и созвездие Креста, поместив его в фокусе изумительной звездной картины: «...оглянитесь назад: на западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз: звезды и звезды, и между ними скромно и ровно сияет Южный Крест! <...> Звезды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает всё больше и больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и — засиял вечерний пир! <...> Под кораблем разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены, объяты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокоиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно» (там же, с. 122—123). А далее идет настоящее объяснение автора в любви Южному Кресту; он сравнивается с женщиной, чувство к которой рождается постепенно, но тем сильнее захватывает скептика: «Всматриваетесь долго-долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза» (там же, с. 123).
- 496 -
Глава «Плавание в атлантических тропиках» — поэтическая вершина книги. Даже А. Г. Цейтлин, усиленно подчеркивавший приземленно-реалистический, бытовой ее характер, отмечал особенную живописность этой главы: «Искусство, с каким Гончаров рисует тропический пейзаж, с наибольшей полнотой раскрылось в изображении заката и наступления темноты в южной части Атлантики. В этом пространном, на несколько страниц растянувшемся ландшафте Гончаров вступил в соревнование с величайшими мастерами пейзажной живописи» (Цейтлин. С. 139).1 Соревнуется Гончаров и с поэтами, русскими и европейскими. Складывается впечатление, что он прозаическими декларациями, отрицанием тайн, чудес, комическими образами и комическими комментариями намеренно дезориентирует, «убаюкивает читателя» (Шкловский. С. 234). Гончаров владеет тайной, «как „уязвлять” воображение путем чередования обычных картин с картинами другого мира, живущими в душе путешественника. Подготовив воображение читателя, успокоив его, он дает ему ярчайшее описание неба над тропиками и не боится занять описанием две страницы с лишком, повествуя о ночном и дневном небе. Он дает подробное описание движения облаков в дневном пейзаже, в ночном — решается вводить в прозу, как стихи, звучные, но незнакомые нам названия созвездий, окрашивая их неожиданными поэтическими эпитетами» (Там же. С. 235).
Чудеса и поэзия соседствуют с «прозой», зарисовками быта, будничной хроникой экспедиции и в других главах книги. Уютные, манящие ландшафты Южной Африки (глава «На мысе Доброй Надежды») притягивают Гончарова идеальным сочетанием английского комфорта и ласковой природы: «Домики, что за домики — игрушки! Площадки, обвитые виноградом, палисадники, с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами — всё, кажется, приюты счастья, мирных занятий, домашних удовольствий!» (наст. изд., т. 2, с. 193—194). Автор, эпикуреец и эстет, неохотно покидает эту комфортную, цивилизованную англо-африканскую Обломовку: «...если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойно ли кресло, есть хороший вид, прохлада — мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико» (там же, с. 235).
- 497 -
В живописно-лирических картинах и размышлениях из главы «От мыса Доброй Надежды до острова Явы» присутствуют реминисценции из поэтических произведений, истинный смысл которых только теперь открылся воочию автору-путешественнику, созерцателю, прикоснувшемуся к тайнам мироздания, увидевшему не просто экзотические места, а природу, артистическую и творящую: «Небо млело избытком жара, и по вечерам носились в нем, в виде пыли, какие-то атомы, помрачавшие немного огнистые зори, как будто семена и зародыши жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на землю и воду солнечные лучи. Мы часто видели метеоры, пролетавшие по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека, совершает процесс творчества; здесь можно непосвященному глазу следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса; подслушивать, как растет трава. Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника» (там же, с. 245).1 Поражает непостижимое, неодолимое, таинственное, беспредельное творчество природы: «Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, не поверишь, чтоб случай играл здесь группировкой деревьев. <...> Всё, кажется, убрано заботливою рукою человека, который долго и с любовью трудился над отделкою каждой ветви, листка, всякой мелкой подробности. А между тем это девственные, дикие леса. Человек почти не касался их» (там же, с. 247—248).
Однако в отличие от главы «Плавание в атлантических тропиках», где прозаическое постепенно прорастает поэтическим и все завершается поэтическим апофеозом, в главе «От мыса Доброй Надежды до острова Явы», напротив, поэзия медленно и плавно отступает. Звучит ропот уставшего от бесконечных чудес путешественника, тоскующего по «отступлениям», без которых ему и красота не мила: «Природа — нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть самый роскошный, уголок мира. <...> Мало поэтического беспорядка, нет небрежности в творчестве, не видать минут забвения, усталости в творческой руке, нет отступлений, в которых часто больше красоты, нежели в целом плане создания» (там же, с. 252). Ропот подготавливает разлуку без слез и сантиментов, прощание навсегда с этим сказочным, но давящим чрезмерной красотой краем, — прощание, в котором «медицинская» озабоченность энергично затеняет поэзию: «Прощайте, роскошные, влажные берега: дай Бог никогда не возвращаться под ваши деревья, под жгучее небо и на болотистые пары! Довольно взглянуть один раз: жарко и как раз лихорадку схватишь!» (там же, с. 252).2
Главу «Сингапур» открывает своего рода песнь о Востоке, экзотическом, таинственном, роскошном, сладострастном. Картина сингапурской
- 498 -
ночи всколыхнула необыкновенные чувства, какие-то фантастические грезы-воспоминания, словно ожили легенды и поэмы Востока: «Всё кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный, тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос; всё кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего-то ждешь, о чем-то думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь. Только сердце трепещет от силы необъяснимого, страстного ощущения, даже нервам больно! Под этим небом, в этом воздухе носятся фантастические призраки, под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о нисхождении Брамы на землю, о жаркой любви богов к смертным — все эти страстные образы, в которых воплотилось чудовищное плодородие здешней природы» (там же, с. 254). Но такое экзальтированное, нервное, почти сомнамбулическое состояние трудно выдерживать долго; постепенно и неуклонно романтический порыв ослабевает, а в поэзию просачивается что-то давящее, инфернальное. Все пышно, фантастично, роскошно, но одновременно утомительно, примелькалось и надоело; красавица Азия чересчур уж красива и пышна, возникает желание отдохнуть от этой вечной томной красоты. Не очень радует и «превосходная погода», потому что она всегда превосходная. Гончаров сравнивает буйный восточный закат с бледными, скромными вечерними российскими пейзажами и готов бежать от палящих ночей и наркотического, дурманящего воздуха, «...какой пожар на горизонте! в какие краски оделись эти деревья и цветы! как жарко дышат они! Ужели это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека — и мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где... похолоднее» (там же, с. 282).
Переход от сорокаградусной жары к сорокаградусным морозам автор перенес неожиданно легко; быстро свыкся он и со специфическими особенностями многомесячного странствия по Сибири, которая произвела на него не менее сильное впечатление, чем диковинные заморские чудеса. Сибирские главы книги динамичны и концептуальны. И в своем роде не менее поэтичны, чем морские. Правда, природа здесь особенного, сурового характера, отнюдь не поражающая пиршеством красок, томным сладострастием, но она почти в той же степени, что и природа тропическая, непривычна для уроженца Европейской России, волгаря Гончарова: «И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское: чистое, с радужными оттенками!» (там же, с. 699). Сибирскому лесу в «пустыне» посвятит Гончаров «романтическую» фантазию: «Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! Столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой разгул для фантазии то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет, всё это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто танцующие фигуры, то медведь на задних лапах; а мертвецов какая пропасть! Особенно когда заснешь — беда: у шапки образуются
- 499 -
сосульки и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация „Нормы”» (там же, с. 705).
Автор так увлекся фантазией, что собирался уже запеть знаменитую арию из оперы Беллини, — и это было бы зрелищем не менее экзотическим, чем картины матушки Сибири, имеющей «свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию» (там же, с. 673). Спохватившись, Гончаров прерывает фантазирование: «Но прочь романтизм, и лес тоже!» (там же, с. 705). Изгнанный «романтизм» (или поэзия) будет с неизбежностью вновь возвращаться на страницы книги Гончарова, образуя один из основных ее пластов, столь же важный, как и оттененные добродушным юмором будничные картины. Естественно и органично вписывается в эти картины прозаическая фигура автора-путешественника, часто брюзжащего, «разоблачающего» тайны и чудеса и в то же время остающегося поэтом и «романтиком»,1 лириком, воспевающим природу и подвиги тех, кто несет свет и цивилизацию в девственные леса Африки и Азии, в сибирскую «пустыню».
6
Жанровая свобода, независимость от всевозможных правил и предписаний риторики и поэтики предоставила Гончарову исключительные возможности для выражения своих взглядов на цивилизацию, будущее развитие мира в самой непринужденной и легкой (порой даже фельетонной) форме, когда о важнейших проблемах современного мира повествуется как бы между прочим, а мелочи быта в художественном пространстве книги столь же значительны, как и явления всемирного масштаба. Но книга не распадается на
- 500 -
отдельные фрагменты, эпизоды, очерки. Единство ее обусловлено как присутствием в ней постоянных мотивов, идеологических линий, параллелей и сопоставлений, сквозных образов, так и фигурой автора-путешественника, меняющегося, постепенно приобретающего необходимые для таких экспедиций навыки.1
Автор книги путешествует не только по горизонтали пространства (континенты, страны, культуры), но и по вертикали времени (от ветхозаветного периода, в котором до сих пор существуют жители Ликейских островов, до середины XIX в. в далеко продвинувшейся на путях экономического и научного прогресса Великобритании).2 Гончаров постоянно возвращается к мысли о едином пути прогресса для всех народов, о поступательном развитии человечества, о «детстве», «юности», «зрелости», «старости» той или иной нации (четыре возраста мира, вселенский цикл жизни — существенные компоненты философии истории Гегеля).3 «Немецкие философы-идеалисты — Фихте, Гегель и Шеллинг — интерпретировали свое время как эпоху важнейшего рубежа в истории, исходя из идеи христианского осевого времени, которое, по их мнению, одно только и ведет историю к завершению. Это не более
- 501 -
чем дерзостное высокомерие, порожденное духовным самообманом».1 Гончаров в основных чертах разделяет точку зрения немецких философов, хотя «дерзостное высокомерие» ему было чуждо: он вообще достаточно осторожен, толерантен в обобщениях, выводах и — особенно — прогнозах.2
С гегелевской философией истории связана в книге Гончарова проблема «Запад — Восток» — противопоставление активного, волевого, не обремененного традициями и обычаями европейского начала азиатскому, пассивному, косному, безличному, фаталистическому (антитеза «движение — застой»).3 В размышлениях писателя нет, однако, подчеркнутого европоцентристского акцента, как у Гегеля. Нет во «Фрегате „Паллада”» и радикальной, публицистической постановки вопроса, свойственной, к примеру, В. Г. Белинскому.4 Национальную жизнь, по мысли Гончарова, отличают динамика, подвижность, вариативность и многоукладность.5 В связи с этим для него очень важна мысль о русской цивилизаторской миссии в Сибири6 — крае, который начисто отвергается как предмет рассмотрения в лекциях по философии истории Гегеля: «Этот склон, начинающийся от Алтайских гор с его прекрасными реками, впадающими в Северный океан, вообще нисколько не интересует нас здесь, так как Северный полюс <...> лежит за пределами истории».7 Заглядывая, как всегда осторожно, в будущее, Гончаров видит все возрастающую роль США и России в судьбах человечества,8 очевидно отчасти разделяя прогнозы французского историка Алексиса де Токвиля,
- 502 -
еще в 1830-е гг. писавшего в заключении к первой книге «Демократия в Америке»: «В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы.
Оба этих народа появились на сцене неожиданно. Долгое время их никто не замечал, а затем они сразу вышли на первое место среди народов, и мир почти одновременно узнал и об их существовании, и об их силе.
Все остальные народы, по-видимому, уже достигли пределов своего количественного роста, им остается лишь сохранять имеющееся; эти же постоянно растут. Развитие остальных народов уже остановилось или требует бесчисленных усилий, они же легко и быстро идут вперед, к пока еще неизвестной цели. <...> У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них (этих стран) стать хозяйкой половины мира».1
Разумеется, можно говорить лишь об элементах философии истории в книге Гончарова, который не ставил своей задачей создать оригинальную историческую концепцию. У Гончарова свой, «домашний» вариант философии истории. Ему, вне всякого сомнения, очень близки мысли Вал. Майкова о романах В. Скотта, которые «показали ученым, что ни в чем так хорошо не выражается дух времени, как в <...> подробностях частной жизни...».2 Гончарова более всего интересовали именно подробности частной жизни разных народов.
***
Прямое отношение к философско-историческому аспекту книги имеет один из ее стержневых образов — «прозаический» («Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках» — наст. изд., т. 2, с. 15) образ англичанина, нового властелина вселенной: «Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах» (там же). Этот иронически начертанный в главе I (в нарушение хронологии плавания) образ — знамение новейшей буржуазной эпохи: он «властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. <...> под портиками, между фестонами виноградной зелени (на Мадере. — Ред.), мелькал тот же образ <...>. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей <...>. Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!» (там же, с. 15—16).
- 503 -
Символический образ английского купца предшествует и рассказу об Англии — владычице морей, средоточии мастерских, производящих современные чудеса. Повествуя о Лондоне и Портсмуте, англичанах и англичанках, джентльменах и слугах, паровых цыплятах и похоронах дюка Веллингтона, Гончаров обозначает главную цель книги (одновременно определяющую и ее важнейший структурный элемент): «Да, путешествовать с наслаждением и с пользой — значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь» (там же, с. 41—42; курсив наш. — Ред.). Английские картины Гончарова — результат именно вглядыванья, вдумыванья в жизнь народа, причем акцент сделан на многообразных мелочах быта, на изучении нравов «живой толпы»: «...меня тянуло всё на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей.
Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во всё, заходил в магазины, заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. <...> В тавернах, в театрах — везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка <...>. Вот Regent-street, Oxford-street, Trafalgar-place — не живые ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?.. Воля ваша, как кто ни расположен забавляться, а, бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя» (там же).
Выводы и обобщения возникают у Гончарова спонтанно, по мере знакомства с нравами и повадками англичан. Отмечая свойственное им удивительное любопытство («Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь»), он сравнивает английский характер с русским и французским, не очень, однако, настаивая на точности своих выводов: «Мне казалось, что любопытство у них <англичан> не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто — холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено» (там же, с. 46). Со ссылкой на авторитетное мнение о. Аввакума англичане сопоставляются с китайцами «по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам». Иногда сравнение бывает в пользу англичан: «Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно настоит надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. <...> Слуга-француз протянет руку за шиллингом, едва скажет „merci”, и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин всё это сделает» (там же, с. 49).1
- 504 -
Таковы сравнения частного характера, можно сказать, маленькие параллели. Есть в главе I книги и основная, развернутая параллель, с отступлениями и ироническими ремарками. Это противопоставление английского начала русскому, контраст между двумя укладами жизни. Английская толпа в изображении Гончарова деятельна, энергична — и в беспрерывном ее движении царят порядок, точность, расчет, целеустремленность: «Кажется, всё рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. <...> Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет» (там же, с. 48). Упорядочена природа, рационально поведение животных: «Всё крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта». Впечатляют осязаемые черты новой европейской цивилизации, плоды длительного исторического развития «умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа» (там же, с. 50—51).
Но многое смущает Гончарова; он отчетливо видит оборотную («неприятную») сторону медали: «...не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им» (там же, с. 50). Гончаров, предвосхищая филиппики Обломова, его критику промышленно-торгового века, приходит к грустным умозаключениям: «Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь <...>. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу» (там же, с. 50—51). Гончаров обращает внимание на сбои в работе, казалось бы, безупречно отлаженного механизма, на «щели», куда просачиваются преступность, бедность, от которой «гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением». Он предлагает читателю риторические вопросы, на которые лучше отвечать не умом, а сердцем: «Но, может быть, это всё равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым — даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, всё равно, но отчего же это противно?» (там же, с. 51—52).1
- 505 -
Воздавая должное неиссякаемой в поисках новых бытовых усовершенствований мысли британцев («...всё здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить!» — там же, с. 60), Гончаров описывает будничный день англичанина, в котором господствует строгое расписание и всегда под рукой необходимые приспособления: просыпается по будильнику, умывается «посредством машинки» и т. п. «Таблицы» и «удобства» сопровождают этот «поэтический образ, в черном фраке, в белом галстухе, обритый, остриженный», во всех дневных эволюциях, не давая уклониться от раз и навсегда расчерченного пути, сопутствуют в приготовлениях ко сну и будущему деловому утру: «...покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо (прозрачный намек на обильное возлияние. — Ред.), вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает» (там же, с. 61). Гончаров создает портрет иронический, почти карикатурный, уподобляя машине самого англичанина, в жизни которого отсутствуют теплота, сердечность, «светлое человеческое начало», хотя все комфортабельно и в высшей степени практично.
Дню англичанина противопоставлен в книге день русского помещика. Действие из Англии переносится в дремотную Обломовку: там беззаветно спит, обливаясь потом, на трех перинах барин, облепленный мухами; английский будильник, разумеется, отсутствует, но «дедовские часы» извещают о движении времени «свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем». Не эти удивительные, как будто спящие, часы прерывают гомерический сон, а живой будильник — петух. Если у англичанина везде таблицы, машинки, пружинки, всемогущий «пар», то у барина многочисленная челядь, исполняющая разнообразные функции, — Парашка, чьи «довольно жесткие кулаки» не производят на барина никакого впечатления; «слуга в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями», сотрясающий половицы; постоянно разыскивающие друг друга Егорка, Ванька, Митька, чистящие платье помещика, обувающие его (живые машинки); приказчик, с которым он щелкает на счетах «иногда всё утро или целый вечер», наводя тоску на жену и детей. Нередко это мирное течение жизни прерывается приездом родственника или соседа, являющегося не на минуту, а на три дня со всем семейством и сопровождающими лицами (гувернер, гувернантка, нянька, кучера, лакеи). Возобновляется, естественно, завтрак, после которого барин с гостем отправляются «по гумнам, по полям, на мельницу, на луга» («в этой прогулке уместились три английские города, биржа»), далее следуют гомерический обед, ужин с бесконечными беседами и финалом-апофеозом — подготовкой к гомерическому сну, когда «параллель» с английскими обычаями переходит уже в полнейший контраст: «...забыв вынуть ключи из тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей ни приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые,
- 506 -
может быть, опять затащит Мимишка (неорганизованное русское животное, носящее кличку любимой собаки Гончарова. — Ред.) под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах» (там же, с. 61, 63, 64).
В русском патриархальном мире, где все происходит как будто случайно и господствует импровизация (этот мир, с точки зрения англичанина или немца, — варварство, отсталость, средневековье), существует сложная система человеческих отношений, давным-давно сложившаяся. Здесь нет и не может быть филантропии, возведенной в степень общественной обязанности, но существуют душевные, теплые, соседские и семейные отношения; здесь царство иррационального, — вот и выходит у барина «вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню...» (там же, с. 66). Благотворительность в этом мире «деятельной лени и ленивой деятельности» всеобщая, традиционная, сердечная — из русских «щелей» бесконечным потоком «падает» милостыня: «И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: „Прими, Христа ради”, загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную суму» (там же, с. 65).
Гончаров, сопоставляя русскую Обломовку1 и «поучительный и занимательный» Лондон, русскую патриархально-сонную жизнь и динамичную английскую, высоко оценивая успехи современной цивилизации — торговли, промышленности, науки, симпатизирует своему близкому, родному, пробившемуся к нему видением сквозь «облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля». Он даже пытается с некоторой досадой (во многом искусственной — явная литературная мистификация) отмахнуться от Англии и преследующего его всюду «поэтического образа»: «Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь всё дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам... Сбуду скорее черты образа вам и постараюсь забыть» (там же, с. 60). Но ни «сбыть», ни «забыть» Гончаров не смог — образ присутствует почти во всех главах книги. Гончаров не может не признать, что огромный прогресс, достигнутый англичанами даже в краях, которые еще не пробудились от спячки, неоспорим. Живописуя в Порто-Прайя скудную, ленивую жизнь аборигенов, Гончаров африканскому средневековью противопоставляет деятельных и энергичных англичан: «Я видел и англичан, но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях: кажется, на свои кофейные плантации... Это всё богатыри, старающиеся разбудить спящую красавицу» (там же, с. 111).
- 507 -
Особо выделяет Гончаров среди английских «богатырей» тех, кто разбудил Южную Африку, посвятил свою жизнь освоению, изучению и просвещению этого края, оставив бесценные сочинения — «подвиги в своем роде; подвиги потому, что у них не было предшественников, никто не облегчал их трудов ранними труженическими изысканиями. Они сами должны были читать историю края на песках, на каменных скрижалях гор, где не осталось никаких следов минувшего. Каких трудов стоила им всякая этнографическая ипотеза, всякое филологическое соображение, которое надо было основывать на скудных, почти нечеловеческих звуках языков здешних народов! А между тем нашлись люди, которые не испугались этих неблагодарных трудов: они исходили взад и вперед колонию и, несмотря на скудость источников, под этим палящим солнцем написали целые томы» (там же, с. 154). С некоторыми из этих «великанов» Гончаров встречался во время экспедиции. Полюбился и запомнился ему мистер Бен (Бейн), ученый, гражданский инженер, проложивший шоссе через ущелье, и одновременно гостеприимный хозяин, легко переходящий от ученых разговоров к шутке, прекрасный певец.
Неукротимо-созидательная сила нового делового направления европейской цивилизации, во главе которого стоит вездесущая Британия, подчеркнута в письмах резче, чем в книге. В полуофициальном письме к А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (из Нагасаки) Гончаров в «беглом перечне нашего плавания» исключительно много места уделяет Англии, ее колониальной, торговой и миссионерской деятельности в Южной Африке, сравнивая англичан с голландцами (еще одна «параллель»): «Но всего занимательнее было, по крайней мере для меня, видеть победу англичан над природой, невежеством, зверями, людьми всех цветов и, между прочим, над голландцами. Оценив, что сделали англичане в короткое время своего господства над Капской колонией и что могли бы сделать и не сделали в двухсотлетнее пребывание там голландцы, не пожалеешь о последних. Девиз их, кажется, везде, куда они ни пробрались: делать мало для себя и ничего для других; девиз англичан, напротив: большую часть для себя, а всё вместе для других. Я не англоман,1 но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости. Теперь на Капе кипит торговля, мануфактурная деятельность, по портам ходят пароходы, сквозь утесы проведены превосходные дороги, над пропастями висят великолепные мосты. Это не фразы: я сам проехал по прекрасному, едва конченному шоссе, идущему по горам, в две тысячи фут над уровнем моря, сквозь такие ущелья, куда разве могли только заходить дикие козы, и там смотрел в пропасти с мостов,
- 508 -
построенных на каменных основаниях в 70 фут высоты. Поговаривают, что скоро проложат железные дороги в места, где до сих пор водились только львы да тигры». К близкому заключению приходит Гончаров в Сингапуре и Гонконге: «...два новые и живые создания силы воли и энергии англичан. Везде памятники неимоверных усилий, гигантских работ, везде цивилизация, торговля и комфорт, особенно торговля. <...> В этих двух пунктах сосредоточилась <...> вся торговля крайнего Востока».
Мысли, высказанные в письме к Норову, нашли отражение в главе «На мысе Доброй Надежды». Англичанин и на крайнем юге Африки остается таким же, как в Лондоне: «Англичанин <...> отдает <...> приказания черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани, он строитель, инженер, плантатор, чиновник, он распоряжается, управляет, работает, он же едет в карете, верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника» (там же, с. 140). Не забывает Гончаров и о параллели между голландским и английским началами. Несомненны успехи в прошлом голландских колонизаторов-первопроходцев, осваивавших с поразительным упорством девственный, дикий край: «Нельзя не отдать справедливости неутомимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране; как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом на новой, нетронутой почве» (там же, с. 160). Однако недостаток «положительной и живой энергии», «фламандская флегма», по мнению Гончарова, не позволили им продвинуться далеко вперед; голландцы остановились, добившись среднего уровня в торговле и земледелии, «зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которою жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед» (там же).
Англичане, считает Гончаров, явились наиболее умелыми, энергичными, последовательными проводниками новейшей европейской цивилизации, хотя столкнулись и продолжают сталкиваться на юге Африки с бесчисленными трудностями, в том числе со скрытой застарелой ненавистью голландцев и враждебностью местных племен (кафров). Войны с кафрами напомнили Гончарову Кавказскую войну: «Они <кафры> подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом. Эти войны имеют, кажется, один характер с нашими войнами на Кавказе» (там же, с. 239).1
- 509 -
Слово «комфорт», употребленное в письме к Норову в контексте английской темы, отозвалось в главе «Сингапур» развернутым сопоставлением (с далекими историческими аналогиями): роскошь — комфорт. Роскошь была свойственна в прошлом Венеции и Испании, некогда процветавшим, и она же стала причиной их упадка («Роскошь — порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат»); комфорт Англии олицетворяет, в глазах Гончарова, практическое, деловое направление современной цивилизации: «...как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям» (там же, с. 271—272). Уточняя свою мысль, Гончаров пояснит, почему он уделяет комфорту главное место в своих размышлениях о современном прогрессе: «Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго» (там же, с. 272).
Наблюдая бесцеремонное победоносное шествие англичан по земному шару, Гончаров испытывает двойственное чувство. Так, на Мадере он размышляет: «Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни, и всюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своею гордостью как курица с яйцом и кудахтают на весь мир о своих успехах; наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт — всё это досадно из рук вон. Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными виллами, да и дорога туда не была бы так удобна; народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Не даром он говорит по-английски: даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски.
- 510 -
Англичанин дает ему нескончаемую работу и за всё платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например... Но теперь не о Китае речь» (там же, с. 93).
Когда же речь зайдет о Китае (глава «Шанхай»), Гончаров выскажется гораздо резче, определеннее, саркастичнее: «Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним» (там же, с. 430). Молодой английский офицер Стоке, с которым Гончаров и другие русские гуляли по улицам Шанхая, поразил их бесцеремонным обращением с «туземцами»: «...если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стоке без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону» (там же, с. 430).1 Особенное негодование русских моряков вызвала жестокость владельца отеля, который у Гончарова изображен с глубоким презрением: «Наш хозяин, Дональд, — конечно плюгавейший из англичан, вероятно нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на успех, — и этот Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что „меня даже жалость взяла”, — прибавил добрый Петр Александрович» (там же, с. 430). Запомнился любитель фаустрехта и Римскому-Корсакову: «...гадко смотреть подчас, как иной гражданин свободной и филантропической Англии тузит сплеча какого-нибудь слугу-китайца. Хозяин гостиницы, в которой я жил, особенно часто нас угощал подобными зрелищами, а между тем куда какой он строгий пресвитерианец: в воскресенье у него даже и бильярдная заперта» (Римский-Корсаков. С. 154).
В главе «Шанхай» осуждение английской экспансии, критика теневых сторон новой цивилизации достигает кульминации. Торговля опиумом и оружием, которое ловкие и беспринципные представители торговой нации поставляли врагам Британии, преследуя сугубо корыстные цели, вызывает у Гончарова крайнее негодование: «Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» (наст. изд., т. 2, с. 432). Не радует на этот раз Гончарова и английский комфорт: «Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку» (там же, с. 426). Даже англичанки, которыми до сих пор так восхищался Гончаров, выглядят
- 511 -
в главе «Шанхай» не очень привлекательно, возможно потому, что на них он смотрит глазами китайцев: «Все эти барыни были с такими тоненькими, не скажу стройными, талиями, так обтянуты амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше с состраданием, нежели с удовольствием» (там же, с. 425). Сравнение же китайцев и англичан получается отнюдь не в пользу последних: «Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан своею вежливостью, кротостью да и уменьем торговать тоже» (там же, с. 430).
Возможно, резкость звучания английской темы в главе «Шанхай» имеет дополнительное объяснение — началась Крымская война, обострившая патриотические чувства автора. Позднее английские мотивы затухают, звучат лишь изредка, случайно, на периферии, но характерно. В главе «Манила», например, мельком колоритно изображена внушающая трепет группа английских шкиперов: «...что за широкоплечесть! что за приземистость! ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу. Они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходенем. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, только и увидишь синюю, толстую, суконную куртку, такие же панталоны, шляпу и под ней вместо лица круг красного мяса, с каймой рыжих, жестких волос, да огромные, жесткие, почти неразжимающиеся кулаки: горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы! Взглянешь сзади — то же самое, только шляпа вплоть приходится к плечам. Он неизменим всегда и везде: ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает» (там же, с. 533).
***
Где-то рядом с английскими, отчасти сливаясь с ними (что естественно — один язык, родственные «породы»), в книге звучат американские мотивы, главным образом в томе втором; но если вспомнить последовательность появления очерков, то начиная с «Ликейских островов» — самой первой публикации. Именно американцы явились проводниками новой цивилизации в идиллически-патриархальном крае, составив серьезную конкуренцию английским миссионерам (неприязненно очерчен в очерке побитый ликейцами пастор Беттельгейм): «Американцы, или люди Соединенных Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под свое покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединенных Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию» (там же, с. 497). Ирония автора ясна: ее подоплека — соперничество между экспедициями Перри и Путятина, тревога, с которой правительство России наблюдало за настойчивым проникновением США на Дальний Восток.1 В дальнейшем ирония еще более усиливается, преднамеренно
- 512 -
повторяются словосочетания «люди Соединенных Штатов», «человек Соединенных Штатов»: «...всего в 26-м градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны» (там же, с. 499). «Сладкий младенческий сон» патриархальных туземцев еще продолжается, но близится его конец: «...всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света (это пастор-то Беттельгейм? — Ред.), и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — „люди Соединенных Штатов” с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации...» (там же, с. 501). Тем не менее Гончаров видит всю ограниченность идиллически-патриархальной жизни на «благословенных островах». Именно на Ликейских островах он окончательно убедился в невозможности и нежелательности повторения Золотого века. Заканчивает Гончаров очерк «Ликейские острова» параллелью, в отличие от других параллелей в книге имеющей всеобъемлющий характер: «Одна природа да животная, хотя и своеобразная, жизнь не наполнят человека, не поглотят внимания: остается большая пустота. Для того даже, чтобы испытывать глубже новое, не похожее ни на что свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой, развитой жизни» (там же, с. 520).
Представителями «другой, развитой жизни», «богатырями», призванными разбудить «спящих» африканских и азиатских «красавиц», все чаще и чаще являются не только англичане, но и американцы, успешно заполняющие «пустоты», осваивающие девственные леса, покоряющие горы, прокладывающие шоссе, вытеснившие прежних миссионеров и колонизаторов — голландцев, португальцев, испанцев (Франция остается фактически вне поля зрения Гончарова).
Успехи американцев впечатляют и беспокоят Гончарова. Размышляя о судьбах Японии, застывшей в средневековых рамках, он видит в американцах действующих очень энергично и целеустремленно опасных соперников России в деле приобщения Дальнего Востока к цивилизации. Гончаров сравнивает японцев со школьниками, которым, для того чтобы преодолеть «систему замкнутости и отчуждения», ничего не остается, как только отдаться «под руководство старших», учителей; ими же станут, скорее всего, американцы или русские: «Кто же будут эти старшие? Тут хитрые, неугомонные промышленники, американцы, здесь горсть русских: русский штык, хотя еще мирный, безобидный, гостем пока, но сверкнул уже при лучах японского солнца, на японском берегу раздалось „Вперед!”. Avis au Japon!
Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за ними — кому бы ни было, но скоро суждено опять влить в жилы Японии те здоровые соки, которые она самоубийственно выпустила вместе с собственною кровью из своего тела, и одряхлела в бессилии и мраке жалкого детства» (там же, с. 353—354).1
- 513 -
В упомянутом выше письме к Норову Гончаров сообщает как об очень важных фактах о действиях американского коммодора Перри, незадолго до прибытия фрегата предъявившего своего рода ультиматум японцам: «Говорят, начальник американской эскадры, Перри, озадачил их еще больше нашего, прибыв прямо в Иеддо и разом нарушив все их правила и предостережения. Он передал японским властям письмо от президента Штатов и холодно объявил, что через полгода воротится за ответом, а сам ушел. Видно по всему, что, в случае упрямства японцев вступить с ним в сношения, он не задумается от дипломатических переговоров перейти к другим, более действенным средствам».1
Гончаров отдает предпочтение более гуманной и мягкой тактике, которую, по его мнению, демонстрирует русская сторона: «Наш адмирал действует по другой системе: твердо, настойчиво, но кротко, с соблюдением тех из японских обычаев, которые не противоречат
- 514 -
достоинству его звания. Как бы то ни было, но тот и другой способ оказывают свое действие».
Мягкие и жесткие способы, как и миссионерство различных типов, не отменяют некоей общей европейско-христианской стратегии. «Мы», употребляемое писателем, включает в себя англичан, американцев, русских и прежних просветителей-иезуитов португальцев, более преуспевших, правда, в грабеже и науке ненависти, что вызвало сильный ответный протест и отчуждение, — естественная, с точки зрения Гончарова, реакция на насилие и циничный произвол: «От европейцев добра видели они <японцы> пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и отчуждение от света» (там же, с. 361). Страх японцев перед европейцами и американцами Гончарову очень понятен, но он все-таки считает, что их сопротивление бессмысленно, что новые цивилизаторы неизбежно сломают все преграды, отплатив японцам за нынешнее упорство и прежнее сопротивление златолюбивым и порочным миссионерам: «Еще дела не начались, а на Лю-Чу, в прихожей у порога, и в Китае также, стоит нетерпеливо, как у долго не отпирающихся дверей, толпа миссионеров: они ждут не дождутся, когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест...» (там же, с. 356).
Считая распространение христианства благом и значительным шагом в деле сближения Востока и Запада (внутренней, духовной потребности в изучении восточных религий у писателя в отличие от Н. С. Лескова и особенно Л. Н. Толстого, похоже, не было), Гончаров является принципиальным противником циничных, корыстолюбивых и бесцеремонных способов «просвещения». Он проводит мысль о необходимости для просветителей уважать законы и обычаи японского народа и подчеркивает, что, «имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток», что «едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделаться от иноземцев» (там же, с. 361).1
Размышляя о миссии России на Дальнем Востоке, не имеющей, с его точки зрения, ничего общего с владычеством над морями англичан и энергично-бесцеремонным натиском американцев, писатель предается мечтам: «„А что, если б у японцев взять Нагасаки?” — сказал я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые засмеялись. „Они пользоваться не умеют, — продолжал я, — что бы было здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места! Весь Восточный океан оживился бы торговлей...”.
Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями, через Китай и Корею, с Европой и Сибирью; но
- 515 -
мы подъезжали к берегу» (там же, с. 347).1 Мысль осталась недосказанной, мечта Гончарова вызвала смех у товарищей, что понятно: ситуация (с одной стороны, «горсть» русских моряков, с другой — мощный напор американцев) складывалась не в пользу русских моряков, которым к тому же приходилось принимать меры, чтобы избежать столкновения с враждебными англичанами.2
Идея эта не исчезнет бесследно, а обрастет серьезными аргументами в сибирских главах книги, где вновь возникнет мысль о том, что русский и американский пути параллельны. Именно здесь прозвучит закономерное сравнение великой работы русских по «созданию Сибири» и борьбы с рабовладением и работорговлей. Вот, по Гончарову, два полюса, определяющих пути современной цивилизации: «Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться, — и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее и теперь хотят возвратить Творцу плод от брошенного Им зерна» (там же, с. 677—678).
Как на пионеров новой цивилизации смотрел Гончаров и на своих товарищей по экспедиции, занятых научной, просветительской и миссионерской деятельностью. Он сравнивал их с американскими пионерами и морскими героями, воспетыми Фенимором Купером; так, о «деде» (А. А. Халезове), одном из центральных персонажей книги, сказано: «Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать» (там же, с. 80—81).
Русско-американские параллели и сопоставления, исторические, литературные, политические, в книге Гончарова не являются, безусловно, случайными. Гончаров во время плавания неоднократно встречался и беседовал с «людьми Соединенных Штатов», хорошо был осведомлен об экспедиции Перри и ее далеко идущих целях. Но, возможно, самые свежие и ценные сведения об Америке Гончаров получил от Василия Константиновича Бодиско (1826—1873),
- 516 -
племянника русского посланника в США, двоюродного брата Т. Н. Грановского, неутомимого путешественника, неоднократно пересекавшего Атлантический океан, знакомого Н. П. Огарева, М. А. Бакунина, А. В. Дружинина, П. В. Анненкова, В. П. Боткина, добровольного курьера между Герценом и его русскими корреспондентами.1 Гончаров тепло отзывается о Бодиско в письмах друзьям из плавания. Е. А. и М. А. Языковым он пишет 31 июля (12 августа) 1853 г.: «Поклонитесь В. П. Боткину и скажите, что один из присланных сюда к нам с депешами курьеров, молодой Бодиско <...> большой поклонник „Писем об Испании” и особенно их автора. С этим Бодиско (который, вероятно, повезет наши письма назад) мы часто вспоминаем Василья Петровича». Евг. П. и Н. А. Майковым Гончаров в письме от 15 (27) сентября 1853 г. в шутливо-интимном тоне рекомендовал обаятельного «русского американца»: «А это письмо привезет к вам, может быть, наш курьер m-r Бодиско <...> это очень милый, любезный, умный и, как видите, mesdames, красивый молодой человек (трепещите, юные мужья, а Вы, Ю<нинь>ка, берегитесь и не измените мне в 26-й раз). Он русский по рождению и подданству, а воспитан в Америке, в Соединенных Штатах <...> этот милый американец спит и видит служить России изо всей своей мочи». В. К. Бодиско, конечно, доставил письмо Гончарова Майковым, а возможно, и письма, адресованные другим его друзьям. Должно быть, встречался Гончаров с «русским американцем» и позднее, в частности в 1856 г.; в дневнике Дружинина они упоминаются рядом в записи от 13 марта: «Деяния Бодиско и Селиванова. Чтение „Обломовщины”. Бури в душе Гончарова».2 В. К. Бодиско принадлежат путевые записки «Из Америки» (С. 1856. № 3. С. 114—141; № 4. С. 237—259; № 6. С. 237—263).3 Патриотические настроения Бодиско, о которых писал Гончаров, отразились в этой публикации; автор рассказывает о симпатиях американцев к русским, особенно возросших во время Крымской войны, о большом интересе в США к героической обороне Севастополя: «Американец вас спрашивает, как будто вы только что приехали из Севастополя, хотя сам держит в руках только что полученную газету. Сколько друзей перессорились, споря за Севастополь, сколько пари проигралось и выигралось, суда, пароходы останавливали в море другие, чтобы спросить: „Что Севастополь?” <...> Сколько трактиров в целой Америке появилось с названием „Севастополь”. Я даже ел суп à la Sebastopol, который мне показался так же вкусен, как, вероятно,
- 517 -
казался союзникам сам настоящий Севастополь. Об этом, впрочем, можно рассказывать тысячу анекдотов» (С. 1856. № 3. С. 124). Приводит Бодиско и слова собеседника, типичные для настроения американского общества: «А жаль, если вы не побьете союзников. Ведь только два великих народа и есть на свете: первый — мы, а второй — вы» (там же, с. 126).
Противопоставление Америки и России «старой» Европе, нередко звучавшее в период Крымской войны и — в еще большей степени — после нее, восходит к Герцену, который в статье «Россия» (1849; на фр. яз.), цитируя стихотворение И.-В. Гете «К Соединенным Штатам», замечал: «Изречение Гете об Америке очень хорошо приложимо к России: „В твоем существовании, полном соков и жизни, ты не смущаешься ни бесполезными воспоминаниями, ни напрасными спорами”» (Герцен. Т. VI. С. 188). В работе «Крещеная собственность» (1853) Герцен конкретизировал эту мысль, воздав одновременно должное казакам-первопроходцам Ермаку и Семену Дежневу: «Горсть казаков (ср. „горсть” русских моряков в Нагасаки у Гончарова. — Ред.) завоевала Сибирь. Ермак не остановился на Тобольске, он добрался до Иркутска и там сложил свою буйную голову. Другой казак после него с своей небольшой дружиной пробился сквозь льды и степи до морского берега, как будто что-то непреодолимое тянуло их к Тихому океану, к этому Средиземному морю будущего; как будто они провидели всю важность поставить Русь лицом к лицу с Северо-Американскими Штатами» (Герцен. Т. XII. С. 110). В работе «Старый мир и Россия» (1854; на англ. яз.) Герцен писал: «Взгляните, например, на эти две огромные равнины, которые соприкасаются затылками, обогнув Европу. Зачем они так пространны, к чему они готовятся, что означает пожирающая их страсть к деятельности, к расширению? Эти два мира, столь противоположные и все же в чем-то схожие, — это Соединенные Штаты и Россия» (Там же. С. 169), а в главе 15 части второй «Былого и дум» (1854) предсказывал: «Устья Амура откроются для судоходства, и Америка встретится с Сибирью возле Китая» (Герцен. Т. VIII. С. 256).1 Кульминации американо-русская тема достигла в статье Герцена «Америка и Сибирь» (1858), целый ряд положений которой соприкасается с суждениями Гончарова во «Фрегате „Паллада”». Герцен повторяет в ней, сравнивая пути России и Америки, прежние свои мысли: «Обе страны преизбыточествуют силами, пластицизмом, духом организации, настойчивостию — не знающей препятствия, обе бедны прошедшим, обе начинают вполне разрывом с традицией, обе расплываются на бесконечных долинах, отыскивая свои границы, обе с разных сторон доходят через страшные пространства, помечая везде свой путь городами, селами, колониями, — до берегов Тихого океана, этого „Средиземного моря будущего” (как мы
- 518 -
раз назвали его и потом с радостью видели, что американские журналы много раз повторяли это)» (Герцен. Т. XIII. С. 400). Знаменательно, что статья «Америка и Сибирь» завершается одой Муравьеву, Путятину и другим русским «титанам», героям Сибири и Дальнего Востока, воспетым ранее Гончаровым во «Фрегате „Паллада”»: «Имя Муравьева, Путятина и их сотоварищей внесено в историю, они вбили сваи для длинного моста... через целый океан. Во время мрачных европейских похорон, где каждый что-нибудь оплакивал, они с одной стороны, американцы с другой — сколачивали колыбель» (Там же. С. 403).1
***
У Гончарова тема мирного, созидательного труда России на Востоке звучит, постепенно нарастая, начиная с японских глав. В Сибири, видя на каждом шагу зримые приметы прогресса, писатель заинтересовался и историей края: «Я узнал <...> что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах (вновь Гончаров подразумевает Европу и Америку. — Ред.), а у нас, из скромности, молчат. Только в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. Некоторые занимаются <...> разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. Но эти труды касаются прошедшего; подвиги нынешних деятелей так же скромно,
- 519 -
без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища, и долго еще до имен их не дойдет очередь в истории» (наст. изд., т. 2, с. 685—686). О героях, «вождях», мужественных и честолюбивых первооткрывателях, подчеркивает Гончаров, все знают всё до малейших подробностей: «Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями, — всё это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство, печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли» (там же, с. 691). Не умаляя их подвигов, о которых он сам с восторгом и трепетом читал, Гончаров, однако, замечает: «Но все они ходили за славой». Он явно симпатизирует больше «маленьким», скромным героям, совершающим свой подвиг в «пустыне», в краю вечной мерзлоты: «Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность — словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольдта, с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион; и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне» (там же, с. 677). Эти люди трудились, не ожидая никаких наград и восхвалений, изо дня в день по службе, не подозревая даже, что их будничную работу можно назвать подвигом: «А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при 40° мороза на снегу — и всё это по казенной надобности? Портретов их нет, книг о них не пишется, даже в формуляре их сказано будет глухо: „Исполняли разные поручения начальства”» (там же, с. 691). Гончаров противопоставляет их колоссальный, титанический труд вялому, но честолюбивому времяпрепровождению столичных чиновников: «Всё год от году улучшается; расставлены версты; назначено строить станционные домы. И теперь, посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания — на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет! Если б видели наши столичные чиновные львы, как здешние служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые неусыпные труды... А может быть, и не покраснели бы!» (там же, с. 660). Именно будничность, по Гончарову, является характерной особенностью «русского самобытного примера цивилизации». Начисто лишены тщеславия, отличаются благородной простотой нравов
- 520 -
спутницы русских купцов, которые не только не уступают англичанкам — неутомимым, бесстрашным путешественницам, амазонкам, надменно гарцующим на улицах Шанхая, но и во всем превосходят их: «ездят верхом, спят если не в поварнях, так под открытым небом, и живут по многим месяцам в пустынных, глухих уголках, и не рассказывают об этом, не тщеславятся. А американец или англичанин какой-нибудь съездит, с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя — и весь свет знает и кричит о нем!» (там же, с. 697). Гончаров стремится сохранить в памяти народной имена «маленьких титанов», таких, например, как отставной матрос Сорокин. «Это тоже герой в своем роде <...>. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим героям — легион: здешнему потомству некого будет благословить со временем за эти робкие, но великие начинания. Останутся имена вождей этого дела в народной памяти — и то хорошо. Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом и все находят, что он делает только „как надо”» (там же, с. 684).
Не менее важная черта русских просветителей — гуманность. Соглашаясь с полемическими утверждениями своего друга А. Н. Майкова в фельетоне «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому» («Нас в Европе называют варварами а могли бы варвары менее чем в полвека устроить и довести до такого процветания все эти некогда пустыни, известные ныне под именем Новороссийского края, Крыма, Астраханской и Оренбургской губерний и Южной Сибири?.. Нет, надобно думать, что это сделали не варвары. Нет, это народ цивилизованный и — что еще важнее, еще выше — народ цивилизующий. Казацкий пикет в Киргизской степи — это зародыш Европы в Азии» — СПбВед. 1854. 11 авг. № 176). Гончаров идет дальше Майкова, противопоставляя русский цивилизаторский путь европейскому и американскому как более осторожный, предполагающий мирное и постепенное приобщение народов Сибири к условиям новой жизни, к успехам современного прогресса: «А здесь — в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный, систематический труд — мучительная, лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания, — здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет — и уже зародыш не Европы в Азии, а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно» (там же, с. 685).
Гончаровым отмечена и еще одна замечательная особенность цивилизаторской миссии России — бескорыстие. Поездка за две-три тысячи верст к чукчам по дорогам, которые и вообразить невозможно, — обычный в Сибири труд, причем не ради завоевания или дани (что тут завоевывать и какая может быть дань с голодающих в тундре чукчей?), а из чисто гуманных просветительских целей («и всё даром, бескорыстно» — там же, с. 692).
Гончаров в Сибири узнал, на что способен свободный русский человек. Обломовка в Сибири невозможна, Сибирь — это деятельная, энергичная, никогда не знавшая крепостного права настоящая
- 521 -
Россия: «Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии» (там же, с. 709—710). К сожалению, Гончаров удалил во втором издании книги (и не восстановил в последующих) большой фрагмент текста в главе «Из Якутска» (она занимает центральное положение в сибирской части «Фрегата „Паллада”»), содержащий поэтический портрет русской Сибири, «которую ее разумные обитатели нарекли матушкой, как мы, зауральские жители, нарекли Русь, Москву и Волгу! Вглядитесь в эту матушку — и вы увидите, что она имеет особенную физиономию» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 316—317). Но и без этого замечательного отрывка текст книги убедительно свидетельствует, что именно Сибирь Гончаров считал высшим образцом цивилизаторской деятельности России. Он, в сущности, открыл русскому читателю Сибирь, и, возможно, это самое значительное открытие во «Фрегате „Паллада”».
Не осталась без внимания Гончарова и деятельность русских миссионеров, с одним из которых, о. Аввакумом, он сблизился в экспедиции. Успехи католических и протестантских миссионеров произвели сильное впечатление на Гончарова, Римского-Корсакова1 и других участников экспедиции. Путятин в письме-рапорте А. С. Норову отметил резкое отставание православия от западных конфессий в деле миссионерства. Он писал: «К стыду нашему, все католические и даже протестантские нации, при всяком открытии политических и торговых связей с новыми племенами, первым делом считают распространение между ними истин религиозных и тем всегда успевают образовать партию, расположенную к ним не из одних материальных выгод. Будучи лишены этой святой ревности, мы еще хвалимся пред всеми, что прозелитизм не есть свойство православия, тогда как в этом нам служит укором вся история христианства, начиная от апостольских и до наших времен.
Пора выйти из этого заблуждения и неслыханное равнодушие к этому предмету заменить тем большим рвением к проповеди евангельской, чем далее мы находились в теперешнем усыплении. Первым делом нашего высшего духовенства должно быть образование миссионерских училищ, в которых с малолетства следует вселять и обращать в первую потребность эту высшую степень христианской любви. Сверх сего, изучение языков и всего, что может споспешествовать
- 522 -
успеху проповеди, должно быть главным предметом образования. Если в скором времени не примутся за это, то трудно нам будет стоять за истину православия; видимые факты будут вопиять противу нас: недостаток жизненных сил духовенства и нужных мер со стороны правительства, заботящегося о расширении своих пределов и не помышляющего о распространении царства Того, кем все держится» (РА. 1899. № 1. С. 198—199).
Гончаров рассказывает о католических и протестантских миссионерах в «Ликейских островах», «Шанхае», японских главах. Он явно был поражен размахом миссионерской деятельности протестантов в Шанхае, имеющих богатых меценатов и выдвинувших из своей среды такого опытного, энергичного пастыря, как Медгорст (Медхерст): «Они переводят и печатают книги («Новый завет, география, Езоповы басни») в Лондоне — страшно сказать, в каком числе экземпляров: в миллионах, привозят в Китай и раздают даром. Мне называли имя английского богача, который пожертвовал вместе с другими огромные суммы на эти издания. Медгорст — один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае и беспрерывно подвизается в пользу распространения христианства: переводит европейские книги на китайский язык, ездит из места на место» (наст. изд., т. 2, с. 435—436). Гончаров сожалеет о соперничестве между католиками и протестантами, наносящем сильный урон распространению на Востоке христианства.
Русских православных миссионеров он изображает с большой теплотой, как в книге, так и в письмах, особенно выделяя Иннокентия, архиепископа Камчатского, Алеутского и Курильского, выдающегося архипастыря и ученого.1 Писатель имел возможность наблюдать, как шла работа над переводом Евангелия на якутский язык под руководством преосвященного Иннокентия. Священники Хитров и Запольский, с которыми Гончаров встречался и разговаривал в Якутске, обрисованы им как деятельные, беззаветные, бесстрашные просветители, кочующие по бескрайним ледяным просторам Сибири. Они не только приобщают сибирские народы к христианству, но и в самом широком смысле их просвещают, составляя, к примеру, грамматику якутского языка. Гончарова поразили слова священника Запольского, отправляющегося на разведку «на юг, по радиусу тысячи в полторы верст и больше», который сказал просто и точно об успехах русских цивилизаторов: «Что вы удивляетесь? <...> ведь я не первый: там, верно, кто-нибудь бывал: в Сибири нет места, где бы не были русские» (там же, с. 687).
Поэтический образ сибирской «пустыни», яркие фигуры русских миссионеров, изображенные Гончаровым, вдохновили Н. С. Лескова — автора рассказа «На краю света» (1876). Создав символико-фантастические пейзажи, образы миссионеров-праведников — архиерея и «преутешительного» отца Кириака, Лесков продолжил повествование о героико-драматической истории просвещения Сибири, которая до него получила яркое изображение в книге Гончарова.
Однако Лесков, опираясь главным образом на книги архиепископа Ярославского и Ростовского Нила (в миру — Николай Федорович Исакович; 1799—1874) «Буддизм, рассматриваемый в отношении
- 523 -
к последователям его, обитающим в Сибири» (СПб., 1858) и «Путевые заметки» (Ярославль, 1874), сообщает и о неблаговидных сторонах деятельности православных миссионеров в Сибири, среди которых были и лжепросветители (вражки, по образной терминологии отца Кириака), вроде зырянина, чрезвычайно преуспевшего в деле повального крещения для улучшения «миссионерских отчетностей», результатом чего было то, что «добрая доля этих обращений значилась только на бумаге» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. V. С. 459). Были в Сибири и вопиющие факты распространения христианства с помощью воинских команд; о них с осуждением писал архиепископ Нил, а вслед за ним и Лесков, упоминая «гвардейского крестителя Ушакова» и других «борзых крестильников».
Гончаров фактов такого рода в своей книге не касается. Повествуя о якутах, он, правда, говорит об их своеобразном православии, но делает это мельком и отклонения объясняет не сложными, запутанными отношениями между язычниками, буддистами, христианами, а специфическими условиями жизни в Сибири: «Все они христиане, у всех медные кресты; все молятся; но говорят про них, что они не соблюдают постановлений церкви, то есть постов. Да и трудно соблюдать, когда нечего есть. <...> Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников» (наст. изд., т. 2, с. 651—652).
Возможно, Гончарову просто не были известны отрицательные стороны жизни Сибири и многие трудности, которые там приходилось преодолевать русским миссионерам. Впрочем, даже если бы Гончаров о них знал, это вряд ли бы существенно повлияло на образ Сибири, начертанный в книге. Образ этот возник на основе тщательно отобранного и концептуально осмысленного материала, а не в результате некоторого упорядочения листков из сибирских памятных книжек. При этом главные мысли Гончарова подчеркнуты неоднократно. Метод Гончарова остался в сибирских главах таким же, как и в морских, где он фактически обошел все драматические эпизоды плавания, рассказав о них в очерке для детей «Два случая из морской жизни» и эпилоге «Через двадцать лет», и даже не попытался коснуться каких-либо конфликтов и противоречий внутри того «русского мира», частицей которого он был два года. Им нарисовано в сущности идеальное общество, круг «отличных, своеобразных людей и товарищей». Гончаров «сумел пройти на корабле и описать этот путь почти с улыбкой, скрыв труд и страх» (Шкловский. С. 244).
7
В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал, что «путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг». Бесспорно, он считал, что такой «привилегией» обладает и «Фрегат „Паллада”». В 1879 г., когда после литературного чтения на петербургских Высших женских педагогических курсах среди курсисток зашла речь о романе «Обрыв», писатель вмешался в разговор со следующими словами: «Я бы вам рекомендовал мое любимое произведение, которое мне никогда не надоедает. <...> Читайте „Фрегат «Палладу»”!» (Гончаров в воспоминаниях. С. 190).
- 524 -
Благодаря передававшимся из рук в руки в 1853—1854 гг. письмам Гончарова из плавания о будущей его книге знали многие, а вскоре по возвращении его в Петербург друзья и знакомые писателя могли познакомиться с ее готовыми главами на традиционных домашних чтениях. 30 марта 1855 г. А. Ф. Писемский сообщает А. Н. Островскому в Москву главную «литературную новость»: «...возвратился из кругосветного путешествия Гончаров и привез с собой кипу записок, не глупы, да не очень умны и порядочно скучноваты».1 Речь шла, очевидно, о находившихся в это время в редакциях различных журналов очерках «Ликейские острова», «Атлантический океан и остров Мадера», «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири», «Из Якутска», «От мыса Доброй Надежды до острова Явы», «Манила. От Лю-Чу до Манилы» и «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов».
Выход в свет отдельных очерков (а потом и первого отдельного издания книги) сопровождался благожелательными отзывами. Читатели и критики не могли не оценить изображенные в книге богатые и разнообразные картины жизни, которые писатель наблюдал в течение почти трехлетнего плавания; свойственные перу Гончарова красочность описаний природы и меткость бытовых зарисовок; гуманизм автора; тончайший юмор; наконец, самый тон повествования, правдивый «до добродушия».2 В 1855 г., когда в «Отечественных записках» появился очерк «Манила», Н. А. Некрасов писал в своем журнале: «...статья прекрасна, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художнической умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г-на Гончарова, не выставляя ничего слишком резко, но в целом передавая предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием тонов...». Касаясь в этой же рецензии очерка «От мыса Доброй Надежды до острова Явы», напечатанного ранее в «Современнике», Некрасов подчеркивал, что по нему «могут судить читатели, как увлекательно рассказывает романист-путешественник свои впечатления».3
- 525 -
В этом же году в критическом разборе (С. 1855. № 10. Отд. III. С. 29—54) первых девяти книжек «Морского сборника» Н. Г. Чернышевский к числу «лучших статей сборника» относит «рассказы о путешествиях» и останавливается на трех из них («Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири» (№ 5), «Из Якутска» (№ 6) и «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» (№ 9)). Он пишет: «Хвалить эти статьи, написанные с всегдашним талантом автора „Обыкновенной истории”, мы считаем совершенно излишним, точно так же как и замечать, что литературные достоинства их возвышаются малоизвестностью тех стран, которые описывает г-н Гончаров. Корея, о которой преимущественно говорится в первом отрывке из записок русского путешественника, была посещаема европейцами едва ли не реже, нежели даже самая Япония; а Якутск <...> известен, кажется, гораздо менее Нагасаки» — и приводит «один отрывок из прекрасных записок г-на Гончарова — рассказ о визите к нагасакскому губернатору для торжественной передачи депеш».1
Мастерство Гончарова-рассказчика, его тонкую наблюдательность и «художественный такт» подчеркнул рецензент «Библиотеки для чтения» педагог В. Ф. Кеневич. «Рассказ г-на Гончарова не требует похвал, — пишет он. — В нем почти никогда не встретишь неудачного выражения или картины, оскорбляющей эстетическое чувство. <...> Это истинная поэзия». Касаясь напечатанных к этому времени «японских» глав, он продолжал: «Заметки о Японии гораздо выше всех других заметок г-на Гончарова и более всех их удовлетворяют современным требованиям от развитого, европейски образованного путешественника, каким все, конечно, признают нашего талантливого автора» (БдЧ. 1855. № 1. Отд. V. С. 25—44; подпись: «...вич»).
Выступая с подробным разбором всех опубликованных глав, рецензент «Отечественных записок» С. С. Дудышкин особенно подчеркнул, что Гончаров «описывает только то, что видел, и описывает так, как понял, не прибегая ни к каким книгам, из которых он мог бы почерпнуть гораздо больше, нежели сколько мог увидеть в короткое время». «Везде кажется, — продолжает критик, — что все эти сведения, которые мы приобретаем от путешественника, были уловлены им самим при простом взгляде на природу и людей, которых он видел, кажется даже, что они дались ему легко — с таким талантом они изложены! <...> У Гончарова как художника труд скрыт; его никто не знает, кроме автора, и читателю остается наслаждаться одними картинами, которые рисует послушное перо художника...». Отмечая «большой талант и великую способность наблюдательности» писателя, Дудышкин выделяет и еще одну сторону его таланта, проявляющуюся в «уменье схватывать тончайшие поэтические черты <...> сливать эти черты в один поэтический образ и самой поэзией картины, как лучшей эссенцией нашей жизни, лучшим зеркалом, дать почувствовать эту жизнь». Все это позволило критику сделать вывод, что в путевых записках перед публикой предстал тот же Гончаров,
- 526 -
«который написал „Сон Обломова”». Здесь «те же приемы в подборе мелких поэтических красок, то же уменье связать их все в один узел, та же сила общего впечатления». В конце рецензии, отвечая на собственный вопрос: «Что нового вносит в нашу литературу путешествие г-на Гончарова?» — Дудышкин пишет: «...много картин южной природы и жизни, нарисованных опытною рукою художника-наблюдателя, картин, на которые долго будут смотреть с большим удовольствием». Но Дудышкин не увидел в книге ничего злободневного. «Отразились ли, — пишет критик, — на страницах путешествия Гончарова вопросы, интересующие русскую литературу, русское общество? <...> нет, потому что между этими вопросами и предметами, которые видел Гончаров, нет ничего общего» (ОЗ. 1856. № 1. Отд. III. С. 35—50).
Философско-историческая проблематика книги, по сути, не была воспринята современной критикой. Характерен отзыв рецензента «Сына отечества». В «Обзоре периодических изданий. 20-й и 21-й номера „Русского вестника” он пишет о только что появившемся очерке «От Кронштадта до мыса Лизарда»: «Содержание их (путевых записок. — Ред.) не глубоко: автор говорит преимущественно о самом себе, о своей лени и апатии, набрасывает довольно поверхностный очерк Лондона и его деятельной жизни, в сравнении с жизнью помещика, но все это рассказано так живо, написано так легко и остроумно, что в вину автору не ставишь ни его взгляда на людей и страны, ни его преднамеренного умолчания обо всем, что тревожит и волнует человечество, о тех вопросах, которые если и не разрешаются мыслителями нашего века, то по крайней мере разрабатываются усердно и бескорыстно, с теплою верою в близкое разрешение задачи, с благородною любовью ко всему, что дорого человеку» (СО. 1856. № 37. С. 238).1
Некоторые критики вообще не увидели в книге ничего, кроме «гастрономических» пристрастий автора или его желания выставить себя «главным действующим лицом». «Наблюдательность его обнаружилась больше всего по части гастрономической <...>, — замечал В. П. Попов. — Из его путевых заметок составилась бы интересная поваренная книга.2 <...> Другой отдел <...> составляет рассказ автора о самом себе <...>. А между тем сколько таланта истрачено на эти пустяки! Рассказ везде жив и увлекателен. Правда, он сам, чувствуя это, говорит, что писал для друзей, что описывал только
- 527 -
то, что видел; пусть же друзья и восхищались бы этим».1 В унисон с этим мнением критик «Дела» позднее заключал, что «симпатии автора на стороне жизни благодушного покоя и эстетического эпикурейского наслаждения всеми благами, которые даются цивилизацией, доставляя человеку комфорт, высоко ценимый нашим романистом, посвятившим разъяснению этого комфорта, сравнительно с бессмысленною роскошью <...> две прекрасные страницы».2
Еще более резок был отзыв А. И. Герцена. В заметке с насмешливым заглавием «Необыкновенная история о ценсоре Гон-ча-ро из Ши-Пан-ху» (1857) Герцен иронизировал над тем, что Гончаров отправился в дальнее плавание «без сведений, без всякого приготовления, без научного (да и другого, кроме кухонного) интереса. Нельзя же было в самом деле съездить в Японию только для того, чтоб длинно и вяло рассказать впечатления, сделанные Тихим океаном, Гон-Гонгом и Нагасаки на какого-то тупоумного денщика и какого-то глупорожденного слугу (мы просим у них извинения, мы не виноваты, что помещик их так представил, на то барская воля). Или для того, чтоб плотоядно прибавить к этому перечень всего, что он ел от Кронштадта до брегов Юго-небесной империи и обратно до Северо-небесной» (Герцен. Т. XIII. С. 104).3
Сам Гончаров сознавал, что его книга могла дать повод для упреков. В письме Каткову от 21 апреля 1857 г. он так писал об этом: «Особенно легко напасть на мои записки: там я не спроста, как думают, а умышленно, иногда даже с трудом, избегал фактической стороны и ловил только артистическую, потому что писал для большинства, а не для акад<емиков>. И этого не хотят понять — с умыслом или без умысла, не знаю». Тем не менее преобладающий тон критических выступлений был положительным.4 Это относится
- 528 -
и к рецензии, с которой выступил в «Современнике» (1856. № 1. Критика. С. 1—26) А. В. Дружинин. Рецензия посвящалась разбору вышедшей отдельным изданием книги «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок)». Критик прежде всего указал, что в журнале «уже была отдана надлежащая похвала „Русским в Японии...”».1 Отметив «мастерский слог» Гончарова, «в одно время простой и изящный, картинный и безукоризненно правильный», с «искрами» «чисто русской поэзии», и подчеркнув, что вся книга «читается с великим наслаждением», а Гончаров-путешественник «оригинален и национален», он с удовлетворением констатировал, что «прежний Гончаров, петербургский романист, историограф молодого Адуева и живописец мирной Обломовки, остался прежним Гончаровым и на острове Мадере, и на Ликейских островах, и в Нагасаки, и в Шанхае, и в гостиной японского полномочного, и на палубе русского военного корабля. Не из охлаждения, не из узкости взгляда Гончаров оставался петербургским человеком посреди чудес роскошной природы <...> он был верен своему воззрению, своему краю, поэзии своего сердца, смыслу своего таланта». «Таким образом, — продолжает Дружинин, — бессознательно повинуясь влечению собственной своей натуры, автор книги <...> сразу завоевал себе сочувствие читателя», создав «вокруг себя маленький обломовский мирок, совершенно русский, весьма милый, привлекательный и временами очень забавный». «В Японии был чисто русский поэт, пребывание свое в этой стране описал он для русских людей, и книга его будет прочитана каждым русским человеком». Однако Дружинин все же считал, «что для нашего писателя все путевые заметки, сколько бы их у него ни было заготовлено, есть не что другое, как эпизод, отдых от прежней деятельности, проба пера перед настоящей работою». «Как ни прекрасны, как ни умны, как ни полезны интермедии вроде книги „Русские в Японии”, — продолжал критик, — за ними должна идти главная пьеса, и мы ее дождемся. <...> г-н Гончаров есть живописец современной жизни, романист-поэт по преимуществу. Те силы, которых он еще не сознавал в себе, те стремления, которых он еще не признавал за собой до своих путешествий, ныне им сознаны и признаны. Он понимает свое значение и не отдаст деятельности романиста за славу первоклассного европейского туриста. Под чужим небом он еще больше
- 529 -
выучился ценить русскую природу, посреди новых впечатлений он мечтал о поэзии нашего вседневного быта, между людьми отдаленных племен мечтал он о русском человеке... <...> Будем же нетерпеливо выжидать времени, когда воспоминания о разнообразных приключениях за морем, мирно улегшись в фантазии г-на Гончарова, дадут место произведениям его прежней фантазии и прежнего творчества».1
10 мая 1858 г. вышло в свет первое отдельное издание «Фрегата „Паллада”», вновь вызвавшее пристальное внимание читателей и критики.
Первым откликом на него была заметка в газете «Северная пчела», автор которой, внимательный и благодарный читатель, писал: «Поздравляем образованную русскую публику. На днях вышла в свет книга, достойная ее внимания и содержанием, и изложением своим, — книга умная, занимательная, общеполезная многими сведениями и наблюдениями, зрело обдуманная, прекрасно написанная по-русски. <...> Это не ученое, не собственно морское путешествие, а просто очерки того, что видел путешественник, что испытал на море и на суше, что думал и чувствовал, мысли умного, образованного человека, а что нам важнее всего, русского, И писателя, уже заслужившего сочинениями своими почетное место в отечественной литературе...» (СПч. 1858. 13 мая. № 102).2
Несколькими днями спустя на выход книги откликнулся обозреватель «С.-Петербургских ведомостей», повторивший уже звучавшую в критике мысль, что Гончаров путешествовал «как дилетант», не имея в виду «никаких изучений, исследований, ближайшего ознакомления с описываемыми странами и народами», и что он «описывает» свое «путешествие как поэт». «Все в его рассказе сосредоточивается около личности самого автора», — пишет он; рассказ — это «маленькая эпопея, в которой герой — автор». Рецензент подчеркивает, что Гончаров «отличный рассказчик», обладающий уменьем «подметить характеристическую сторону каждого лица и предмета, уловить все его рельефные частности и сгруппировать их в характерное, полное жизни изображение». Отмечает он и обилие в повествовании «спокойного, неподдельного юмора» и «естественную простоту» «правильной и изящной» авторской манеры выражаться (СПбВед. 1858. 17 мая. № 105).
В июньском номере «Морского сборника» за этот же год появилась пространная рецензия Д. Б. Мертваго. Автор подошел к книге Гончарова с позиций читателя-моряка, пристально следившего за печатавшимися ранее в сборнике отдельными главами «путешествия».
- 530 -
Отметив, что в вышедших двух томах книги «читатель не найдет <...> почти никаких научных данных, взглядов, выписок и компиляции» (за немногими исключениями) и что «здесь все принадлежит литературному таланту г-на Гончарова», знакомящего читателя «с тем маленьким плавучим миром, который заключается на фрегате, а из этого мира — преимущественно с кают-компанией», рецензент останавливается подробно на этой стороне «путешествия». Он пишет: «Вот этот неизвестный, до сих пор не открытый для русских читателей мир корабля, и корабля русского, описывает г-н Гончаров с тем талантом тонкой наблюдательности и легкого юмора, который публика вполне оценила в прежних произведениях автора „Обыкновенной истории”. <...> Те черты корабельной жизни, с которыми мы, моряки, сроднились, сжились с детского возраста, на которые не обращаем внимания по привычке к ним, автор выставляет перед нами так рельефно, что мы невольно спрашиваем себя: отчего мы сами этого не замечали прежде г-на Гончарова?» «„Фрегат «Паллада»”, — заключает Мертваго, — едва ли не первая русская книга, написанная неморяком, в которой нет ни одного неправильного морского выражения. Г-н Гончаров — первый русский литератор-неморяк, „отваливший”, а не „отчаливший” на шлюпке к пристани». Единственное, с чем не соглашается автор рецензии, так это с убежденностью Гончарова, что паровые суда вскоре вытеснят «парусную систему» (МСб. 1858. № 6. Ч. V. С. 23—25; подпись: «Д. М.»).
Авторам этих первых откликов на отдельное издание книги вторит и рецензент «Московского обозрения». Он пишет: «В „Путешествиях” г-на Гончарова не ищите серьезного изучения посещенных стран, цельного и стройного описания природы, исследований о быте, нравах и обычаях народных: автор дарит вас только рассказом о своих личных ощущениях. Зато рассказ этот увлекателен и <...> роскошен даже. Другими словами, и в „Путешествиях” своих г-н Гончаров остался блистательным беллетристом, автором „Обыкновенной истории” и „Ивана Савича Поджабрина”» (Московское обозрение. 1859. № 2. С. 6).
Из критиков первым на выход книги отозвался Н. А. Добролюбов, напомнивший читателям о «живой и остроумной статье» А. В. Дружинина (о ней см. выше, с. 527—529), «в которой автор <...> представляет вообще характеристику таланта этого блестящего, увлекательного рассказчика». Подчеркнув, что в новом издании читатели «найдут и несколько новых статей, еще не бывших напечатанными в журналах», Добролюбов сослался на «обстоятельную и полную характеристику достоинств таланта г-на Гончарова», содержавшуюся в «Предисловии от издателя» (Добролюбов. Т. III С. 159—160).
Это анонимное «Предисловие» (о нем см.: наст. т., с. 451), принадлежавшее И. И. Льховскому, содержало не только мысли самого Гончарова по поводу собственной книги, но и тонкий критический анализ ее Льховским, который настойчиво подчеркивал особенный, индивидуальный характер произведения: «... автор сделал, сперва для друзей, а потом для публики — героем путешествия самого себя и таким образом придал обыкновенным впечатлениям путешественника индивидуальный характер». «Сделав все это, — писал далее Льховский, — г-н Гончаров вышел из обыкновенной колеи, сбросил
- 531 -
с себя условия, которые риторика и рутина под разными предлогами стараются наложить даже на путешествие, и описал свою поездку вокруг света так, что она не похожа ни на какое другое произведение этого рода». И эта «непохожесть», утверждал он, обеспечила книге особенный успех. «Прием журналов, — говорилось в «Предисловии», — спешивших дать место каждому отрывку „Путевых записок” на своих страницах, и отзывы критики, угадавшей и оценившей поэтическое и национальное значение этой скромной одиссеи, служат очевидными тому доказательствами». Далее Льховский пытался определить, как Гончарову удалось создать столь оригинальное произведение, какие особенности его дарования способствовали этому: «В коротеньком описании Ликейских островов, в очерках англичан, в эскизах колониальной жизни на мысе Доброй Надежды, в журнале переговоров с японцами и т. д. явственно обозначаются поэтические черты национальных типов: ветхозаветный быт ликейцев, образ английского купца, властвующего в мире, черты отжившей голландской цивилизации и ребяческой мудрости японцев — все это этнографические данные, возведенные, так сказать, в эпические образы. Голос поэта эпического, романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника». Льховский также подчеркнул, что эта книга рассчитана на самые разные круги читателей: «Устранив из описания своего путешествия почти все хоть сколько-нибудь специальные данные, цифры и вообще все то, что очень часто пропускается и наскучает даже тем, кто педантически требует этого, и сосредоточив все внимание на живой и поэтической стороне предмета, автор расширил круг своих читателей; классически-простое, ясное и веселое, как день, изложение путевых впечатлений и наблюдений человека, одаренного оригинальным умом, поэтическим талантом и глубоко-русской природой, всегда найдет ценителей не только в кругу дилетантов, но и в кругу читателей, занятых вовсе не литературными интересами или не сознающих еще этих интересов. Путевыми очерками г-на Гончарова может наслаждаться самый ученый специалист, а между тем они, кажется, доступны и для ребенка» (1858. Т. I. С. IV—VI).1
Выступил Льховский и с рецензией в журнале «Библиотека для чтения». «Почти все отзывы о путевых очерках, — подытоживал он здесь, — наполнены похвалами художественной стороне,2 которая, однако же, в этом произведении <...> признается за что-то случайное,
- 532 -
второстепенное, за что-то заменяющее или выкупающее, более или менее, недостаток другой, будто бы существенной, стороны. В чем же заключается эта существенная сторона <...> никто не потрудился определить вполне». «Многие сочли нужным заметить, — продолжал Льховский, — что путешествие И. А. Гончарова не ученое, не специальное,1 но никто, как нам кажется, не указал на те ученые и специальные путешествия, к которым оно не принадлежит. Какие же это ученые и специальные путешествия, как они пишутся и где читаются? У нас таких на русском языке, можно сказать, почти нет, ни оригинальных, ни переводных». «Любознательность, — утверждал рецензент, — не должна лишать художника, поэта права быть художником, поэтом, не должна обрекать, например, странствующего живописца на рисование восхитительных географических карт и составление приятных учебников. <...> У них своя специальность. <...> Никому более недоступен жизненный смысл явлений и их интимный характер, как современному поэту с его свободными воззрениями, тонким психологическим развитием и сознательным стремлением к истине» (БдЧ. 1858. № 7. Лит. летопись. С. 2—11).
Отдельному изданию книги была посвящена также рецензия Д. И. Писарева. Она появилась в журнале «Рассвет», характером которого и объяснялась ее цель: «...мы только укажем на главные красоты этого произведения и постараемся поставить наших читательниц на ту точку зрения, с которой должно смотреть на „Очерки путешествия”». Точка зрения эта состояла именно в том, что книга Гончарова — «чисто художественное произведение» с «рядом картин, набросанных смелою кистью, поражающих своей свежестью, законченностью и оригинальностью». «Описание неодушевленной природы и наблюдение над отдельными личностями и целыми народами составляют два главных сюжета путевых заметок», автор которых «только смотрит, чувствует и создает стройную, прекрасную картину, в которой отражаются и его думы, и его чувства». Писарев отмечает также, что Гончаров рисует «тончайшие особенности различных национальностей», оттеняя в то же время «характеры отдельных личностей» и «обнаруживая в полной силе знание русского человека». Последнему, по мнению критика, много способствовали наблюдения над экипажем фрегата. Отметив, что книга составлена из писем к друзьям, «сначала не предназначавшихся для печати», Писарев подчеркивает, что это «придает путевым заметкам особенный характер задушевной теплоты и дружеской откровенности: г-н Гончаров постоянно говорит о себе, о своих впечатлениях, о своем расположении духа, о влиянии внешней обстановки на его здоровье и духовную деятельность; личность автора не скрывается за описываемыми предметами; читатель не теряет ее из виду и коротко знакомится с нею к концу путевых заметок» (Рассвет. 1859. № 2. С. 69).
- 533 -
Что касается последнего тезиса, то в статье 1861 г. «Писемский, Тургенев и Гончаров», написанной критиком в пору его работы в журнале «Русское слово», он выражает прямо противоположный взгляд. Признав за несомненное, что «Гончаров — писатель, любимый публикою», и что «Очерки» по мере их публикации «были встречены журналами и публикою с такой радостью, с какой редко встречаются на Руси литературные произведения», он замечает, что та же публика ничего не сможет узнать о любимом авторе из его произведений: «даже в дружеских письмах, составивших собою «Фрегат „Палладу”», не сказались его убеждения и стремления; выразилось только то настроение, под влиянием которого писаны письма; настроение это переходит от спокойно ленивого к спокойно веселому, и больше нам не представляется никаких данных для обсуждения личного характера нашего художника» (Писарев. Т. I. С. 138, 143).
Гончаров, считает Писарев-нигилист, автор «постоянно спокойный, ничем не увлекающийся», который «развязно подходит к запутанным вопросам общественной и частной жизни своих героев и героинь». Основывая свои суждения в равной мере и на романах, и на «Фрегате „Паллада”» («...кто читал „Фрегат «Палладу»” и „Обломова”, тот не найдет удивительным мое мнение»), критик приходит к выводу: «Гончаров останется на анализе мелочей потому, что у него нет побудительной причины перейти к чему-либо другому: он холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни; микроскопический анализ удовлетворяет его потребности мыслить и творить; на этом поприще он пожинает обильные лавры...» (Там же. С. 139, 145).
А. А. Григорьев мельком коснулся книги «Фрегат „Паллада”» в цикле статей «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо”» (1859). По мнению критика-почвенника, Гончаров в ней «остался верен самому себе, или, лучше сказать, тому низменному уровню, до которого он себя умалил. Поразительно яркие описания природы, мастерство отделки мелочных подробностей, наблюдательность, остроумная и меткая, и положительное отсутствие идеала во взгляде — вот что явилось в этой книге, которую опять-таки с жадностью прочла вся публика, — она ведь у нас несколько охотница до японских воззрений, особенно если этим воззрениям обрек себя на служение талант бесспорно сильный». Несколько далее Григорьев саркастически заметил, что «сознание автора „Обыкновенной истории” застряло в Японии».1 По предположению Б. Ф. Егорова, на «иронические формулы» критика повлияла упомянутая ранее заметка Герцена.2 Григорьев весьма сочувственно воспринял полемику Герцена с Добролюбовым и другими «желчевиками» «Современника». И сдержанный отзыв Григорьева о книге Гончарова во многом объясняется неприятием как критических тенденций романа «Обломов», так и радикальных тезисов знаменитой статьи Добролюбова, в которой почти все содержание произведения было сведено к обличению «обломовщины».
Однако в целом после выхода первого отдельного издания критика отдала дань глубокому своеобразию книги Гончарова, признав
- 534 -
подлинно новаторское значение произведения, которое, ломая сложившиеся эстетические каноны жанра, само сделалось своеобразным эталоном его в русской литературе.1 Когда же появилось новое издание 1862 г., критики, оценившие в свое время мастерство и талант автора, к этому изданию остались равнодушны. Лишь время от времени в печати появлялись отдельные упоминания о «Фрегате „Паллада”». Иногда они носили косвенный характер. «Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия. <...> Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда
- 535 -
очень труден <...> а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца», — пишет Ф. М. Достоевский во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861), видимо (не без иронии) намекая на «обрисовку» Гончаровым характеров «китайца или японца» (Достоевский. Т. XVIII. С. 41). А в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) уже явным образом выскажет свое представление о художественной «манере» автора «Фрегата „Паллада”»: «А! — восклицаю я, — так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу» (Там же. Т. V. С. 49).1 Процитированный пассаж заставляет вспомнить слова Гончарова о том, что из «мимолетных впечатлений» и «наблюдений», конечно, «не могло выйти ни какого-нибудь специального ученого (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия <...>. Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи — словом, очерки» (наст. т., с. 82). Тем не менее Достоевский воспользовался оригинальным повествовательно-композиционным приемом Гончарова, когда он прерывает английские картинки неожиданным путешествием в Россию (Обломовку), следующим образом объясняя такую перемену декораций. «Но... однако... что вы скажете, друзья мои, прочитав это... эту... это письмо из Англии? куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что я... не выезжал... Виноват: перед глазами всё еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим» (наст. изд., т. 2, с. 66—67).2
Возможно, и другому современнику Гончарова, Тургеневу, запомнились эти «русские» отступления во «Фрегате „Паллада”» и особенно замечание автора: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» (там же, с. 67). С этим лирическим признанием Гончарова перекликаются слова Тургенева в «Литературных и житейских воспоминаниях» («Вместо вступления», 1869): «...я полагаю <...> что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести» (Тургенев. Сочинения. Т. XI. С. 9).
Говоря о путешествиях, публицисты нередко вспоминали «Фрегат „Паллада”» и его автора: «У нас, в России, не путешествуют, а
- 536 -
только ездят по свету по своей или казенной надобности, несмотря на то что иной раз доводится сделать на почтовых каких-нибудь пять тысяч верст. Это, кажется, заметил И. А. Гончаров, с меткостью и глубоким пониманием русской жизни и русской природы...» — пишет анонимный фельетонист «С.-Петербургских ведомостей» в своей статье «Зимние впечатления. Дорожные заметки от Курска до Москвы» (СПбВед. 1865. 10 янв. № 8).
Выход в 1879 г. нового, переработанного издания «Фрегата „Паллада”» вновь привлек к книге внимание читателей и критики. Об этом сам Гончаров свидетельствует в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Еще недавно где-то я видел в печати беглый критический очерк моих сочинений. А я всё думал, что если я уже замолчал в печати сам, то и другие поговорят-поговорят да и забудут меня с моими сочинениями. <...> Но вопросы, осведомления, требования разъяснений и прочее не только не прекратились, но, напротив, с появлением нового издания „Фрегата «Паллада»” усилились».
Отклики критиков столичных и провинциальных газет1 хотя и не отличались глубиной, но были положительными, а иногда и восторженными. Так, критик «Голоса» писал об эстетических достоинствах книги: «Есть нечто тропическое в этом богатстве картин, в этой неистощимой гибкости языка, в этом по-видимому небрежном и как бы случайном творчестве, которое так и сыплет образами и красками. <...> Я читаю „Фрегат «Паллада»”, как пьяница пьет вино, запоем, без меры; я могу начинать с середины, с последней главы <...> я отношусь к „Фрегату «Паллада»” как сибарит к изысканному наслаждению. <...> Отчего у нас, людей семидесятых годов, нет этого спокойного глаза, легко улавливающего характерные выпуклости предметов, нет этого изящного пера, свободно передающего впечатления?» (Г. 1879. 18 апр. № 106; 19 мая. № 137).
После первых газетных откликов на новое издание появились и более подробные журнальные отзывы. Рецензент «Вестника Европы» подчеркивал: «Давно бы исчезло самое воспоминание о фрегате „Паллада”» и «его кругосветном плавании», совершенном «более 25 лет тому назад», «если бы плавание и самое имя фрегата не увековечил своими мемуарами <...> И. А. Гончаров». «Оторванный от привычек своей жизни, — пишет он далее, — от круга своих друзей, поставленный внезапно в новую, незнакомую ему обстановку, автор очутился, можно сказать, в положении Робинзона и, как Робинзон, вышел победоносно из своего более или менее оригинального положения: благодаря обширным средствам своего таланта, наблюдательности и образованности он сумел открыть интерес в монотонной, по-видимому, жизни <...> и подарил литературе книгу, которая и теперь может увлечь читателя <...>. Необитаемый для всякого другого „остров” под искусным пером И. А. Гончарова населился превосходными картинами, тонкими психологическими заметками, остроумными наблюдениями, хотя объектом их являлся иногда не кто другой, как денщик Фаддеев.
Новое издание, дополненное заключительною главою и украшенное весьма удачно исполненным портретом автора, дает теперь
- 537 -
возможность обращения к публике этого классического труда <...>. Конечно, никто не возьмет эту книгу с целью по ней изучать современное положение Японии, быстро шагнувшей вперед в последнее десятилетие; но для того, кто ищет в книге литературного наслаждения, „Фрегат «Паллада»” еще не скоро отживет свою пору; эту книгу можно не только читать, но и перечитывать — свойство всех классических произведений» (BE. 1879. № 6; обл.).
Вторил этому отзыву и рецензент «Нивы», перечитавший «еще раз эту превосходную и всем нам давно знакомую книгу». «Более двадцати лет назад, — замечает он, — наслаждались мы этими тонкими художественными изображениями, этими увлекательными описаниями — всем, что и теперь в полной свежести и неувядаемой прелести перед читателем. Только такая искренность, неизломанность и простота отношения к предмету, помимо глубокого и сильного таланта автора, — делают то, что пересматриваешь книгу, хорошо знакомую, как вчера написанную, с новым, свежим впечатлением». Отметив, что книга в последнее время «сделалась библиографической редкостью», автор продолжает: «Трудно придумать лучшее чтение, более благородное, художественное и полезное для начинающих жизнь. <...> Кто не помнит этих превосходных картин Японии, очерков посещенных фрегатом портов, картин жизни на фрегате, метких и интересных изображений офицеров, команды, японцев, наконец, прославленного автором русского человека — матросика Фаддеева» (Нива. 1879. № 31. С. 618).
Но кроме похвал книге раздавались, как и прежде, критические замечания. Один из критиков (М. А. Протопопов?), не преминувший отметить художественные достоинства «Фрегата „Паллада”», обрушился на «идеалы» ее автора: «...а если г-н Гончаров является в своей книге преимущественно как художник, то каким же иным мог явиться он, как не тем же самым, каким пребывает в своих романах? <...> Та же внешняя наблюдательность, не простирающаяся в глубь вещей, та же роскошь деталей, нюансов, богатство пейзажей и в заключение — те же идеалы. <...> Одним словом, и во „Фрегате «Паллада»” преследует нас все один и тот же идеально-величавый образ лавочника, который не покидает г-на Гончарова и во всех прочих произведениях его, во имя которого он вооружается и против сентиментальной взбалмошности Адуева-племянника, и против спячки Обломова, и против пассивного эстетического эпикуреизма Райского, и против бесшабашности Марка Волохова» (ОЗ. 1879. № 8. С. 254—261).
Поздние прижизненные отзывы о «Фрегате „Паллада”» относятся к 1880—1890-м гг. О. Ф. Миллер, отметив, что «Фрегат „Паллада”» — «высокоталантливое описание кругосветного плавания», которое «стоит совершенно особняком» в творчестве Гончарова, подчеркнул, что появление нового издания, «вместо того чтобы напомнить о Гончарове как путешественнике, должно было вызвать глубокое сожаление о прекращении его деятельности в области социального романа».1 Писатель В. И. Бибиков в 1890 г., говоря о том, что произведения Гончарова «пользуются всеобщей известностью»
- 538 -
и что, судя по ним, автор «и в преклонных летах <...> сохранил всю прелесть своего могучего таланта», сравнивает предисловие к очеркам «Слуги старого века» с лучшими страницами «Фрегата „Паллада”» (Гончаров в воспоминаниях. С. 225—226).
Своеобразным «образцом» книга явилась для А. П. Чехова. Ссылка на текст «Фрегата „Паллада”» (глава «До Иркутска») содержится в главе VIII его очерков «Из Сибири» (1890).1 Кроме того, Чехов поместил книгу в список «Литература», составленный им перед поездкой на Сахалин (1893). Под № 36 там записано: «И. А. Гончаров. „Фрегат «Паллада»” — <Полн. собр. соч. Т. VII. 2-е изд. Глазунова. СПб.>, 1886».2
Авторам появляющихся позднее (уже после смерти Гончарова) отзывов, которые упрекали Гончарова за ограниченность его наблюдений и впечатлений, ответил в своей неизданной монографии (о ней см. выше, с. 403) современный исследователь Б. М. Энгельгардт, признававший книгу «Фрегат „Паллада”» «наиболее совершенным и законченным произведением Гончарова». Он писал: «Ведь совершенно ясно, что для того, чтобы создать эту галерею разнообразных и тонко очерченных характеров, указанных под разными этническими масками, чтобы так глубоко проникнуть в психологию чуждого, загадочного народа, нужна была не только высокая художественная интуиция, но и внутренняя свобода от предрассудков и суеверий своей „Обломовки”, подлинное сочувствие к человеческой жизни, где бы и как бы она ни проявлялась, и сознательное уважение человеческого достоинства». «Книга, — отмечал он далее, — гуманна в высшем смысле этого слова, и ее тонкий юмор исполнен высокой человечности».3
8
По иронии судьбы, самая интернациональная по содержанию книга Гончарова за границей при жизни автора осталась практически неизвестной. Появлению переводов мешала не столько осторожность
- 539 -
автора,1 убежденного в том, что «всякий писатель <...> линяет в переводе на иностранный язык» (письмо к Н. С. Лескову от 3 февраля 1888 г.), сколько очерковый характер и большой объем книги.
Впервые, как и «Обыкновенная история», «Фрегат „Паллада”» был переведен на чешский язык.2 Правда, при жизни Гончарова в чешской периодике появились только отрывки из книги; три из них перевел известный чешский ученый и критик Эмануэль Вавра (Vavra; 1839—1891).3 Несколько позже, в 1888 г., еще два отрывка из очерков «Плавание в атлантических тропиках» и «От мыса Доброй Надежды до острова Явы» были переведены на болгарский язык.4 Небольшие пейзажные фрагменты появлялись в школьных болгарских хрестоматиях и в дальнейшем: в 1892 г. (описание морской качки из очерка «Атлантический океан и остров Мадера»), 1896 г. (описание шторма из очерка «От мыса Доброй Надежды до острова Явы») и 1902 г. (три фрагмента из разных глав). Фрагмент «Море и небо» из очерка «Плавание в атлантических тропиках» выбрал для перевода и составитель французской хрестоматии по русской литературе.5 Переводы небольших отрывков текста появились также по-таджикски в 1942 г. (из очерка «Атлантический океан и остров Мадера»), по-якутски в 1947 г. (из очерка «Из Якутска»), по-литовски в 1953 г. (из очерка «Ликейские острова») и по-татарски в 1962 г. (из очерка «Острова Бонинсима»).
В Японии, Китае, Южной Африке, т. е. в странах, описываемых в тексте «Фрегата „Паллада”», книгой интересовались прежде всего как историческим источником, выбирая для перевода соответствующие главы. Особенно был велик интерес к гончаровскому тексту в Японии. По свидетельству писателя, первые попытки познакомить страну восходящего солнца с «японскими» главами книги предпринимались еще в 1887 г.: «Один из посольства, Андо-сан (г-н Андо — по-нашему), — сообщал Гончаров в письме к А. Ф. Кони от 14 августа 1887 г., — говорящий отлично, изящно,
- 540 -
со всеми утонченностями языка, по-русски, уезжая на год в Японию, взял с собою „Фрегат «Палладу»” для перевода на японский язык». Перевод Андо в печати не появился, однако известен другой, сделанный семью годами позже, но опубликованный уже в XX в.1 В сборниках и периодических изданиях отрывки «японских» очерков печатались достаточно регулярно: в 1898 г. («Япония эры Каэй глазами иностранца»), 1905 г. («Переговоры между Кавадзи и Путятиным в Нагасаки глазами русского»), 1908 г. («Очерки путешествия в Японию Гончарова»), 1909 г. («Совместный обед японцев и русских 55 лет тому назад»), 1919 г. («Очерки путешествия в Японию»), 1926 и 1930 гг. («Записки о путешествии в Японию»), 1941 и 1969 гг. («Записки о плавании в Японию»), 1961 г. («Фрегат „Паллада”»). Полностью японские главы книги (а также главы «Гонконг», «Острова Бонинсима», «Шанхай», «Ликейские острова», «Через двадцать лет») переведены в 1969 г.2
Очерк «Шанхай» опубликован по-китайски в 1980 г.3
В 1960—1961 гг. очерк «На мысе Доброй Надежды» в переводе Н. Уилсона вышел в Кейптауне под заголовком «A Russian View of the Cape in 1853» с подробным комментарием (см.: QBul).
В 1974 г. очерк «Манила» был опубликован на Филиппинах.4
«Фрегат „Паллада”», не включавшийся в немецкие собрания сочинений Гончарова 1909, 1918 и 1922 гг., в 1925 г. был опубликован в вольном переводе с сокращениями.5 Полный немецкий вариант книги вышел в 1953 г.6 В 1965 г. были изданы письма Гончарова из плавания, дополненные отрывками из книги в новом переводе.7
Сокращенные переводы книги выходили в Польше8 и Великобритании.9 В 1987 г. перевод «Фрегата „Паллада”» опубликован в США.10
- 541 -
Полностью книга была переведена на чешский (1927),1 венгерский (1952; переизд.: 1954, 1981), румынский (1956) (в составе восьмитомного собрания сочинений Гончарова, полностью дублирующего русское издание 1952 г., и отдельно), эстонский (1958), грузинский (1963; переизд.: 1972, 1984), итальянский (1970) (в составе двухтомного собрания сочинений Гончарова),2 болгарский (1977)3 и китайский (1982) языки. В 1995 г. вышел полный французский перевод «Фрегата „Паллада”».4
ТОМ ПЕРВЫЙ
I
ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА
С. 8. ...романы Купера... — Джеймс Фенимор Купер (Cooper; 1789—1851) — американский писатель, автор приключенческих романов. «Морские» романы Купера: «The Pilot» (1823; рус. пер.: Лоцман. СПб., 1832), «The Red Rover» (1827; рус. пер.: Красный морской разбойник. СПб., 1832), «The Two Admirals» (1842; рус. пер.: Два адмирала. СПб., 1848), «The Sea Lions» (1849; рус. пер.: Морские львы. М., 1853) — пользовались в России большой популярностью.
С. 8. ...рассказы Мариета... — Фредерик Марриет (Marryat; 1792—1848) — английский писатель, живописец морского быта, автор романов: «The Naval Officer or Scenes and Adventures in the Life of Frank Mildmay» (1829; рус. пер.: Морской офицер, или Приключения Франка Мильдмея. СПб., 1837; переизд.: 1848), «The Pirate and the Three Cutters» (1835; рус. пер.: Пират. СПб., 1841), «The Pasha of many Tales» (1835; рус. пер.: Многосказочный паша. М., 1843) и др.
С. 8. «Сопьетесь вы там с кругу. — пугали некоторые... — Ср. в письме к Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.: «Элькану кланяйтесь, скажите, что предсказания его фальшивы: я не спился, да и надежды нет: моряки пьют по рюмке водки за обедом да по рюмке вина, а за ужином опять по рюмке водки, а вина нет, и только. А некоторые и совсем не пьют, чуть ли я не главный пьяница».
С. 9. ...перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов... — Английский мореплаватель Джеймс Кук (Cook; 1728—1779) возглавлял три кругосветные экспедиции. Описания путешествий Кука:
- 542 -
An Account of a Voyage round the World in the Years 1768—1771. London, 1773; A Voyage towards the South Pole and round the World. London, 1777; A Voyage to the Pacific Ocean <...> in the Years 1776—1780. London, 1784 — были переведены на русский язык: Путешествие к Южному полюсу. СПб., 1780; Путешествие в южной половине земного шара и вокруг оного в 1772—1775 гг. СПб., 1797; Путешествие в Северный Тихий океан с 1776 по 1780. СПб., 1805. По-русски вышло также «Описание жизни и всех путешествий английского мореходца капитана Кука» (СПб., 1790). Английский мореплаватель Джордж Ванкувер (Vancouver; 1758—1798) участвовал в двух последних путешествиях Кука. В 1791 г. он возглавил экспедицию в северную часть Тихого океана (см.: A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and round the World in the Years 1790—1795 in the Discovery Sloop of War and Armed Tender Chatham under the Command of Captain George Vancouver. London, 1798. Vol. 1—3; рус. пер.: Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг света, совершенное в 1791, 1792, 1793, 1794 и 1795 гг. капитаном Георгием Ванкувером. СПб., 1827—1838. Ч. 1—6). С путешествиями «всех кругосветных плавателей, с Кука до последних времен», Гончаров впервые познакомился в библиотеке Н. Н. Трегубова (о нем см. выше, с. 402).
С. 9. ...даже не в Италию, как звучно вы о ней ни пели, поэт... — Имеется в виду поэтический цикл А. Н. Майкова (1821—1897) «Очерки Рима» (1847), сложившийся под впечатлением от пребывания поэта в Италии в 1842—1843 гг.
С. 10. ...где природа, как баядерка, дышит сладострастием... — Баядерка или баядера (португ. bailadeira) — европейское название индийских танцовщиц, распространенное в XIX — начале XX в. Сравнение природы с баядерой, восходящее к индийской философии, содержалось в эпиграфе к первому из «Писем об изучении природы» А. И. Герцена (см.: ОЗ. 1845. № 4).
С. 10. Но вот явился человек, мудрец и поэт ~ «Космос!» Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос. — Вероятно, мудрецом и поэтом Гончаров называет немецкого путешественника и ученого Александра фон Гумбольдта (Humboldt; 1769—1859). Слово «космос» (в значении: мир, Вселенная) становится особенно распространенным в Европе и России благодаря последнему, незаконченному произведению Гумбольдта «Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung» (т. 1 вышел в 1847 г.; рус. пер.: Гумбольдт А. фон. Космос: Опыт физического мироописания. СПб., 1848—1863. Ч. 1—5). Гончарову была известна первая часть труда — в письме к В. Ф. Шаховской от 29 января 1849 г. он упоминает о книге «Космос» в переводе Н. Г. Фролова: «Я дал кому-то прочесть уже давно, да и забыл <...>. Книга эта подарена мне переводчиком, оттого я и дорожу ею». См. также ниже, с. 765, 771—772, примеч. к с. 677, 691.
С. 11. ...скромный чиновник... — О должностном положении Гончарова перед плаванием см. выше, с. 398, 401.
С. 11. ...новый аргонавт ~ в недоступную Колхиду... — Аргонавты — в греческой мифологии участники плавания за золотым руном в страну Эю (или Колхиду), встретившие многочисленные препятствия на пути к цели.
С. 11. Парголово — дачный поселок под Петербургом.
- 543 -
С. 12. ...путь этот уже не Магелланов путь... — Фернан де Магеллан (Magallanes, ок. 1480—1521) — испанский мореплаватель португальского происхождения. В 1519—1521 гг. руководил экспедицией, искавшей западный путь к Молуккским островам (Индонезия). Обогнув Южную Америку и открыв неизвестный ранее пролив (названный его именем), через который экспедиция вышла в Тихий океан, Магеллан достиг Филиппинских островов, где и погиб в схватке с аборигенами. См. также ниже, с. 723, примеч. к с. 547.
С. 12. Не величавый образ Колумба и Васко де Гама... — Христофор Колумб (Colon; 1451—1506) — испанский мореплаватель. Васко да Гама (da Gama; ок. 1469—1524) — португальский мореплаватель. Открыл морской путь из Европы в Азию.
С. 12. ...русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы... — Знак отличия беспорочной службы присваивался за 15 и более лет (по пятилетиям) нахождения в классных чинах. За получением знака следовало награждение очередным орденом. Знак представлял собой позолоченную серебряную квадратную сквозную пряжку с изображением дубового венка и обозначением числа лет службы. См. также ниже, с. 548, примеч. к с. 37.
С. 12. ...в Ост-Индии... — Так со времени путешествия Васко да Гама до второй половины XIX в. в Европе называли открытый им архипелаг в Индийском океане и собственно Индию (в противоположность Вест-Индии — открытому Колумбом среднеамериканскому архипелагу).
С. 13. ...из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, — пуф, шутка конечно... — Пуф — выдумка (фр. pouf). Шутливое упоминание о возможности переезда из Европы в Америку в два дня содержалось в «Письмах из Avenue Marigny» А. И. Герцена (см.: С. 1847. № 10. Отд. I. С. 157). Эту статью Гончаров рекомендовал прочесть Ю. Д. Ефремовой в письме от 25 октября 1847 г. В действительности переход из Европы в Америку на пароходе в начале 1850-х гг. занимал около двух недель. В мае 1851 г. американский пароход «Гумбольдт» преодолел расстояние от Нью-Йорка до Гавра за 12 суток. «Это самый скорый переход, совершенный доселе между двумя упомянутыми портами» (МСб. 1851. № 6. С. 546). Но уже в 1859 г. сообщалось, что «пароход „Prince Albert” совершил <...> быстрейшее плавание из всех когда-либо сделанных между Соединенными Штатами и Англией. Отплыв 10 декабря из Сен-Джонса на Ньюфаундленде, пароход в 5 суток и 16 часов достиг устья реки Клейд в Шотландии» (МСб. 1859. № 3. Ч. IV. С. 67).
С. 13. Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики... — Аристотель Стагирит (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ; Гончаров имеет в виду его сочинения «Риторика» и «Поэтика». Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) — ученый-естествоиспытатель, филолог, поэт; здесь речь идет о его сочинении «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» (1747). Познания в риторике Гончаров приобрел в Московском университете. Курс теории литературы читал в это время И. И. Давыдов, который, как
- 544 -
рассказывал писатель, «особенно много распространялся <...> об ораторском искусстве: Квинтилиан, Блэр, Баттё не сходили у него с языка» («Воспоминания. I. В университете»). В «Учебной книге российской словесности...» Н. И. Греча поэтике путешествий посвящен отдельный параграф, озаглавленный «Описания путешествий и пр.» (см.: Греч Н. И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил ритории и пиитики, и истории российской словесности. СПб., 1819. Ч. 1. С. 237—238). Ферула — розга; здесь в значении: строгие правила.
С. 14. ...с римский огурец величиною? — Т. е невероятно большие. Выражение восходит к басне И. А. Крылова «Лжец» (1812):
Вот в Риме, например, я видел огурец:
Ах, мой творец!
И по сию не вспомнюсь пору!
Поверишь ли? ну, право, был он с гору.(Крылов И. А.
Соч.: В 2 т. М., 1956. Т. I. С. 71).С. 14. ...на «дальнем севере»... — Цитата из стихотворения А. Н. Майкова «На дальнем Севере моем...» (1844), вошедшего в цикл «Очерки Рима» (см.: Майков А. Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 90).
С. 15. Ваши музы, любезные поэты, законные дочери парнасских камен... — Намек на римские мотивы в поэзии А. Н. Майкова и В. Г. Бенедиктова.
С. 15. ...в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. — Фрак (tail-coat) вошел в моду в конце XVIII в. и долгое время воспринимался как типично английский костюм. В 1820—1850-е гг. фрак — повседневная и вечерняя одежда англичанина; обычные цвета фрака — черный, коричневый и синий (наиболее популярный — черный); цвет жилета был контрастным по отношению к цвету фрака (подробнее см.: Brook I. A History of English Costume. London, 1937. P. 195; Cunnington C. W., Cunnington Ph. Handbook of English Costume in the XlX-th century. London, 1959. P. 135). Н. И. Греч, путешествовавший в конце 1830-х гг., заметил, что в Англии «мужчины, кроме черни, во фраках и сертуках, большей частью, черных...» (Греч. С. 40). Д. А. Милютин, в 1841 г. ехавший из Дувра в Лондон в почтовой карете, был удивлен, «когда на место кучера сел господин во фраке и в белых перчатках, атласном черном галстуке и шелковом жилете» (Милютин. С. 191). А. С. Хомяков, посетивший Англию в 1847 г., упомянул о том, что «англичанин очень любит белый галстук и едва ли не прямо с постели наряжается во фрак» (Хомяков А. С. Англия // Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 174). Круглая шляпа (top-hat, topper) — цилиндр, модный в Англии первой половины XIX в. головной убор. Цилиндры поначалу носили даже появившиеся в 1829 г. лондонские полисмены (см.: Милютин. С. 213). Зонтик становится аксессуаром повседневного английского костюма с начала XIX в.
С. 16. ...«Rule, Britannia, upon the sea». — Гончаров неточно цитирует припев («Rule, Britannia, rule the waves; / Britons never will be slaves!») английской патриотической песни «Ode in Honour of Great Britain», более известной под названием «Rule, Britannia!» (ср. рус.
- 545 -
пер. М. А. Дмитриева: «Правь, правь, Британия! и царствуй над морями! / Твоим сынам не быть рабами!» (Дмитриев М. А. Стихотворения. М., 1865. Ч. 2. С. 241—242)). Песня «Rule, Britannia!» впервые прозвучала 1 марта 1740 г. в финале маски (драматического представления с музыкой) «Альфред» композитора Т. Арна на стихи Д. Томсона и Д. Маллета. Вопрос о том, кому из них принадлежит текст песни, до сих пор остается дискуссионным. Песня приобрела популярность после 20 марта 1745 г., когда было впервые представлено оперное переложение «Альфреда». Существовал ряд пародийных текстов на ее мотив (см.: Chappel W. The Ballad Literature and Popular Music of the Olden Time. New York, 1965. Vol. 2. P. 687—688). В XVIII в. «Rule, Britannia!» соперничала с другой английской патриотической песней «God, save the King» (1740), которая была впоследствии национальным гимном Великобритании и ряда других стран (в том числе России в 1816—1833 гг.). «Rule, Britannia!» в XIX в. считалась вторым, или морским, гимном Британии. Подробнее см.: Бернштейн И. Д. История национальных гимнов. Пг., 1914.
С. 16. Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями... — Иронический перифраз библейского текста: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1: 2).
С. 16. Все четыреста человек экипажа... — О численности личного состава фрегата «Паллада» см.: Отчет. С. 138—139.
С. 17. Барон Крюднер... — О нем см. выше, с. 429—430.
С. 18. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. ~ во всё время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках. — Ср. в письме к Языковым от 3—4 (15—16) ноября 1852 г.: «Слава Богу, что на меня совсем не действует качка: это, говорят, зависит от расположения грудобрюшной преграды, то есть чем она ниже расположена, тем лучше. Видно, она помещена у меня в самом брюхе, потому что меня не тошнит вовсе и голова не кружится и не болит, так что нет никакого признака морской болезни, и я до сих пор, слава Богу, не знаю, что это значит. Вот что скажет океан: там, говорят, качка бросает корабль как щепку. Но я, однако ж, должен сознаться, что качка и на меня действует скверно, хотя и иначе, нежели на других. Она производит сильное нервическое раздражение: я в это время не могу ни читать, ни писать, ни даже думать свободно».
С. 20. ...барон Шлипенбах... — О нем см. выше, с. 426.
С. 21. ...услужливого распорядителя офицерского стола П. А. Тихменева. — О нем см. выше, с. 428—429.
С. 22. ...«а об водке ни полслова!» — Цитата из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара» (1817).
С. 23. Борнгольм (или Борнхольм) (Bornholm) — остров на юго-западе Балтийского моря, территория Дании.
С. 23. ...помните «милый Борнгольм»... — Цитата из повести Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1794) (Карамзин. С. 663).
С. 24. Веселились по свистку ~ Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны. — См. выше, с. 437.
С. 26. При нас в портсмутском адмиралтействе разняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину. — В начале 1850-х гг. такая ситуация была вполне типичной. И. А. Шестаков
- 546 -
(о нем см. ниже, с. 551—552, примеч. к с. 40), хорошо знавший состояние английского флота и считавший, что «англичане не приблизились еще к окончательному решению в вопросе о винтовых судах», писал: «Идея о негодности парусных кораблей для военных надобностей охватила давно уже всю Англию, и как целость ее зависит от действительности морских сил, торопились создать паровой флот, не заботясь об издержках и не придерживаясь никакой системы. Распиливали и наставляли старые корабли, принимали и выполняли всякие проекты, обещавшие успех, вставляли в корабли механизмы полные и вспомогательные, делали винты подъемные и постоянные, короче, пользовались огромными государственными и частными средствами Англии и массою технических познаний в стране без определенной цели; лишь бы только скорее задымился флот во всем его составе» (Шестаков, л. 90).
С. 26. Мы вошли в Зунд...; см. также
с. 717: ...мы проходили Зунд. — Зунд (Öresund) — восточный пролив, соединяющий Балтийское море с проливом Каттегат. С. 27. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета... — Имеются в виду крепости в датском Эльсиноре (Helsingoer) и шведском Хальсинборге (Hälsingborg) на берегах Зунда. Возможно, «романтики припоминали» могилу одного из вероятных прототипов шекспировского героя, принца Амлета, известного им по одноименной драме популярного в России в 1840-х гг. датского поэта и драматурга, главы северной романтической школы, Адама Эленшлегера. В основу драмы «Амлет» положен отрывок из «Gesta Danorun» («Истории Дании») датского поэта и историка Саксона Грамматика, в котором названо место гибели и захоронения Амлета (см.: Амлет: Трагедия Элленшлегера // Репертуар и пантеон театров. 1847. Т. 3. Отд. Пантеон театров. С. 77; Hamlet’s Three Graves // Shakespeare Pictorial. Stratford upon Avon, 1929. Febr. P. 15; Löye O. The Historical Hamlet and His Grave // American-Scandinavian Review. New York, 1933. Apr. XXI. P. 201—207).
С. 27. ...о несправедливости зундских пошлин... — Пошлина с судов за проход через Зунд взималась датскими властями с XV в. В XVII в. эта практика была узаконена международными трактатами. Вопрос о несправедливости зундской пошлины, препятствовавшей свободе судоходства, был поднят в 1848 г. Соединенными Штатами. В 1857 г. пошлина была отменена.
С. 28. Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд... — Гончаров умалчивает о том, что в проливе Зунд фрегат сел на мель и А. Е. Шлипенбах был послан на берег за пароходом. Подробнее об этом происшествии писатель рассказывает в эпилоге «Через двадцать лет» (см.: наст. изд., т. 2, с. 718—721). Ср. также: Отчет. С. 140; Всеподданнейший отчет. С. 163.
С. 28. ...пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки. — Проливы Каттегат (Kattegat) и Скагеррак (Skagerrak), общей протяженностью около 500 км, входят в систему проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. См. также: Отчет. С. 140.
С. 28. Это «История кораблекрушений»...; см. также
с. 731: ...в «Истории кораблекрушений»... — Вероятно, речь идет о книге «Описание примечательных кораблекрушений, в разное время случившихся. Сочинение господина Дункена. С английского перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей,
- 547 -
капитан-командор Головнин. В 3 ч.» (СПб., 1822). В. М. Головнин (о нем см. ниже, с. 625—626, примеч. к с. 326) добавил к своему переводу четвертую часть, «служащую продолжением к Описанию примечательных кораблекрушений господина Дункена» (СПб., 1822), под названием «Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями». По представлению Морского департамента, «Описание...» было включено морским министром «в число штатных книг, на военные суда отпускаемых» (Указ. соч. Ч. 1. С. 20), и, несомненно, было в библиотеке фрегата. Нельзя исключить, что Гончаров мог «успокаивать воображение» и книгой Ж.-Л. Деперта «История кораблекрушений, или Собрание любопытнейших повествований о кораблекрушениях» (М., 1799—1800. Ч. 1—3).
С. 28. В. А. Корсаков... — О нем см. выше, с. 422—425.
С. 29. Немецкое море — старое название Северного моря (нем. Nordsee; англ. German Ocean).
С. 29. ...отец Аввакум... — О нем см. выше, с. 433—434.
С. 30. Английский канал — английское название (English Channel) Ла-Манша.
С. 30. ...к Доггерской банке». — Доггер-Банка (Dogger Bank) — обширная отмель в центральной части Северного моря, вытянутая с юго-запада на северо-восток на 260 км.
С. 31. Он был добрый и обязательный человек ~ множество поводов обязать того, другого... — Здесь и во всех случаях ниже: обязательный — предупредительный, внимательный; см. также: наст. изд., т. 1, с. 761, примеч. к с. 210.
С. 34. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде. — Спитхед (Spithead) — морской рейд Портсмута. Фрегат вошел на рейд 30 октября (11 ноября) (см.: Отчет. С. 140).
С. 34. ...островом Вайтом...; см. также
с. 386: ...как бы жил в Англии, где-нибудь на острове Байте. — Уайт (Wight) — остров в проливе Ла-Манш, территория Великобритании. С. 35. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции — стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества?; см. также
с. 38: Ужели вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? — Обилие в русской прессе «писем», «записок», «дневников», посвященных путешествиям по Западной Европе, еще в 1847 г. приводило в недоумение А. И. Герцена: «...что сказать о предмете битом и перебитом — о Европе? С легкой руки Фон-Визина и особенно с карамзинских „Писем русского путешественника” у нас все рассказали о Европе в замечательных и достопримечательных письмах русского офицера, сухопутного офицера, морского офицера, обер-офицера и унтер-офицера; наконец, гражданские деловые письма его превосходительства Н. И. Греча и приходно-расходный дневник г-на Погодина договорили последнее слово» (С. 1847. № 10. Отд. I. С. 156). С. 35. ...не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря... — Реминисценция элегии В. А. Жуковского «Море» (1822):
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
- 548 -
Тревожною думой наполнено ты
Безмолвное море, лазурное море...(Жуковский В. А.
Стихотворения Л., 1956. С. 252).С. 37. ...Птолемеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики... — Птолемей (Ptolemáios) Клавдий (II в.) — древнегреческий ученый, создатель геоцентрической системы мира. Основное астрономическое сочинение Птолемея — «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах», известное под названием «Альмагест». Французский перевод вышел в 1813—1816 гг. В сочинении Птолемея «Руководство по географии» (8 книг) дана полная систематическая сводка географических знаний древних. Об Аристотеле и его «Риторике» см. выше, с. 543—544, примеч. к с. 13. Ср. письмо Гончарова к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.: «...справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птолемеевой астрономии и географии или Квинтилиановой риторики...».
С. 37. ...вроде пиладова подвига... — См. об этом: наст. изд., т. 1, с. 773—774, примеч. к с. 323.
С. 37. ...ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. — Возможно, имеются в виду статистические данные о количестве умерших за год с указанием причины смерти, помещавшиеся в месяцесловах.
С. 37. ...даже выставляют цифру XV, XX, ХХХ-летний друг и таким образом жалуют друг другу знак отличия... — Ироническая параллель службы и дружбы. О знаке отличия беспорочной службы см. выше, с. 543, примеч. к с. 12.
С. 37. ...очень аккуратный формуляр. — Формуляр — здесь: список заслуг (в формулярном или послужном списке фиксировались все продвижения чиновника по службе).
С. 38. ...туннель под Темзой ~ бесполезен..., см. также
с. 484: ...купленный мною в туннеле под Темзой. — В 1820-е гг. вызванная промышленным ростом необходимость постройки новых переправ через Темзу столкнулась с парламентским запретом строить мосты ниже Лондонского. Так возникла идея соединить районы Уопинг и Ротерхит тоннелем. Строительство первого в мире тоннеля под руслом реки, начатое 16 февраля 1825 г., неоднократно прерывалось из-за технических и финансовых трудностей и завершилось лишь в конце 1842 г. Открытие тоннеля состоялось в марте 1843 г., но пользоваться им могли только пешеходы, так как, «когда пришлось устраивать в него спуски с поверхности, ценность зданий, которые нужно было снести для достижения цели, оказалась столь великою, что компания удовольствовалась витыми лестницами для пешеходов» (Шестаков, л. 56). Более 20 лет тоннель под Темзой был лондонской достопримечательностью, доступной круглые сутки. В пролетах между арками находились торговые ряды, аттракционы и выставки. В 1865 г. тоннель был продан железнодорожной компании и стал частью лондонского метро на участке от Уэйтчэпел до Нью-Кросс (см.: Altic. P. 373—374). М. П. Погодин, посетивший Лондон летом 1839 г., посвятил описанию тоннеля несколько страниц дорожного дневника (см.: Погодин. С. 196—199). Погодин разговаривал с руководителем строительства
- 549 -
инженером Марком Брюнелем и с его слов заметил, что «предприятие провесть дорогу под рекою — только для славы, а выгод не обещает» (Там же. С. 199). В России были прекрасно осведомлены о ходе строительства. В 1841 г. Д. А. Милютин перед посещением лондонского тоннеля припоминал, что «видел столько раз его изображение, читал описания» (Милютин. С. 202) «И не было, пожалуй, ни одного журнала и путешественника, — пишет современный историк, — который хотя бы раз не коснулся описания тоннеля, строившегося в те годы под Темзой» (Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 1825—1853 гг. М., 1982. С. 96—97).
С. 38. ...церковь Св. Павла изящна и громадна... — Собор Св. Павла строился в 1675—1710 гг. (архитектор — Кристофер Рен (Wren)). С конца XVIII в. — место захоронения выдающихся полководцев, деятелей литературы и искусства, ученых.
С. 38. ...Лондон многолюден... — Ср.: «Кто скажет вам: шумный Лондон! тот, будьте уверены, никогда не видал его. Многолюден, правда...» (Карамзин. С. 523); «...бродили мы по городу: везде <...> многолюдство...» (Хомяков А. С. Англия. С. 179).
С. 38. ...королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити... — Древний обычай, символизирующий права и привилегии жителей Лондона. С конца XIV в. правящий монарх должен был получать разрешение на въезд в Сити. Церемония происходила при большом стечении народа у больших деревянных ворот (Темплбар) в начале Флит-стрит. Королевский кортеж останавливался, и лорд-мэр в знак того, что он временно слагает свои полномочия, вручал монарху «жемчужный меч», который монарх возвращал, прикоснувшись к рукояти. Подробнее см.: Воронихина Л. Н. Лондон. Л., 1969. С. 25.
С. 38—39. Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая ~ говорят длинные речи и напиваются сообща». — Утрированное перечисление распространенных фельетонных представлений об Англии и англичанах. Возможный адресат гончаровской иронии — Ф. В. Булгарин. Ср.: «Холодность в обращении, самонадеянность, гордый и угрюмый вид, пренебрежение ко всему, молчаливость — вот что составляет основание характера сынов Альбиона! Не только шумную радость, громкий смех, но даже снисходительную улыбку англичанин почитает неприличными без важных побудительных причин. Восхищение и удивление англичанин причисляет к признакам глупости. Наслаждением англичанин называет только то, что сильно потрясает душу и волнует кровь: адские драмы Шекспира, звериную травлю, кулачный бой, бешеные конские скачки, охоту на медведей, бурю и странствования между дикими народами, в горах и пустынях. Англичанин не любит тонких душистых вин и нежных французских соусов и предпочитает им ром, спиртный портвейн, херес, мадеру и полусырое мясо. Превратив всю Англию в красивый сад, англичанин пренебрегает природой и живет летом в городе, а зимою и осенью в деревне. Только одни англичане могли дать нравственное значение слову excentric, потому что только Англия могла произвесть людей, которых мы называем эксцентрическими, т. е. образцовыми чудаками, людьми другой планеты по страстям, вкусу и образу жизни» (Булгарин Ф. В. Лев и шакал // Булгарин Ф. В. Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого. СПб., 1843. С. 88).
- 550 -
С. 39. ...времен кошихинских... — Кошихин (правильно: Котошихин) Григорий (ок. 1630—1667) — подьячий Посольского приказа, бежавший за границу, автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666), рукопись которого была обнаружена в Швеции в 1838 г. и впервые опубликована Археографической комиссией в 1840 г. В первом издании фамилия автора была прочитана как Кошихин, впоследствии по ряду архивных документов установлена настоящая фамилия. Словосочетание «кошихинские времена» было весьма распространенным в публицистике 1840—1850-х гг. В кругу «западников» оно стало символом застоя, «азиатских нравов», деспотизма. А. И. Герцен в фельетоне «Москва и Петербург» писал, что Москва «остановилась на последней странице кошихинских времен и только по слуху знает о следующих переворотах» (Герцен. Т. II. С. 40). Подробную характеристику сочинения Котошихина Герцен дал в книге «О развитии революционных идей в России» (1850—1851): «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи. Пиры, торжественные шествия, вечерни, обедни, приемы посланников, переодевание по три или четыре раза на день составляли единственное занятие царей. Их окружала олигархия, лишенная культуры и достоинства. Эти гордые вельможи, кичившиеся должностями, которые занимали их отцы, бывали биты плетьми на царских конюшнях и даже кнутом на площади, сами не считая то за оскорбление. В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого» (Герцен. Т. VII. С. 165—166). В том же духе о «кошихинских временах» отзывался и В. Г. Белинский в цикле статей «Россия до Петра Великого» и других сочинениях (см.: Белинский. Т. IV. С. 49, 265, 295).
С. 39. ...фрегат втянули в гавань и ввели в док... — Это произошло 11 (23) ноября. О причинах ввода «Паллады» в Портсмутский док см.: Отчет. С. 140—142; Всеподданнейший отчет. С. 163—164.
С. 39. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда. — В первый раз Гончаров приехал в Лондон 3 (15) ноября (см. письмо к Языковым от 3—4 (15—16) ноября 1852 г.) и пробыл там до 18 (30) ноября или 19 ноября (1 декабря) (см. письмо к Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.). Дату второго приезда можно установить по этому же письму лишь предположительно — 22 ноября (4 декабря); в Портсмут Гончаров возвратился 3 (15 декабря) (см. письмо к Языковым от 8 (20) декабря 1852 г.).
С. 39. ...Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями... — Ср. у Д. А. Милютина: «Берега ее не представляют красивых набережных, а, напротив того, заняты фабриками, складами и магазинами...» (Милютин. С. 195).
С. 40. ...меркуриевым жезлом! — Один из олимпийских богов, Гермес (лат. Меркурий), глашатай Зевса, считался также покровителем купцов, богом торговли и прибыли. Его жезл (кадуцей), бывший первоначально эмблемой вестников, глашатаев, парламентеров, в Новое время стал эмблемой торговли.
С. 40. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями... — Железная дорога в Лондоне, по словам М. П. Погодина, проложена «на тысяче высоких арок, вроде
- 551 -
римских водопроводов, по домам и кровлям, в уровень с вершинами деревьев, трубами и колокольнями, над улицами, где ездят экипажи и ходят люди. Вам покажется иногда, что вы катитесь по крышам, не только по головам, кои мелькают внизу. Дело вот в чем: линия дороги пересекала улицы и проходила через дома. Над улицами поставили своды, а дома вынули из-под линии; прочие же здания направо и налево остались на своих местах, как были, с крышами, которые и составляют как будто взволнованную окаменелую поверхность» (Погодин. С. 206—207); ср: «По городу и предместьям рельсы положены на арках, напоминающих своим гигантским размером римские водопроводы. Этот виадук имеет до 1000 арок. <...> Таким образом, поезд летит сверху домов, улиц и целых городов...» (Милютин. С. 200—201).
С. 40. ...ездою в кебе... — Кеб (от. фр. cabriolet) — тип наемного экипажа, появившийся в Лондоне в начале XIX в. Видимо, Гончаров ехал в кебе, известном под названием «Hansom cab», по имени изобретателя, архитектора Хэнсома. Кэбом, запатентованным в декабре 1834 г., пользовались до появления первых автомобилей. Знакомый Гончарова по дому Майковых А. П. Заблоцкий-Десятовский так описывал этот вид транспорта: «Это двухколесные кареты, открытые только спереди и висящие на низких лежачих рессорах; кучер сидит на возвышении сзади кареты и может разговаривать с вами не иначе, как открывая маленькое окошечко в империале. Только изобретательность и механический инстинкт англичан могли устроить эти покойные и в высшей степени безопасные экипажи; они так низко висят на рессорах, что вы сидите почти на земле, и потому падение для вас не страшно; но и то надо сказать, что в кебах можно только ездить по английским мостовым и дорогам» (Заблоцкий-Десятовский. С. 10).
С. 40. ...водворен в доме, в квартире. — В Лондоне Гончаров остановился на квартире Ивана Алексеевича Шестакова (1820—1888) (см. письмо к М. А. и Е. А. Языковым от 3—4 (15—16) ноября 1852 г., будущего адмирала, в 1851—1855 гг. находившегося в столице Англии по служебным делам. В воспоминаниях «Полвека обыкновенной жизни» Шестаков упоминает, что жил в Лондоне на Голден-сквер (Шестаков, л. 22). Здесь обитали герои романов Т. Смоллета «The Expedition of Humphry Clinker» (1771; рус. пер.: Путешествие Гумфрия Клинкера [СПб.], 1789. Ч. 1—3) и Ч. Диккенса «The Life and Adventures of Nicholas Nickleby» (1838—1839; рус. пер. под загл. «Жизнь и приключения английского джентльмена мистера Николая Никкльби...» — БдЧ. 1840. № 8—9). Отрывок из последнего романа дает некоторое представление о пристанище Гончарова: «...хотя вокруг Гольдн-сквера и живет кое-кто из представителей уважаемых профессий, Гольдн-сквер в сущности не лежит на пути никому, никуда и ниоткуда. Это одна из существовавших некогда площадей, район города, отнюдь не преуспевший и начавший сдавать квартиры. Многие вторые и третьи этажи сдаются с мебелью одиноким джентльменам, и здесь принимают также на пансион. Это излюбленное пристанище иностранцев <...> Две-три скрипки и духовые инструменты из оперного оркестра обитают по соседству. Дома-пансионы музыкальны, и звуки фортепьяно и арф плывут в вечернюю пору над головой унылой статуи — гения-хранителя маленькой заросли кустов в центре площади. <...> Здесь нюхательный табак и сигары,
- 552 -
немецкие трубки и флейты, скрипки и виолончели делят между собою власть. Это страна песни и табачного дыма» (Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. V. С. 21—22).
С. 40. На другой день, когда я вышел на улицу ~ Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. — В действительности похороны состоялись через три дня после приезда Гончарова в Лондон. Артур Уэсли (Wellesley), герцог Веллингтон (Wellington; 1769—1852) — английский полководец, государственный деятель. Командовал соединенными войсками союзников в битве при Ватерлоо (1815). В 1827 г. и в 1842—1852 гг. — главнокомандующий британской армией; в 1828—1830 гг. — премьер-министр; входил в состав правительства до 1846 г. Умер 14 сентября. Похоронен с беспрецедентными почестями 18 ноября в соборе Св. Павла. На похоронах присутствовало около 1.5 млн человек (см. также: Куриев М. М. Герцог Веллингтон. М., 1995).
С. 40. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь Св. Павла, где совершалась церемония. — Из окна наблюдал за процессией похорон Веллингтона К. Н. Посьет, вспоминавший в «Письмах из кругоземного плавания»: «Получив билет за десять шиллингов, я тронулся из дома в половине шестого утра; в восемь часов, после смертельной давки, добился я до своего места, во втором этаже, на одной из скамеек амфитеатра, устроенного в квартире портного. В половине двенадцатого показалась процессия. Она тянулась мимо наших окон до половины второго. О ее великолепии вы имеете понятие из иностранных иллюстраций; но трудно представить себе необыкновенное стечение народа, наполнявшее улицы, назначенные для процессии. Все этажи, крыши, карнизы между окнами и амфитеатры, устроенные во всех домах и на всех перекрестках, — все было набито народом. За лучшие места платили по нескольку гиней, и каждое место на пути процессии было обращено в деньги. Английские газеты описали эту церемонию как нечто небывалое; а особенность процессии, растянутой на целых три часа, состояла собственно в трех колесницах: одной, служившей дрогами, и двух для шерифа и для мэра города. Первая на шести колесах, вся литая из чугуна, весила, кажется, до 600 пудов и была украшена большими позолоченными и посеребренными щитами с гербами покойного герцога. Вторые две колесницы были очень похожи на наши большие тарантасы, у которых колеса на сажень от кузова. Обе бронзированные и кругом в стеклах, они представляли, с своими напудренными кучерами и лакеями, нечто странное, напоминая театральную колесницу. <...> Но действительно замечательна была многочисленность толпы; полагают, что в этот день стеклось в Лондон до 5 миллионов людей. С какой дерзостью полиция обращается с этим свободным народом, можно было удостовериться при настоящем случае. Здешние кавалергарды, заступившие роль жандармов, находясь вплоть к толпе и, так сказать, упираясь в нее, заставляли лошадей делать курбеты задом в народ, которому некуда было деваться; страшно было за жалких! Как, по указу парламента, все мастерские и фабрики были закрыты, то в массе были налицо все классы английского народа — прекрасный случай для наблюдательного путешественника! Тут бы вы удостоверились, что счастливая Англия, так называемая по скопленным в ней сокровищам и еще более по ее номинальным капиталам, благоденствует только по
- 553 -
наружности, в верхних слоях своего компактного населения; нижние слои и бо́льшая часть средних тощи, бледны, желты, нечесаны и грязны...» (Посьет ОЗ. № 3. С. 3—4). В собор Св. Павла «пробрались» И. А. Шестаков и И. С. Унковский; мемуары Шестакова дополняют описание: «В назначенный день Лондон опустел с восьми часов утра. Все население разместилось на пути процессии в Pall-Mall, Странд и Флит-стрит. От герцогского дома в Гайд-парке до собора Св. Павла были устроены места на миллион с лишком зрителей; все без исключения были заняты и, кроме того, крыши зданий усеяны любопытными. Мы с Унковским проехали беспрепятственно пустыми боковыми улицами к самому собору и благодаря мундирам тотчас же вошли внутрь. Несмотря на тесноту площадки у собора и на несметность толпы, полицейские распоряжения, всегда в Лондоне удачные, потому что преисполнены смысла, устранили всякое замешательство. Достойно удивления, что при случае, скучившем все лондонское население в нескольких тесных улицах, только один человек лишился жизни; и тот споткнулся с крыши, слишком загоревавши о Веллингтоне.
Громадный склеп Св. Павла — иначе нельзя назвать храма, украшенного исключительно надгробными памятниками, — был одет черным сукном до самого купола и обнесен скамьями, расположенными амфитеатром. С одной из них, у самого центра, смотрели мы на последнее торжество соперника Наполеона. Участвовавшие в процессии входили попарно, по мере выхода из экипажей, так что устройство церемониала внутри храма потребовало немало времени. В ожидании начала князь Горчаков (М. Ф. Горчаков, глава российской делегации. — Ред.) спокойно глазел на двадцать тысяч собравшихся зрителей, положивши, по свойственной ему рассеянности, русский жезл на гробницу, привлекавшую всеобщее внимание. Служба состояла из пения псалмов, и когда хор пропел: «и они погребли его, и царь возрыдал и весь народ с ним» — принц Альберт пролил горячие слезы; но публика <...> не выказала особенной чувствительности. <...> Заиграли похоронный марш Генделя. Унылые звуки, казалось, навели страх смерти на присутствовавшие тысячи; все оцепенели, замерли, и при общем безмолвии великолепный гроб с герцогскою короною стал медленно спускаться в недра земли помощью нарочно устроенного механизма. Скрылся изукрашенный саркофаг, принесенный в дар смерти людским тщеславием, но от отошедшего героя оставалось еще что-то суетное, и могила не закрывалась, ожидая своего достояния. Четверть часа своды громадного собора оглашались титулами усопшего; наконец церемониймейстер ордена Подвязки, раздробивши маршальский жезл, низринул его с гордою шляпою в ненасытную пропасть. Для Веллингтона все земное кончилось» (Шестаков, л. 99—100).
С. 41. ...пошел вслед за другими в Британский музеум... — Британский музей — один из крупнейших в мире; основан в 1753 г. Знаменит собраниями редких книг, рукописей, монет, произведений первобытного, древнего и средневекового искусства, гравюр, рисунков, керамики. В 1847 г. в «Современнике» сообщалось: «Теперь Британский музеум помешается на большой Россельской улице в здании обширном и удобном, но наводящем уныние своим видом. В нем находятся: 1) библиотека, состоящая из 300 000 печатных томов и 25 000 рукописей; 2) кабинет медалей, папирусов и других
- 554 -
античных вещей; 3) галерея древностей индийских, египетских, греческих, римских и английских; наконец, богатое собрание предметов, принадлежащих к трем царствам природы. Мы уже не говорим о незначительной коллекции произведений новейшей живописи» (С. 1847. Т. 1. № 2. Смесь. С. 139).
С. 41. ...ловлю эти неуловимые звуки языка ~ благословляя судьбу, что когда-то учился ему... — Английский язык, наряду с немецким и французским, Гончаров изучал в Московском коммерческом училище в 1820—1830 гг. Ни до того (см. его аттестат при поступлении в училище — Летопись. С. 14), ни после английскому языку он не учился (см. автобиографию 1868 г.). Из воспоминаний Гончарова «В университете» следует, что в Московском университете в 1831—1834 гг. он посещал лекции по французскому (Ф. Куртенера, затем А. Декампа) и немецкому (Э. Геринга, затем Ф. Кистера) языкам, но курса английского языка и словесности, в эти годы также преподававшегося в университете (лектор — Э. Гарве), не проходил.
С. 42. ...на Вестминстерское аббатство... — Комплекс зданий Вестминстерского аббатства строился с XIII в. Собственно аббатство было упразднено в XVI в. в период Реформации, и данное название с этого времени относилось к монастырской церкви. Здесь с XIII в. происходила коронация английских монархов; тогда же церковь стала их усыпальницей. С XVII в. здесь хоронили выдающихся английских государственных деятелей, литераторов, ученых.
С. 42—43. ...национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. — Национальная галерея была основана в 1824 г. С 1838 г. находилась в западном крыле здания на Трафальгар-сквер (восточное крыло занимала Королевская Академия искусств). Первоначально коллекция галереи состояла из 38 картин. В начале 1850-х гг. здесь насчитывалось около 200 картин, располагавшихся в шести небольших залах. Английский критик Д. Рёскин называл национальную галерею «посмешищем Европы» (подробнее см.: Descriptive Catalogue. P. V—IX; Timbs. P. 548—549). Под «прихожей <...> Эрмитажа» имеется в виду главный вестибюль Императорского музеума (или Нового Эрмитажа) в Петербурге. Здание на Миллионной улице между Малым Эрмитажем и Зимней канавкой было построено в 1851 г. по проекту немецкого архитектора Лео Кленце специально для размещения художественных коллекций императорского двора. Торжественное открытие музея состоялось 5 февраля 1852 г. (см.: Эрмитаж: История строительства и архитектура зданий. Л., 1989. С. 401—428). В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г. Гончаров, рекомендуя им И. И. Бутакова, писал: «У Вас везде знакомые, мой милый Михаиле Алекс<андрович>: не достанете ли Вы Бутакову билета в Эрмитаж? Ему хочется посмотреть».
С. 43. ...«Снятие со креста» Рембрандта... — Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmensz van Rijn; 1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист. В Национальной галерее в это время находился одноименный офорт Рембрандта (см.: Descriptive Catalogue. P. 479). Картина Рембрандта «Снятие с креста» (1633) с 1811 г. хранилась в Старой пинакотеке Мюнхена (см: Katalog der Königlichen Älteren Pinakotek zu München. München, 1904. S. 79). Вторая картина под тем же названием (1634) была приобретена Александром I из собрания императрицы Жозефины в 1814 г. и
- 555 -
сейчас находится в коллекции Государственного Эрмитажа (см.: Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись: Каталог. Л., 1981. С. 164).
С. 43. ...два-три пейзажа Клода. — Речь идет о представителе французского классицизма Клоде Желле (Gellée; 1600—1682), более известном как Лоррен (Lorrain). В 1852 г. в Национальной галерее находилось 10 его полотен, среди которых «Порт на закате» (1644), «Отплытие царицы Савской» (1648), «Пейзаж с фигурами» (1658) и др. (см.: Descriptive Catalogue. P. 223—232). Из-за крайней тесноты (см. выше, с. 554, примеч. к с. 42—43) некоторые из них могли отсутствовать в экспозиции.
С. 43. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образчик воздухоплавания, движения разных машин. — В Лондоне в это время существовали два крупных музея такого рода: Галерея Аделаиды и Королевский Политехнический музей (Royal Polytechnic Institution), основанный в 1838 г. Косвенным подтверждением того, что писатель посетил Политехнический музей, можно считать свидетельство его спутника, К. Н. Посьета, который сообщает, что «присутствовал <...> при весьма замечательном опыте, произведенном в Политехнической школе над управлением аэростатов. К лодочке небольшого шара приделаны были руль и винт; и когда последний, посредством пружины, приведен был в движение, то аэростат, поднявшийся обыкновенным образом, принимал направление в ту или другую сторону, смотря по тому, в какую сторону был положен руль» (Посьет ОЗ. № 3. С. 8). Здание Политехнического музея находилось на Риджент-стрит, 309. Посетители, заплатив шиллинг, могли увидеть огромное количество экспонатов, в частности астрономические часы, модели человеческого глаза и уха, пневматический телеграф, машины для производства кирпича и черепицы, машину для производства гвоздей и т. д. (см.: Altick. P. 382). В ноябре-декабре 1852 г. в Политехническом музее читались лекции по воздухоплаванию и перспективам воздушных полетов с демонстрацией моделей (о них пишет Посьет), лекции по химии и переменному электричеству с демонстрацией гидроэлектрической машины. Здесь же по вечерам можно было увидеть аттракцион под названием «Оптические и музыкальные иллюстрации к „Сну в летнюю ночь” Шекспира» (см.: Illustrated London News. 1852. 13 nov.). Д. А. Милютин характеризовал технические музеи как «заведения <...> чрезвычайно занимательные и существующие только в Лондоне. Трудно сказать одним словом, что такое эти два учреждения <галерея Аделаиды и Политехнический музей>: это обширные галереи, заключающие в себе образцы всего, что только могут производить руки человека: тут машины, произведения ремесла и изящных искусств и модели. Но это не просто выставка: тут же читают лекции в больших залах и показывают космораму, диораму, китайские тени, микроскоп, фантасмагорию и продают пряники, нарядно и играет музыка, и паровые машины приводят все в движение в продолжение целого почти дня. Таким образом, это выставка мануфактурная и художественная, и коллекция технологическая, и натуральный кабинет, и аудитория физики, химии, математики, механики, и место публичного увеселения, и балаган разных шарлатанских представлений, и все что вам угодно <...> вы видите рядом самые разнообразные предметы: точильный станок, паровые машины, литографский
- 556 -
станок, бумагопрядильные машины. Среди главной залы огромный бассейн воды со шлюзами, подъемными мостами, мельницами и всякого рода гидравлическими работами, по воде плавают корабли, пароходы, тут же стоит водолазный колокол. Тут модель железной дороги и паровые машины, водяной насос, там разного рода часы, оптические инструменты, анатомические изображения из воска <...>. Между тем играет оркестр, и вдруг колокольчик, общее молчание — и с хор провозглашается начало такой-то лекции или такого-то представления» (Милютин. С. 207—208). См также Altick. P. 382—389.
С. 43. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. ~ до наших времен — Имеется в виду Большой глобус Уайлда, открытый 29 мая 1851 г. на Лечестер-сквер, недалеко от знаменитого Хрустального дворца — места проведения Всемирной выставки Глобус существовал до 1861 г. Его создатель — Джеймс Уайлд (Wyld, 1812—1887), известный географ и предприниматель, занимавшийся производством и продажей географических карт и глобусов. Предприятие имело не только развлекательно-просветительские, но и рекламные цели: в галерее первого этажа была устроена выставка товаров, производимых предприятием Уайлда. В 1851 г. Большой глобус Уайлда был одним из самых посещаемых лондонских аттракционов. В 1852 г. после закрытия Хрустального дворца, владельцу пришлось для привлечения публики разнообразить выставку здесь читались лекции для эмигрантов с показом морских путей в колонии, описанием климата, особенностей жизни и общественного устройства колоний (см.: Замечательный земной глобус г. Уилда, в Лондоне // ВестнРГО. 1851. Ч. 2, кн. 4 Смесь. С. 41—44, Timbs. P. 455; Altick. P. 464—466, Hyde R. Mr. Wyld’s Monster Globe // History Today. 1979. № 20).
С. 43. ...карты от Марко Паоло до наших времен — Марко Поло (Polo; 1254—1324) — знаменитый венецианский путешественник, первым из европейцев исследовавший внутреннюю Азию.
С. 43. Фланёр (фр. flâneur) — праздношатающийся.
С. 43. ...я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. — Лондонский зоопарк с 1828 г. находился в северо-восточной части Риджентс-парк. В мае 1841 г. путешествовавший по Западной Европе Д. А. Милютин писал о нем: «Этот зверинец я предпочитаю даже парижскому ботаническому саду как относительно собранных здесь пород, так и хорошего содержания животных и систематического их размещения. Каждая порода имеет особое помещение, например, в одном месте находите вы огромную коллекцию обезьян, в другом более сотни различных попугаев, здесь несколько десятков собак, там медведей <...>. Есть много животных очень редких, экзотических: здешний слон больше парижского и в особенности имеет преимущество, что он с клыками. Здесь находите вы прекраснейшую пару — льва и львицу, двух жирафов <...> большого орангутанга, который удивил меня своею смышленостью. Он уже спал, и его разбудили, чтоб нам показать. С сонными глазами сидел он перед нами, и когда сторож сказал ему теперь можешь идти спать, — он опрометью побежал, взял свое одеяло, накинул его на плечи, лег и завернулся, совершенно как человек. По утрам он пьет кофий из чашки с сухарями» (Милютин. С. 206).
- 557 -
С. 44. ...всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он «царь творения» — и все это за шиллинг. — Обычное в тексте книги снижение «высокого» образа бытовым контекстом. Ср.: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1: 26).
С. 45. Что касается до национальных английских кушаньев ~ я говорю о пломпудинге. — Известно следующее описание пломпудинга (англ. plum pudding): «Плум-пудинг, род пирога из муки или хлебного мякиша, бычачьего мозга, масла, коринки и пр. сваренный в воде и обыкновенно приправленный потом мадерою или ромом, любимое блюдо англичан» (Настольный словарь для справок по всем отраслям знания: В 3-х т. / Под ред. В. Р. Зотова и Ф. Толля СПб., 1864. Т. 3. С. 122).
С. 46. Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например высиживание цыплят пара́ми... — Демонстрация инкубаторов была популярным лондонским зрелищем с 1824 г. Гончаров мог посетить выставку на Лечестер-сквер, организованную в 1851 г. неким Кантело (Cantelo), на которой был представлен гидроинкубатор. Посетителям действительно необходимо было обладать немалым терпением, потому что пары из инкубационного аппарата распространялись по всему помещению. Гидроинкубатор Кантело был не только зрелищным, но и коммерческим предприятием: желающие могли купить вылупившихся цыплят или заказать такой же инкубатор. Здесь же Гончаров мог прослушать лекцию по весьма популярной в то время науке — эмбриологии (подробнее см.: Altick. P. 352).
С. 46. ...неотпираемые американские замки; см. также
с. 47—48: Американский замок ~ Хитро, не правда ли? — До 1851 г. самыми надежными в Англии считались замки англичан Брама и Чабба, запатентованные в 1784 и 1818 гг. Замок Брама не могли вскрыть более 50 лет, несмотря на обещанную премию. В 1851 г. во время Всемирной выставки американский инженер Альфред Хоббс смог подобрать отмычки к замкам самых известных английских фирм Брама, Чабба и Котерилла. Замок, изобретенный самим Хоббсом, вскрыть не удалось. Однако замок Хоббса вряд ли был очень распространен: «Ценность этого замка непомерна: на наши деньги более трехсот рублей серебром» (Общезанимательный вестн. 1857. № 2. С. 70). Гончаров мог иметь в виду и замок нью-йоркской фирмы «Day and Newell», который также экспонировался на выставке 1851 г., причем не было зафиксировано ни одной успешной попытки вскрыть его. Устройство, сконструированное американским инженером Робертом Невеллом, имело двойной запирающий механизм, защитную пластину, которая препятствовала исследованию внутренности замка, и сменные бородки ключей. С. 47. Вчера появилась панорама Ватерлоо... — Битва при Ватерлоо (1815) — популярный сюжет панорам в первой половине XIX в. «Битва при Ватерлоо» — одна из первых панорам начала века, повторно открылась в дни похорон Веллингтона 17 ноября 1852 г. Демонстрировалась до 12 марта 1853 г. (см.: Altick. P. 479).
С. 47. ...британского Агамемнона... — Агамемнон — в греческой мифологии царь Микен, предводитель греческого войска во время
- 558 -
Троянской войны, покоритель Трои, центральный образ «Илиады» Гомера.
С. 47. Пятиалтынный — серебряная монета достоинством в 15 коп.
С. 48. ...там до двух миллионов жителей... — В 1851 г. в «малом Лондоне» проживало 2 363 341 человек, в «большом Лондоне» (включая пригороды) — 2 685 048.
С. 48. ...все рассчитано, взвешено и оценено... — Перифраз выражения «Mene, thekel, fares» («Исчислено, взвешено, разделено» — халд.), восходящего к библейскому рассказу (Дан. 5: 25—28), см. также наст. изд., т. 1. с. 779.
С. 48. ...как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. — Подать с окон была впервые введена в Англии в 1697 г.; отменена 24 июля 1851 г. Пошлиной «с колесных шин» Гончаров, возможно, называет подать с повозок и экипажей (см.: Финансы Великобритании: Подати и сборы; Налоги и пошлины, Администрация; Платежи; Контроль; Английский банк // БдЧ. 1843. Т. 56. Отд. III. С. 14).
С. 48. ...и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый — Бритт. — Михаил Александрович Языков (1811—1885), приятель Гончарова, близкий кругу «Современника», постоянный адресат гончаровских писем из плавания. Языков имел в обществе репутацию острослова. Его сокурсник по Благородному пансиону И. И. Панаев сообщал, что уже в 1837 г. «Языков <...> пользовался <...> большою известностью между <...> литераторами <...> как приятный и веселый собеседник, остряк и каламбурист» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950. С. 103); К. Д. Кавелин, описывая ближайший круг знакомых и карточных партнеров Белинского в 1842—1843 гг., характеризует Языкова следующим образом: «остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками» (Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 266); А. В. Никитенко сообщает о том, что Языков всегда был «полон юмора» (Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Л., 1955. Т. 2. С. 28). О «языковских каламбурах» Гончаров упоминает в письме к И. И. Льховскому от 15 (27) июля 1857 г. и в письме к самому Языкову от 20 августа (1 сентября) 1853 г.
С. 49. Вы, Николай Аполлонович... — Николай Аполлонович Майков (1794—1873) — близкий приятель Гончарова, художник; в 1835 г. был удостоен звания академика за роспись церкви Св. Троицы в Измайловском полку. С семьей Н. А. и Евг. П. Майковых Гончаров познакомился в 1835 г. в качестве учителя их сыновей — Аполлона и Валериана. Н. А. и Евг. П. Майковы — постоянные адресаты гончаровских писем из плавания. См. также ниже, с. 701, примеч. к с. 492. Подробнее см.: Гайнцева Э. Г. Николай Аполлонович Майков и его воспоминания // РЛ.1997. № 1. С. 123—149.
С. 49. ...как будто «в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина. — У Пушкина: «Как будто в гробе, тьмы людей / Молчат» («Полтава», 1828—1829).
С. 51. Законы против воров многи и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовою школой мошенничества, и воров там числится несколько десятков тысяч... — В начале царствования королевы Виктории,
- 559 -
взошедшей на престол в 1837 г., воровство могло караться смертью. В 1849 г. в Англии и Уэльсе было зарегистрировано около 27 000 преступлений, из них — почти 22 000 случаев воровства (см.: The British Almanac of the Society for diffusion of useful knowledge. London, 1851. P. 164). Количество воров в Лондоне было традиционно выше, нежели в других европейских столицах. Так, по сведениям Леона Фоше, в 1842 г. в Лондоне было отмечено почти в четыре раза больше случаев воровства (13 380), чем в Париже (3390) (см.: Фоше Л. Очерки Англии. СПб., 1862. С. 76). О лондонском воровстве писали многие русские путешественники; ср.: «Нигде так явно не терпимы воры, как в Лондоне, здесь имеют они свои клубы, свои таверны» (Карамзин. С. 562); «от уважения англичан к законам отечества и к правам ближнего господствует у них возможное благочиние. Но притом нигде нет столько плутов и мошенников!» (Греч. С. 42); «воровство, всех родов мошенничества, обманы и всякого рода плутни находятся в Англии, преимущественно в Лондоне, в своем истинном отечестве» (Паулович К. П. Замечания о Лондоне: Отрывки из путешествия по Европе, части Азии и Африки Харьков, 1846. С. 193).
С. 51. ...нигде нет такого количества контрабандистов. — О большом количестве контрабандистов, снующих между берегами Франции, Англии и Голландии, упоминает и К. Н. Посьет в «Письмах с кругоземного плавания» (см.: Посьет ОЗ. № 3. С. 2).
С. 52. Фидий (Pheidias) — древнегреческий скульптор (V в до н. э.). Статуя Зевса Олимпийского его работы считалась одним из семи чудес света.
С. 52. Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист, возрождавший античные традиции.
С. 52. Вы можете упрекнуть меня, что ~ я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно — не хочется, а наблюсти их глубже и пристальнее — не было времени. И где было наблюдать их? — Ср. письмо к М. А. и Е. А. Языковым от 3—4 (15—16) ноября 1852 г.: «Мне бросилось в глаза и в вагоне, и на станциях, и на улицах множество хорошеньких женщин. Это, кажется, царство их».
С. 53. ...женщины в Англии — единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь и, если и бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби, то не более, как в других местах. — Имеется в виду брак мистера Домби и Эдит Грейнджер, представленный как торговая сделка в романе Чарльза Диккенса (Dickens, 1812—1870) «Домби и сын» (1848; рус. пер. под загл. «Домби и сын» — ОЗ. 1847. Т. 54—55; 1848. Т. 56, 59; под загл. «Торговый дом под фирмою Домби и сын» — С. 1847. Т. 4; 1848. Т. 7—10). Гончаров спорит, разумеется, не с Диккенсом, а с расхожими представлениями русской бульварной литературы. Ср.: «Любовь у англичанина то же, что биржевая спекуляция, — это дело, а не мечта» (Булгарин Ф. В. Лев и шакал // Булгарин Ф. В. Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого. С. 89).
С. 53. ...после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. — Имеется в виду эпизод из поэмы «Мертвые души»: Копейкин «пообедал <...> в „Лондоне”, приказал себе подать котлетку с каперсами, пулярку с разными финтерлеями, спросил бутылку
- 560 -
вина, ввечеру отправился в театр, — одним словом, кутнул во всю лопатку, так сказать. На тротуаре видит: идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгралась, побежал было за ней на своей деревяшке: трюх-трюх следом, да нет, подумал, на время к черту волокитство, пусть после, когда получу пенсион» (Гоголь. Т. VI. С. 584 (цензурная редакция)).
С. 53. В театрах видел я благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты ~ все — декольте, в белых мантильях... — Это обстоятельство удивляло и других русских путешественников: «странно видеть, что в партере все во фраках, в белых галстуках, одетые совершенно как для бала, в партере также и дамы, одетые по-бальному, осыпанные брильянтами. Иначе как во фраке вовсе и не впускают в партер» (Милютин. С. 200).
С. 53. ...показывали диораму восхождения на Монблан... — Диорама — декорация больших размеров, как правило изображавшая пейзаж. Картина для диорамы рисовалась на тонком полотне и подсвечивалась с обеих сторон. Эффект правдоподобия достигался переменным освещением с помощью цветных стекол, установленных на крыше павильона. Применялось и звуковое сопровождение. Диорама была изобретена Ж.-Л. Дагером и впервые построена в Париже в 1822 г.; в Петербурге впервые демонстрировалась в 1851 г. Диорама «Восхождение на Монблан», созданная Альбертом Смитом и открытая 15 марта 1852 г. в Египетском дворце на Пикадилли, 170, — одно из самых знаменитых и успешных предприятий такого рода. С незначительными изменениями диорама просуществовала до 6 июля 1858 г. Гончаров, вероятно, видел представление в свой второй приезд в Лондон (см. выше, с. 550, примеч. к с. 39), в декабре, так как с 11 сентября до 29 ноября 1852 г. диорама была закрыта для обновления интерьера. Зрительный зал после обновления представлял собой имитацию сельского швейцарского домика (шале), через зашторенное окно которого видны были детали пейзажа. Во время представления стена раздвигалась. На авансцене были сооружены небольшой водопад и озеро, в котором плавали живые рыбы. Балконы в зрительном зале были украшены вьющимися растениями, шкурами животных, ранцами, корзинами. Стены помещения были увешаны флагами швейцарских кантонов и пестрели нравоучительными девизами, вроде: «Speak little Truth say. Want little. Cash pay». В начале представления из двери импровизированного домика на сцене появлялся Смит и поднимался на небольшое возвышение. Он рассказывал анекдоты, подражал известным лицам, играл на музыкальных инструментах, пел, отпускал беззлобные остроты. В первом акте на заднике демонстрировались неподвижные картины с видами дорожных пейзажей от Женевы до Шамони; после антракта вертикальным перемещением картины изображалось собственно восхождение (см.: Illustrated London News. 1852. 3 July; Altick. P. 475—478). Диорама Смита упоминалась и в русских периодических изданиях (см.: С. 1853. № 2. Отд. VI. С. 294—295).
С. 57. ...для него выдумали слово «покладно́й».— Т. е. сговорчивый.
С. 60. ...можно в pendant к вопросу о том, «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники» — поставить вопрос: «удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились
- 561 -
удобства?» — Первый вопрос был поставлен в статье президента Петербургской Академии наук С. С. Уварова «Подвигается ли вперед историческая достоверность?»: «Конечно, источники истории, со времени открытия книгопечатания, размножились до бесконечности, критика сделалась настойчива и искусна, факты записываются тщательно до мелочей, но надежнее ли оттого их достоверность? Это положение вещей благоприятнее ли для розыскания истины?» (С. 1851. № 1. С. 123). Вопрос о достоверности истории со ссылкой на Уварова Гончаров ставит также в статье «Нарушение воли».
С. 60—61. ...машинку, которая сама делает выкладки... — Возможно, имеется в виду калькулятор Чарльза Бэбиджа (Babbage; 1792—1871), изобретенный этим известным математиком и механиком в 1813 г. Существовали и другие подобные механизмы: в 1849 г. на заседании Парижской Академии наук была представлена более совершенная арифметическая машина — плод десятилетнего труда французских ученых Мореля и Жайе. Машина представляла собой небольшой ящик (около 36 см длины, 13 — ширины и 8 — высоты). Числа от 1 до 9 были изображены на клавишах и металлических дисках. «Новый инструмент требует, чтобы вы написали, посредством маленьких дощечек или металлических клавишей с цифрами <...> первое число, которое надо прибавить; вы заставляете его явиться в галерее или в окнах посредством рукоятки, пробегающей дугу круга, потом вы пишете второе число на тех же металлических масштабах, и новым движением рукоятки <...> сумма является на галерее» (ОЗ. 1849. Т. 64. Отд. VIII. С. 150). Машина Мореля и Жайе считалась «началом полного преобразования в искусстве численных вычислений» (Там же. С. 151).
С. 61. ...высиженного паром цыпленка... — См. выше, с. 557, примеч. к с. 46.
С. 61. ...снимает с себя машинкой сапоги... — Приспособление для снятия сапог («bootjack») было известно с 1841 г. Упоминается также в «Обломове» (см. наст. изд., т. 4, с. 491).
С. 64. Обед гомерический, ужин такой же. — Упоминание Гомера как певца пиров имело длительную поэтическую традицию от Вольтера до Пушкина. Подробнее об этом см.: Лернер Н. О. Пушкинологические этюды // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. М., Л., 1935. Т. 5. С. 73—74.
С. 67. ...я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее! — О связи будущей книги-путешествия и романа «Обломов», работа над которым была прервана с началом экспедиции, см. выше, с. 467—468.
С. 67. ...не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды... — Об изменении маршрута плавания см.: Отчет. С. 143; Всеподданнейший отчет. С. 164.
С. 67. ...Зондский пролив... — Имеется в виду пролив между островами Суматра и Ява в Индонезии, соединяющий Яванское море с Индийским океаном.
С. 68. ...Эддистонский маяк... — Речь идет о самом знаменитом английском маяке, построенном в 1696 г. на отдельно стоящей скале и дважды перестраивавшемся. Современные Гончарову фарологи обращали внимание на безупречную архитектуру и прочность этого
- 562 -
сооружения: «Эддистонский маяк <...> будто прирос к скале или вырос из нее» (Жизнь на маяках // МСб. 1860. № 11. С. 369); см. также: Описание Кордуанского и Эддистонского маяков, составленное Р. К. Скаловским. СПб., 1835; Диккенс. Постоянные и плавучие маяки // МСб. 1853. № 8. С. 147—148.
II
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА
С. 69. С 6 по 18 января 1853. — 6 (18) января 1853 г. «Паллада» снялась с якоря в Портсмуте и 18 (30) января прибыла на острова Мадейра, где находилась в течение 12 часов (см.: Обзор. Т. 1. С. 26; Отчет. С. 143—144; Всеподданнейший отчет. С. 163).
С. 69. Я из Англии писал вам, как мы плавали по каналу... — См. письмо к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г. с рассказом о пятидневном плавании по Английскому каналу.
С. 70—71. ...от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим» ~ «Могуч, мрачен — гм! посмотрим»... — Гончаров обыгрывает главным образом обращенные к Наполеону строки стихотворения «К морю» (1824). У Пушкина: «Как ты, могущ, глубок и мрачен. / Как ты, ничем неукротим».
С. 78. Шпиц (нем. Spitze) — шпиль.
С. 80—81. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц ~ и двух лет сряду никогда не жил на берегу. — О «морских» романах Ф. Купера см. выше, с. 541, примеч. к с. 8.
С. 83. Париж возбуждал общий интерес. ~ Людовик-Наполеон только что взошел на престол. Англия одна еще признала его — Улеглись ли партии? сумел ли он поддержать порядок, который восстановил? — Шарль-Луи-Бонапарт (1808—1873), племянник Наполеона I, объявивший себя в 1836 г. наследником французского престола и до революции 1848 г. живший в изгнании, был избран президентом Франции 10 декабря 1848 г. После государственного переворота 2 декабря 1851 г., уничтожившего Законодательное собрание, провозглашен 2 декабря 1852 г. императором Наполеоном III (низложен Сентябрьской революцией 1870 г.). О реставрации монархии во Франции подробно писали газеты (см., например, о подготовке к коронации и о самих торжествах — СПбВед. 1852. 26—30 нояб. № 266—269). Признание Второй империи Англией состоялось 6 декабря (вслед за признанием ее 4 декабря Неаполитанским королевством), Испанией — 13 декабря, Голландией — 15 декабря, Россией, Австрией и Пруссией — 11 января 1853 г. (подробнее о дипломатии Николая I см.: Кухарский П. Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны / Под ред. и с предисл. Е. В. Тарле. Л., 1941. С. 22—61). В оппозиции к новому режиму оставались как легитимисты (сторонники Орлеанской ветви и ветви Бурбонов), так и республиканцы, от либералов до социалистов. Мысль Гончарова о «восстановлении порядка» фактически повторяет официальную точку зрения на события во Франции. На те же события совершенно иначе реагировал, к примеру, Герцен, писавший в «Письмах из Франции и Италии» (1847—1852) об уничтожении во имя порядка «всех свобод и всех прав»: «Говорят, что победил порядок. Нет идеи беднее, жалче, слабее, как идея
- 563 -
порядка quand même, порядка в смысле полицейской тишины» (Герцен. Т. V. С. 215).
С. 83. «А вот Испания с своей цветущей Андалузией... — «Цветущей Андалузии» посвящены письма II—IV «Писем об Испании В. П. Боткина (см. ниже).
С. 83. Севилья, caballeros с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. — Реминисценция севильских картин в «Письмах об Испании» В. П. Боткина (письма II—III). Вместе с тем Гончаров обыгрывает и севильские мотивы стихотворения «Я здесь, Инезилья...» (1830); ср. у Пушкина: «С гитарой и шпагой / Я здесь под окном» (см. также ниже, с. 719, примеч. к с. 536). Caballeros (исп.) — кавалеры, рыцари. Ср. у Боткина: «Но испанец прежде всего caballero. <...> Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него пословица: „Король может делать дворянами, один Бог делает кавалерами”» (Боткин. С. 30).
С. 83. Dahin бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин...; см. также
с. 627: Dahin! Dahin! — «Dahin, dahin...» — рефрен в песне Миньоны из романа И.-В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796; кн. III, гл. 1), утвердившийся в русской поэзии как «традиционная формула романтического томления» (Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 112). Стихотворение пользовалось в Росси исключительной популярностью: известны переводы и вариации В. А. Жуковского («Мина», 1818), Пушкина («Желание», 1821), В. К. Кюхельбекера («Ницца», 1821), А. К. Толстого («Ты знаешь край, где все обильем дышит...», 1840-е гг.), Ф. И. Тютчева («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...», 1851), Л. А. Мея («Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут...», 1851), В. Г. Бенедиктова («Dahin», между 1850 и 1856), А. Н. Майкова («Ах, есть земля, где померанец зреет...», 1866) и др. Василий Петрович Боткин (1811—1869) — очеркист, критик и переводчик, знакомый Гончарова; путешествовал по Испании в августе — октябре 1845 г., опубликовал цикл очерков «Письма об Испании» (полн. изд. — СПб., 1857; впервые — в «Современнике» в 1847—1851 гг., в том числе «Гранада и Альамбра. Октябрь» — С. 1851. № 1. Отд. II. С. 73—120). Эстет и гурман, Боткин культивировал в жизни и творчестве духовное и чувственное наслаждение. Обращаясь к автору «Писем об Испании» Белинский замечал: «Жаль только, что уничтожение монастырей и истребление монахов у тебя являются как-то вскользь, а об андалузках и обожании тела подробно. <...> Но и это я читал не без удовольствия, ибо в каждом слове видел перед собой лысую, чувственную, грешную фигуру моего старого и развратного друга Боткина» (письмо от 2—6 декабря 1847 г.; Белинский. Т. IX. С. 701). Об «эпикуреизме» в испанских письмах см. также: Звигильский А. Я. Творческая история «Писем об Испании» // Боткин. С. 299—300. С. 84. ...чую еще север смущенной душой... — Гончаров перефразирует вторую строку пушкинского двустишия «На перевод Илиады» (1830): «Старца великого тень чую смущенной душой».
С. 85. Cogito ergo sum... — Изречение французского философа-рационалиста Рене Декарта (1596—1650) из его трактата «Первоначала философии» (1644; ч. 1, § 7).
- 564 -
С. 86. Город Фунчал... — Фуншал (Funchal) — главный город островов Мадейра (Португалия).
С. 87. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лиссабоне. — «Паллада» провела в Лиссабоне три зимних месяца 1849—1850 гг., покинув порт 4 (16) февраля 1850 г. (см.: А. Е. Фрегат «Паллада» и английская эскадра в реке Таго, 1849—1850 года // МСб. 1850. № 10. С. 341—350); в формуляре фрегата сведений об этом нет (см.: Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872. С. 107).
С. 87. «В другое время, nur nicht heute», — думал я согласно с известным немецким двустишием;
см. также с. 372: ...morgen, morgen, nur nicht heute... — Слова из стихотворения «Отсрочка» немецкого поэта и автора популярных рассказов для детей Христиана Феликса Вейсе (1726—1804), начинающегося строками «Morgen, morgen. Nur nicht heute! / Sagen alle faulen Leute» («Завтра, завтра, не сегодня! / Все ленивцы говорят» — нем.), которые вошли в поговорку. Стихотворение бытовало также в качестве детской песенки. В переводе Б. М. Федорова оно включалось во многие школьные хрестоматии. С. 87. ...русский чиновник ~ Это консул; см. также
с. 89: Консул, родом португалец ~ Ему лет за 50. — Речь, по-видимому, идет об исправлявшем должность вице-консула в Фуншале негоцианте Леандро Лорико (см.: Адрес-календарь. 1854. СПб., [1853]. Ч. 1. Разд. II. С. 140). В России, как и в других европейских странах, существовали так называемые нештатные консулы, не состоявшие на действительной службе и занимавшиеся торговлей. С. 87. ...в белых спенсерах...; см. также
с. 195: ...кисейные спенсеры... — Спенсер (спенсер, шпензель) (англ. spenser) — короткая облегающая куртка, названная по имени знаменитого денди лорда Спенсера. Мужчины носили спенсер недолго (в 1799—1804 гг.), позднее он остался лишь в женском гардеробе (см.: Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX в.: (Опыт энциклопедии). М., 1995. С. 259). С. 87. ...эпохи Людовиков XIV и XV... — Людовик XIV (1638—1715) — король Франции с 1643 г. («король-солнце»); Людовик XV (1710—1774) — с 1715 г.
С. 89. Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист, — неправда... — Гончаров имеет в виду Жюля Себастьяна Сезара Дюмон-Дюрвиля, писавшего: «мы вступили в Фунчал, город, по своему устройству совершенно португальский неправильный, бедный, узкий, запутанный, неопрятный. <...> Потоки вод, стремящиеся с гор, освежали бы город, если б жители его не превращали их в ямы для бросания в них всяких нечистот из домов» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 28—29).
С. 89. Оссиановской, сырой и туманной, погоды здесь не бывает. — Оссиан — легендарный шотландский бард (III в.), чье имя приобрело известность благодаря мистификации английского поэта Джеймса Макферсона (1736—1796), выдавшего за оригинальные произведения свои обработки кельтских преданий. Опубликованные им «Отрывки старинных стихотворений» (1760), эпические поэмы «Фингал» (1762), «Темора» (1763), а затем «Творения Оссиана» (1765) и «Поэмы Оссиана» (1773) имели сенсационный успех в Европе и стали классическими образцами литературы предромантизма. Общему скорбно-меланхолическому тону поэм соответствовал суровый
- 565 -
пейзаж, явившийся «поэтическим открытием, ранее неведомым в литературе. Перед читателем высятся окутанные облаками угрюмые горы и холмы <...> бурный ветер проносится над бесплодными равнинами <...> и гонит клубы тумана, поднятые с топких болот и озер» (Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе: Конец XVIII — первая треть XIX века. Л., 1980. С. 14).
С. 93. ...средневековый фаустрехт... — Фаустрехт (нем Faustrecht) — кулачное право, самоуправство.
С. 93. ...тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например... — Намек на английскую торговлю опиумом в Китае.
С. 95. ...здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. — Речь идет о Марии II да Глориа (1819—1853), королеве Португалии (с 1833 г), сестре императора Бразилии (1831—1889) Педру II (1825—1891), дочери бразильского императора (1822—1831) Педру I (1798—1834).
С. 95. ...блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский — Гончаров имеет в виду скончавшегося 20 октября (2 ноября) 1852 г. герцога Максимилиана-Евгения-Иосифа-Августа-Наполеона Лейхтенбергского (род. 1817), пасынка Наполеона, супруга (с 1839 г. с титулом «высочество») великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I. Автор исследований в области электротехники, химии и минералогии, герцог Максимилиан был почетным членом Академии наук (с 1840 г.), президентом Академии художеств (с 1843 г.), главнозаведуюшим Горного института (с 1844 г.). Лечился на Мадейре в 1849 г. (одновременно с К. П. Брюлловым, создавшим там портрет герцога, см.: Зильберштейн И. С. Парижские находки: Эпоха Пушкина. М., 1993. С. 256—258).
С. 96. ...пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из «Фенеллы»: такая же толпа мужчин и женщин ~ все это покупает и продает. — Речь идет об опере Д. Обера (1782—1871) «Немая из Портичи» (1828; либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня); в Петербурге с 1834 г. шла на сцене Немецкой оперы под названием «Фенелла» и, по свидетельству современника, была «счастливой оперой», имела «успех почти беспримерный в летописях нашего театра» (Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 1. С. 48, 58). Картина 2 действия III «Фенеллы» представляет рыночную площадь в Неаполе.
С. 99. Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры... — См. письмо к Языковым и Майковым от 18 (30) января 1853 г.
III
ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ
С. 100. (Письмо к В. Г. Бенедиктову). — Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873) — поэт, имевший в середине 1830-х гг. сенсационный успех, переводчик; преуспевающий чиновник Министерства финансов (1832—1858). Был дружен с Гончаровым с 1836 г. связанный с ним как по службе, так и общим знакомством с семьей Майковых и деятельным сотрудничеством в «Подснежнике» и «Лунных ночах» (см. наст. изд., т. 1, с. 616, 626—627, 809). Об эстетических принципах Гончарова, формулируемых в настоящей
- 566 -
главе в диалоге с Бенедиктовым, см. выше, с. 491—495. Оценка творчества и личности Бенедиктова содержится в гончаровских мемуарных «Заметках о личности Белинского» (1873—1874): «Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объясняя обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях, — указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего». См. также ниже, с. 568, примеч. к с. 115.
С. 100. В поэтическом и дружеском напутствовании ~ в полном собрании стихотворений Бенедиктова. — Послание «И. А. Гончарову. (Перед кругосветным его путешествием)», с датой: «Сентябрь — начало октября 1852 г.», было впервые опубликовано в издании: Стихотворения В. Бенедиктова. СПб., 1856. Т. 3. С. 143—144.
С. 100. ...обогнуть земной шар. — Стихотворение Бенедиктова начиналось строфой:
И оснащен, и замыслами полный,
Уже готов фрегат твой растолкнуть
Седых морей дымящиеся волны
И шар земной теченьем обогнуть.(Бенедиктов. С. 284).
С. 100. ...«слышен сердечный голос», как предсказали вы? — У Бенедиктова:
То не роняй отрады помышленья,
Что и вдали сердечный слышен глас,
Что не одни лишь узы тяготенья
Всемирного соединяют нас.(Там же. С. 285).
С. 100—101. Я из Англии писал вам ~ предпочитаем скучать и быть скучными. — Письмо Гончарова из Англии, адресованное Бенедиктову, неизвестно. Ср. аналогичные рассуждения в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым из Портсмута от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.
С. 101. ...по Реомюру... — Т. е. по температурной шкале (80° от точки таяния льда до точки кипения воды), предложенной в 1730 г. французским естествоиспытателем Р.-А. Реомюром (Réaumur; 1683—1757). Ср. предложенную в 1742 г. шкалу Цельсия (100°); 1° R = 5/4 °С.
С. 101. Реперовы таблицы (от фр. repère — ориентир) — таблицы для навигационных расчетов.
С. 103. ...а „ночной зефир струил эфир” прямо на меня». — Цитата из стихотворения Пушкина «Ночной зефир...» (1824): «Ночной зефир / Струит эфир».
С. 103. ...песчаный косогор... — Пушкинская реминисценция; ср. в «Отрывках из Путешествия Онегина» (1830): «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор...».
С. 103. ...с торцовой мостовой Невского проспекта... — Торцовая мостовая — т. е. мощенная торцом, шести- или восьмигранным деревянным брусом.
С. 103. ...чрез Аничкова Полицейский мосты... — Аничков — мост через р. Фонтанку на Невском пр., названный по имени его строителя (1715), военного инженера М. О. Аничкова; позднее перестраивался,
- 567 -
в современном виде — с начала 1840-х гг. Полицейский — мост через р. Мойку на Невском пр., построенный по проекту В. И. Гесте в 1806—1808 гг. на месте деревянного моста; название «Полицейский» — с 1768 г. (рядом располагалось управление городской полиции); ныне — Народный.
С. 104. Чекуши — «угол Васильевского острова по Большой Неве, против устий Фонтанки, застроенный ныне разными заводами и фабриками, получил название от токмачей, или чекуш, которыми разбивали подмоченную наводнением муку, хранившуюся в бывших на этом месте провиантских магазинах» (Греч А. Весь Петербург в кармане. СПб., 1851 С. 576).
С. 104. ...и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров. — Речь идет об обычных местах гуляний столичных жителей. В Петергофе, на южном берегу Финского залива, находится дворцово-пар-ковый ансамбль XVIII—XIX вв. с комплексом фонтанов и каскадов. Мурино — «деревня, принадлежащая князю М. С. Воронцову, на берегу Большой Охты, с церковью и прекрасным господским домом. Здесь бьет ключ минеральной воды. В деревне живут летом многие любители сельских прогулок» (Греч А. Весь Петербург в кармане. С. 375). Крестовский — один из островов в дельте Невы (в середине прошлого века принадлежал князьям Белосельским-Белозерским), «обширный, по большей части поросший сосновым лесом <...>. По северному берегу простирается чухонская деревня, состоящая ныне из дач и вмещающая в себя трактир, при котором, по воскресным дням, играет музыка и происходят эквилибрические представления. С восточной стороны <...> находится публичный парк с павильонами, палатками, трактиром и т. д., служащий любимым местом прогулки жителей Петербургской стороны. <...> В рощах острова рассеяно большое количество красивых дач. На нем дозволяется курение табаку» (Там же. С. 320—321).
С. 106. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки... — Неоднократно цитируемое ниже двухтомное описание тихоокеанской экспедиции английского морского офицера Эдварда Белчера (Belcher; 1799—1877) содержит рекомендации о выборе курса вдоль побережья Африки; см: Belcher. Vol. 1. P. 7—8.
С. 106. ...отправляющиеся в Японию же, к эскадре коммодора Перри. — Американская эскадра коммодора (так в Америке, Англии и Голландии именовался флотский офицер, командующий соединением кораблей; звание удерживалось только во время крейсерства) Мэтью Колбрайта Перри (Perry; 1794—1859), имевшая обширные планы экспансии на Дальнем Востоке, вышла из Норфолка в июне 1852 г. и прибыла в Японию 26 июня (8 июля) 1853 г. (подробнее см. ниже, с. 647—648, примеч. к с. 367). Как сообщала русская пресса, «цель этой военной экспедиции та, чтобы войти в постоянные сношения с этим таинственным государством и основаться на берегах его, подобно англичанам в Китае» (МСб. 1852. № 3. Ч. IV. С. 340); см. также: Североамериканская экспедиция в Японию; Еще об американской экспедиции в Японию (Там же. № 4. Ч. IV. С. 417—420; № 5. Ч. IV. С. 519—521); Экспедиция коммодора Перри в Японию (Там же. 1854. № 7. Ч. IV. С. 393—397). Перри вынудил японское правительство подписать договор, открывавший для американских
- 568 -
судов порты Хакодате и Симода (Канагавский договор от 19 (31) марта 1854 г.). Об экспедиции см.: Perry; Griffis W. E. Matthew Calbraith Perry: A Typical American Naval Officer. Boston, 1887; Barrows E. M. The Great Commodore, the Exploit of Matthew Calbraith Perry. Indianapolis, 1935; Walworth; Wiley P. B. Yankees in the Land of the Gods. New York, 1990. и др.
С. 107. ...сказки об окаменелом царстве; см. также
с. 500: ...все окаменело, точно в волшебной сказке... — Один из устойчивых сказочных мотивов в творчестве Гончарова. С. 109. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху — знак владычества Португалии над группой островов. — Имеется в виду падран (португ. padrão) — каменный столб с высеченным на нем португальским королевским гербом, который португальские мореплаватели устанавливали на новооткрытых территориях как символ «ввода во владение» (см. об этом: Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. М., 1950. С. 77). Острова Зеленого Мыса были открыты португальскими экспедициями в 1455—1462 гг.
С. 112. ...во что они играли? В свои козыри! — Свои козыри — одна из несложных карточных игр, в которой еще до сдачи карт каждый называет козырную масть по выбору.
С. 112. ...не хотел уступить ей в галантерейном обращении... — Перефразировка слов Осипа в «Ревизоре» Н. В. Гоголя (д. II, явл. 1): «Галантерейное, черт возьми, обхождение!»
С. 113. Штили, а не бури — ужас для парусных судов ~ заглянул в Араго и ужаснулся... — Жак Этьен Виктор Араго (Arago, 1790—1855) — французский путешественник, драматург, журналист, в 1835 г. ослепший; автор книг «Promenade autour du monde pendant les années 1817—1820» (Paris, 1822. Т. 1—2) и «Voyage autour du monde» (Paris, 1843. Т. 1—2); последняя переведена на русский язык: Араго Ж. Воспоминания слепого: Путешествие вокруг света / Пер П. А. Корсакова и др. СПб., 1844—1845. Т. 1—2. Имея в виду главу «На море Штиль», Гончаров иронизирует над ультраромантизмом Араго; ср. его описание штиля: «тяжелый парус ниспадает, тягчит реи, напрасно мучимые, и походит на гробовой саван, наброшенный на труп. <...> Из всех феноменов, которые море представляет неустрашимым людям, отважившимся плавать по океану, штиль, без сомнения, самый ужасный, самый грозный, самый опасный, самый гибельный <...>. <...> Нет ничего убийственнее ожидания и спокойствия» (Указ. Соч. Т. 2. С. 19—20).
С. 115. Пересеки и тропик, и экватор ~ предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич... — Строки из стихотворения «И. А. Гончарову. (Перед кругосветным его путешествием)» (см.: Бенедиктов. С. 285). В. Г. Бенедиктов в это время занимал пост директора от Правления в Экспедиции государственных кредитных билетов Министерства финансов с чином действительного статского советника, т. e. чином 4-го класса по Табели о рангах (соответствовал армейскому чину генерала), отсюда и гончаровское обращение «ваше превосходительство».
С. 115. На шкуне «Восток», купленной в Англии и ушедшей вместе с нами... — Подробный рассказ о покупке в Англии шхуны «Восток» см.: Римский-Корсаков. С. 41—42; Всеподданнейший отчет. С. 162.
- 569 -
С. 115. ...топот трепака... — Цитата из «Отрывков из Путешествия Онегина» (1830).У Пушкина: «Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака».
С. 116. ...одетый в прюнелевые ботинки... — Т. e. ботинки из прюнели (фр. prunelle) — плотной хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани, обычно черного цвета.
С. 116. Магеллановы облака (Большое и Малое) — две звездные системы в виде туманных пятен, хорошо видные в Южном полушарии.
С. 116. Угольные мешки — беззвездные пятна на фоне Млечного Пути.
С. 116. Вы любите вопрошать у самой природы о ее тайнах ~ глазами и поэта, и ученого... — Обладая незаурядными математическими способностями, Бенедиктов занимался высшей математикой и астрономией.
С. 118. ...прочел морской устав Петра Великого. — Составленный Петром I «Устав морской. О всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море» был принят в 1719 г.; неоднократно публиковался как в XVIII в., так и позднее. Зачитываться мог раздел I Устава «Общие обязанности чинов флота» (другие разделы носят более специальный характер), включавший 11 параграфов, как например: «Все чины российского императорского флота обязаны знать относящиеся до них морские узаконения и, служа государю императору по долгу совести и присяги, исполнять в точности как сии узаконения, так и все предписания начальства» (§ 1); «Все чины флота, во всякое время и при всех обстоятельствах, должны вести себя так, чтоб поддерживать честь русского имени и достоинство русского флага» (§ 6) и др. (см.: Морской устав. СПб., 1853. С. 1—7).
С. 119. ...мотивы Верди и Беллини разносились по океану. — Т. е. мотивы пользовавшихся в России огромной популярностью опер Джузеппе Верди (Verdi; 1813—1901) и Винченцо Беллини (Bellini; 1801—1835). Имеются в виду, скорее всего, входившие в моду в 1840-х гг, исполнявшиеся только итальянской труппой оперы Верди «Набукко» («Навуходоносор», 1841; в Петербурге под названием «Нино» — с 1851 г.); «Ломбардцы» (1842; петербургская премьера — 1845); «Жанна д’Арк» (1845; петербургская премьера — 1850); «Эрнани» (1844; петербургская премьера — 1846). Знаменитого «Риголетто» (1851; петербургская премьера в Большом театре — 31 января 1853 г.; см.: СПбВед. 1853. 31 янв. № 25) Гончаров, отправившийся в плавание 7 (19) октября 1852 г., слышать не мог. В 1840—1850-е гг. в постоянный репертуар петербургских театров входили романтические оперы Беллини «Сомнамбула» (1831; на русской сцене под названием «Невеста-лунатик» — с 1837 г.); «Норма» (1831; в Петербурге исполнялась немецкой труппой с 1834 г., русской — с 1837 г., итальянской — с 1844 г.); «Пуритане» (1835; на русской сцене — с 1840 г.). См. также ниже, с. 778—779, примеч. к с. 705.
С. 120. ...стадо бонитов... — Речь идет о разновидности тунцов, достигающих до 3 м в длину.
С. 124. Берите же, любезный друг, свою лиру ~ а я винюсь в своем бессилии и умолкаю! — Через год после первого появления в печати главы «Плавание в атлантических тропиках» (РВ. 1857. № 5)
- 570 -
Бенедиктов, совершивший летнее путешествие в Швейцарию, отозвался на «призыв» Гончарова новым стихотворным посланием — «И. А. Гончарову» (см.: Бенедиктов. С. 464—466; впервые: ОЗ. 1858. № 10. С. 639—640).
IV
НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
С. 125. С 10 марта по 12 апреля 1853. — «Паллада» прибыла на Кап 10 (22) марта и снялась с якоря 12 (24) апреля 1853 г. Шхуна «Восток» прибыла туда же 15 (27) марта и ушла за день до «Паллады» (см.: Всеподданнейший отчет. С. 167, 169—170; Обзор. Т. 1. С. 49, 51); ср. другие даты прибытия в Саймонсбей фрегата и шхуны — 12 (24) и 19 (31) марта (Обзор. Т. 1. С. 28; Отчет. С. 145—146).
С. 126. ...скала Hangklip. — Хангклип (от гол. hang — висячий и klip — скала) — мыс в восточной части залива Фолсбей; у Гончарова ошибочно: Hanglip.
С. 127. Саймонстоун (Simonstown) — английское название города на восточном побережье мыса Доброй Надежды; современное название Симонстад (Simonstad) восходит к голландскому.
С. 127. Столовая гора — одна из достопримечательностей мыса Доброй Надежды (высота 1082 м). В очерке «Столовая гора на мысе Доброй Надежды» отмечалось: «Кто только хоть мимоходом писал о мысе Доброй Надежды, тот уже счел долгом звания своего говорить вам о Столовой горе. Эта гора уже всем надоела...» (БдЧ. 1838. № 11. Отд. VII. С. 28).
С. 127. ...каменья, которые почему-то называются Римскими... — По мнению Д. Варли, Римская скала (Roman Rock) при входе в залив Саймонсбей, на которой в 1851 г. был установлен маяк, свое название могла получить от красной Римской рыбы (Chrysoblephus laticeps), изобилующей в здешних водах (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 51); ср. ту же этимологию у Левайана (Левайан. Ч. 1. С. 22, 96—97).
С. 127. ...о «Ноев ковчег» ~ камень у входа в залив... — Как сообщалось в указанном выше очерке в «Библиотеке для чтения», «между здешними жителями есть предание, что тут останавливался Ноев ковчег, когда вода стала сбывать» (БдЧ. 1838. № 11. Отд. VII. С. 29); о библейском Ноевом ковчеге см.: Быт. 6, 7, 8.
С. 127. ...начальник эскадры, коммодор Тальбот. — Из прибывшей на мыс Доброй Надежды в связи с очередной «кафрской войной» (о ней см. ниже, с. 573, примеч. к с. 137) английской эскадры «стояли здесь фрегат, бриг и пароход в 200 сил» (Посьет МСб. С. 239). Коммодор (см. выше, с. 558,
примеч. к с. 106) Чарльз Толбот (Talbot; 1801—1876) командовал военной эскадрой на Капе в 1852—1854 гг., позднее принимал участие в осаде Севастополя и захвате Керчи; с 1866 г. — адмирал (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 52); о нем см. также: Римский-Корсаков. С. 68. Коммодор «много содействовал приготовлению судов (русской эскадры) к дальнейшему плаванию и снабжению их каменным углем и другими предметами продовольствия» (Всеподданнейший отчет. С. 167—168). С. 127. ...немножко виноградных трельяжей... — Трельяжи — здесь: решетки (опоры) для виноградных лоз.
- 571 -
С. 127. ...некоторые уехали в Капштат... — Капштад (Kaapstad) — голландское название главного города Капской колонии (на западном побережье мыса Доброй Надежды), местопребывание губернатора, английского епископа, официальных учреждений; ныне — Кейптаун. Об упоминаемой Гончаровым поездке адмирала Е. В. Путятина и К. Н. Посьета в Капштад см.: Посьет ОЗ. № 3. с. 20—21.
С. 128. ...что на пристани к ним подошел старик ц чисто по-русски сказал ~ «Из Орловской губернии». — Ф. Алексеев, один из младших офицеров на транспорте «Двина» (о «Двине» см. ниже, с. 588 примеч. к с. 235), в своем «Путевом журнале» оставил запись об этом старике: «Он уроженец Орловской губернии. 18 лет взят в солдаты находился в русском полку. В 1807 году в войне с французами был взят в плен, там сделан солдатом; в войне с англичанами попал к ним в плен и был сделан английским солдатом; из Англии прислан в Африку, был в войне против кафров, выслужив лета уволен в отставку; женился на негритянке и имеет 10 человек детей. Он говорит еще по-русски» (цит. по: Мельник В. И. Незабываемая «Паллада» // Дальний Восток. 1984. № 8. С. 134; автором статьи ошибочно указано, что «Двина» сопровождала «Палладу» в плавании).
С. 129. ...африканцев, как называют себя белые, родившиеся в Африке. — Гончаров, видимо, дает собственный Перевод наименования «африканеры» (англ. africaners), общеупотребительного с XVIII в. по настоящее время для потомков голландских колонистов в Африке (реже «африканды» или «африкандеры»),
С. 130. «Финго! ~ Мозамбик ~ готтентот ~ «Бечуан! Кафр!» — Финго — племя, близкое готтентотам; негры мозамбик попадали на Кап в качестве рабов из португальских колоний на восточном побережье Африки начиная со второй половины XVII в.; готтентоты — голландское название нескольких древнейших Южноафриканских племен (язык готтентотский; самоназвание — кой-коин, в транскрипции прошлого века — куайкуе, кванкви, квекве), населявших значительные территории до начала европейской колонизации и оттесненных в результате ее на северо-запад; бечуаны (или чуана, или тсвана — самоназвание) — племя земледельцев и скотоводов, занимавшее территории к северу от Капской колонии (см. многолетние наблюдения над обычаями этого племени английского миссионера Д. Ливингстона: Путешествие д-ра Давида Ливингстона во внутренней Африке. С описанием замечательных открытий в Южной Африке, совершенных с 1840 по 1856 год / Пер. с нем. СПб. 1862 С. 142—160); кафры (от араб. кафир — неверный) — наименование, данное голландскими колонистами племенам юго-восточной Африки коса, зулу, тембо и ряду других (языковая группа банту); в середине прошлого века применялось ко всем темнокожим племенам восточной части Южной Африки, отличающимся как от готтентотов и бушменов (на западе и северо-западе), так и от собственно негров банту (на севере). См., например: Туземцы Южной Африки // Живописное обозрение. 1839. Ч. 5. С. 82—85, 300—302; Ср. также: Вышеславцев. С. 61—84.
С. 131. ...как зовут дерево? «Бокс» ~ «Из Англии»... Речь идет о буксе (англ. boxtree, лат. buxus) — самшите, растущем в Юго-Восточной Азии и Африке. Его отполированная древесина по цвету и блеску напоминает слоновую кость, высоко ценится.
- 572 -
С. 132. ...констанцского вина, произведения знаменитой Констанцской горы; см. также
с. 134: ...знаменитая по своему вину Констанцская гора. — Местечко Констанция на восточном склоне Столовой (а не Констанцской) горы близ Капштада с начала XVIII в. было одним из центров виноградарства и виноделия в Южной Африке, в прошлом — ферма губернатора Капа Симона ван дер Стела (о нем см. ниже, с. 583, примеч. к с. 185), с чьим именем связывают начало виноделия в колонии. Капские вина (в том числе «Констанция», белое и красное) экспортировались в Европу. Ср.: «Констанцское вино, первое после токайского, получается из лоз (рислинговых), привезенных сюда голландцами с Рейна. Констанцское вино двух сортов, белое и красное, из них последнее слаще на вкус, чем белое. Это вино ценится весьма дорого даже на месте, не говоря уже о Европе <...>. <...> Капский портвейн, или понтак, как его здесь называют, несравненно лучше английского портвейна самого высокого сорта это нектар, а не вино! Мадера капская также хороша» (Блок. С. 76—77). Констанцские виноградники, местная достопримечательность, упоминаются всеми без исключения путешественниками по Южной Африке. С. 132. ...везде увидишь охоту за тиграми ~ барс схватил зубами охотника за ногу; см. также
с. 148: ...на охоту за львами и тиграми? ~ тигры и шакалы водятся до сих пор везде...; с. 200: ...как тигр таскал из-за загородки лошадей; с. 209: Но здешние тигры мелки, с большую собаку» — По предположению Д. Варли, Гончаров мог иметь в виду леопардов, поскольку тигров в Африке нет (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 72). Судя по всему, автор «Фрегата „Паллада”» следовал характерному для местных жителей обычаю называть леопардов (барсов) тиграми, ср. финал рассказа об охоте на «ужасного тигра» у Левайана: «Я приметил в нем все признаки барса, столь прекрасно описанного у г-на Бюффона. Однако ж во всей колонии называют его вообще тигром. Обычай сей пересилил, несмотря на то что в этой части Африки не видно ни одного собственно так называемого тигра, и притом великая разница находится между двумя сими животными Готтентоты называют его Гаругама, то есть львом с пятнами» (Левайан. Ч. 1. С. 75—76). Ср. упоминание о тиграх на Капе: Головнин. «Диана». С. 197; Араго Ж. Воспоминания слепого: Путешествие вокруг света / Пер. П. А. Корсакова и др. СПб., 1844. Т. 1. С. 89, 94; Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 78; Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах // ОЗ. 1844. № 3. Отд. II. С. 22, 23 и др. Ср. также у К. Н. Посьета: «Я купил кожу барса, совершенно целого, с головой и хвостом <...>. <...> Надобно вам сказать, что во всех горах <...> скрывается большое число барсов, гиен, или диких собак, как их здесь называют» (Посьет ОЗ. № 3. С. 25). С. 133. Мы собрались всемером ~ чтоб сделать поездку подальше в колонию. — О поездке внутрь колонии см. также в письме Гончарова к семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г. Подробный рассказ о восьмидневной «ученой экспедиции» протяженностью в 220 верст содержится в «Письмах с кругоземного плавания» К. Н. Посьета. «Наняв два штульвагена с зонтами, каждый в четыре лошади, цугом, с платою по 5 ф. ст. в сутки, мы отправились в путешествие 19 марта», — сообщал он (Посьет ОЗ. № 3. С. 22; ср. также с. 24—25, № 4. С. 116—117; Посьет МСб. С. 239—241). Об экспедиции см.
- 573 -
также: Обзор. Т. 1. С. 28—29; Отчет. С. 146; Всеподданнейший отчет. С. 168.
С. 133. ...24 английских мили, или 36 верст. — Английская миля равняется 1.6 км.
С. 136. ...присущи у меня в памяти или в желудке... — Слово «присущи» употреблено в его исконном значении, т. е. присутствия, наличности (см.: Даль. Т. 3. С. 449).
С. 136. ...как сильфида, неслышными шагами идет по лестнице... — См. наст. изд., т. 1, с. 768.
С. 137. ...учатся обыкновенно войска, но их теперь нет: они еще воюют с кафрами. — Когда фрегат «Паллада» прибыл на мыс Доброй Надежды, подходила к концу 8-я «кафрская война» (декабрь 1850 — март 1853 г.), о ней см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 61; 500 Years. P. 183—184, 195—196. О «кафрских войнах» подробнее см. ниже, с. 581, примеч. к с. 164.
С. 138. ...вертелся телеграф, разговаривая с судами. — Имеется в виду оптический телеграф, передающий световые сигналы.
С. 139. ...это стол накрывался скатертью ~ Беда, когда лев накинет чепчик! — «Юго-восточный пассат производит на Столовой горе замечательное явление, известное под именем „скатерть”. Крутые бока горы заставляют приносимый ветром и насыщенный парами воздух подниматься вверх, где воздух охлаждается, отчего пары его образуют беловато-серые облака, стелящиеся над всей плоской вершиною горы» (Путешествие д-ра Давида Ливингстона во внутренней Африке. С. 68). Ср. использование характерной «местной» фразеологии при описании этого явления у других авторов: «Англичане, когда облако покроет Столовую гору, выражаются, что „черту стол накрывают”. И так вошло это в обыкновение, что даже в книгах капштадскую бо́ру называют не иначе как table cloth, т. е. скатерть. Когда же голландцы владели мысом, то у них говорилось <...> что „черт парик надел и на бал собирается”. Оба выражения довольно живописные» (Римский-Корсаков. С. 80); «Подле самой Столовой горы есть другая высокая гора, называемая Дьявольскою горою, а потому, когда первую из них перед бурей облако станет покрывать, то английские матросы говорят, что на стол черту накрывают, а голландская примета — что он в гости собирается и это ему парик приготовляют. Вот что называется „всякий молодец на свой образец”: англичанам нравится сытный обед, а голландцам хорошо причесанный парик» (Головнин. «Диана». С. 196—197) Об обычае говорить: «стол накрыт скатертью, а Чертова гора париком» — см. также: Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах. С. 12, 13). Ср., кроме того: Левайан. Ч. 1. С. 25; Араго Ж Воспоминания слепого: Путешествие вокруг света. Т. 1. С. 81. Во всех случаях примета связана с горами Столовой и Чертовой, а не Львиной, как, вероятно, ошибочно у Гончарова. Заимствованием у Гончарова является, скорее всего, следующий пассаж у А. В. Вышеславцева: «Многие приметы дают знать на мысе о неблагоприятной погоде; так, например, если на стол накрыта скатерть, если лев наденет чепец и т. п., то будет свежо, то есть если Столовая или Львиная гора покроются туманом» (Вышеславцев. С. 95).
С. 139. ...крытые аспидом... — Т. e. плиткой из черного сланца, аспидной.
- 574 -
С. 140. Но остатки голландского владычества редки. — О периоде «голландского владычества» в истории Капской колонии см. ниже, с. 579, примеч. к с. 159.
С. 141. ...издающихся здесь двух газет... — По сведениям «Капского альманаха» за 1853 г. (о нем см. ниже, с. 575, примеч. к с. 146), в Капштаде издавалось 7 газет «The South African Commercial Advertiser» (3 раза в неделю), «Саре Town Mail», «Cape Monitor», «Exchange Gazette» (2 раза в неделю), «Cape of Good Hope Gazette», «Government Gazette» (еженедельник) и голландская газета «De Zuid-Afnkaan» (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 65).
С. 141. ...племя бушменов малочисленно, они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-голландски буш)... — Бушмены (англ. bushman от гол Bósjesman: bos — лес и man — человек) — одно из светлокожих южноафриканских кочующих племен, фактически истребленное колонистами, ср.: «Боссиман есть слово голландское, означающее Лесных людей» (Левайан. Ч. 2. С. 402). Гончаров связывает название с англ. bush (куст).
С. 141. Один из новых писателей о Капской колонии, Торнли Смит (Thornley Smith), находит у бушменов сходство с Плиниевыми троглодитами... — Гончаров ссылается на сочинение Торнли Смита «South Africa delineated» (London, 1850), повествующее главным образом о судьбе племени бушменов (о сходстве бушменов с троглодитами см. р. 137). Троглодиты (древнегреч. troglodyti — пещерные люди) — общее в древности название первобытных народов побережья Красного моря, Центральной Африки, Аравии, Кавказа. О троглодитах речь идет в 37-томном энциклопедическом трактате «Естественная история» Плиния Старшего (23 или 24—79), также в «Географии» Птолемея (о ней см. выше, с. 548, примеч. к с. 37), 17-томной «Географии» Страбона и у других авторов античности. Ср. характеристику бушменов у Дюмон-Дюрвиля: «чудовище человеческого рода неопределенный, блуждающий и дикий взгляд, смешанные, безобразные и вялые черты лица, сухое, как скелет, тело, желтый и землянистый цвет кожи — вот отличительные черты мужчин. Женщины еще страшнее и отвратительнее» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 79).
С. 142. ...служащий в Ост-Индии военный доктор Whetherhead. — Имеется в виду Томас Алман Уэдеред (Wethered; у Гончарова фамилия указана неточно), автор двух работ по медицине (изданы на французском языке в Монпелье в 1836 г. и в Париже в 1837 г.), в 1852—1862 гг. был главным военным хирургом в Капштаде, числился служащим в Ост-Индии (см. QBul. Vol. 15. № 2. P. 66, 74, со ссылкой на «India Office Lists»). Об Ост-Индии см. выше, с. 543, примеч. к с. 12.
С. 143. Шримсы (англ. shrimps) — креветки.
С. 143. ...делал гримасу, как будто говорил по-английски... — Ср. ироническую реплику в «Мертвых душах» (часть первая, глава 8) о «читателях высшего общества», которые «по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над ним, кто не сумеет сделать птичьей физиономии» (Гоголь. Т. VI. С. 164).
С. 145. ...о ужас, сальных свеч! — Восковые свечи производились в колонии из растущего здесь воскового дерева, но не были в широком обиходе, сальные же свечи традиционно изготовлялись из
- 575 -
овечьего сала и, по замечанию Д. Варли, «пахли соответственно» (QBul. Vol. 15. № 2. P. 68).
С. 146. ...в контору нашего банкира; см. также
с. 153: ...с помощию взятых им у банкиров Томсона и К° рекомендательных писем... — Речь идет о торговом доме «Thompson, Watson & С°», основанном Джоном Томпсоном (Thompson; 1787—1880) в партнерстве с Гаррисоном Ватсоном (Watson; 1798—1869), который в 1850-х гг. финансировал многочисленные научные экспедиции, горные разработки, судостроение, строительство дорог на Капе и проч. (см.: Rosenthal. P. 377, 409; QBul. Vol. 15. № 2. P. 72). Банкир Томпсон (о нем см. также: Посьет ОЗ. № 3. С. 21) не только снабдил «экспедицию» рекомендательными письмами, но, по словам Гончарова, «сыскал нам экипаж, проводника и даже распределил порядок дней, станций и предметов, которые нужно осмотреть» (письмо к семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г.). С. 146. ...много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры — В 1853 г. в Капштаде, помимо газет и иных официальных изданий, выходило еще до 30-ти изданий самого разного толка (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 70).
С. 146. ...купил некоторые изданные здесь сочинения собственно о Капской колонии. — Гончаров приобрел в Капштаде справочник: The Cape of Good Hope Almanach and Annual Register for 1853 / Compiled from the most authentic sources by B. J. Van De Sandt-de Villier. Cape Town, 1852. Альманах с немногочисленными пометами и владельческой записью «Капштат, мыс Д<оброй> Надежды, апрель 1853 Гончар<ов>» — сохранился в библиотеке писателя (см.: Библиотека. С. 109), из него почерпнуты статистические данные о состоянии колонии. В Капштаде Гончаров также приобрел описание экспедиции в северо-восточную Африку немецкого врача и путешественника Фердинанда Берне: Werne F. African Wanderings, or an Expedition from Sennaar to Taka, Basa and Bem-Amei, with a particular Glance at the Races of Bellad Sudan / Transl. from German by J. R. Johnston. London, 1852. Vol. 1—2 (см.: Там же. С. 118—119; здесь ошибочно указано, что книги не разрезаны). Возможно, Гончаров имел в виду и другие изданные в Капской колонии сочинения. Это прежде всего записки, принадлежавшие перу английского натуралиста Эндрю Смита (Smith; 1797—1872) и пользовавшиеся популярностью: Smith A. Report of the Expedition for Exploring Central Africa from the Cape of Good Hope. Cape Town, 1836 (ср. статью Экспедиция д-ра Смита в Южную Африку // БдЧ. 1837. № 4. Отд. VII. С. 1—5; кроме того: Andrew Smith’s Journal of his Expedition into the Interior of South Africa, 1834—1836 / Ed. by W. F. Lye. Cape Town, 1975); а также: Sutherland J. Memoir respecting the Kaffers, Hottentots and Bosjemans of South Africa Kapstadt, 1845—1846. Vol. 1—2; Arbousset T., Daumas F. Narrative of an Exploratory Tour to the North-East of the Colony of the Cape of Good Hope. Cape Town, 1846 и др. Из капских изданий ниже в тексте упоминается только сочинение Дж. Садерленда (наст. т., с. 154).
С. 146. Жителей в Каппштате от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч. — По данным «Синей книги Капа» («Cape Blue Book») за 1853 г. население колонии составляло 224 827 человек (из них около 85 000 белых), население Капштада — 23 749 человек, белых и цветных (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 70).
- 576 -
С. 148. ...на охоту за львами и тиграми? ~ тигры и шакалы водятся до сих пор везде... — См. выше, с. 572, примеч. к с. 132.
С. 148. «Вандик», — рекомендовался он. — Эверт Йоханнес ван Дик, по сведениям «Капского альманаха» за 1853 г., был кучером уорчестерского омнибуса (см.: QBul. Vol. 15. № 2. P. 72).
С. 148. ...потомок знаменитого живописца... — Речь идет о фламандском живописце Антонисе Ван Дейке (van Dyck, van Dijk; 1599—1641); в русской транскрипции прошлого века — Ван Дик.
С. 153. Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о мысе и у других: описание песков, зноя, сражений со львами, о фермерах... — Имеется в виду французский путешественник и натуралист Франсуа Левайан (Levaillant; 1753—1824), автор сочинений «Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, par le Cap de Bonne Espérance, dans les années 1780—1783» (1790) и «Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique dans les années 1783—1784» (1796. Vol. 1—2), многократно переизданных и переведенных на основные европейские языки. См. русские издания: Левайан; Второе путешествие Вальяна во внутренность Африки чрез мыс Доброй Надежды. СПб., 1824—1825. Т. 1—3; образцовыми считались также труды Левайана по орнитологии. Под «другими» Гончаров мог подразумевать Жака Араго (о нем см. выше, с. 568, примеч. к с. 113), а именно главу его путевых записок «Мыс Доброй Надежды. — Львиная охота. — Подробности» (Араго Ж. Воспоминания слепого: Путешествие вокруг света. Т. 1. С. 85—95), а также Карла Петера Тунберга (см. ниже, с. 591, примеч. к с. 246), чье «Путешествие...» в значительной своей части (главы 2—7) посвящено Капской колонии.
С. 153. ...Гершель здесь делал ~ наблюдения над луной и двойными звездами ~ его обсерватория была устроена в местечке Винберг ~ а эта принадлежит правительству. — Английский астроном и физик, лектор и популяризатор астрономии Джон Гершель (Herschel; 1792—1871), сын знаменитого астронома Вильяма Гершеля, в 1834—1838 гг. находился с экспедицией на мысе Доброй Надежды, работая в обсерватории в местечке Фельдхаузен (Feldhausen), провинция Клермон (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 83; Rosenthal. P. 166). Результатом его южноафриканской экспедиции явился труд «Results of astronomical Observations made at the Cape of Good Hope» (1847; см. рецензию: Плоды астрономических наблюдений сэра Джона Гершеля на мысе Доброй Надежды // БдЧ. 1848. № 3. Отд. VII. С. 1—7). Открытие систем двойных и сложных звезд (т. е. звезд, обращающихся по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс), одно из величайших в астрономии, принадлежит Вильяму Гершелю, составившему их описание и каталог. Исследованием двойных звезд, туманностей, звездных скоплений занимался также и Гершель-сын (ср. упоминание двойных звезд и Гершеля в «Обломове» — часть вторая, гл. IX). Близ Капштада Гончаров видел основанную в 1827 г. Королевскую обсерваторию (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 83); ср.: «В трех милях от города, по правую сторону дороги, в долине, капская обсерватория, главная и почти единственная во всем Южном полушарии» (Посьет ОЗ. № 3. С. 20).
С. 154. Я не помню, чтоб в нашей литературе являлись в последнее время какие-нибудь сведения об этом крае... — См., например: Кап // Живописное обозрение. 1838. Ч. 4. С. 58—59; Поездка на мыс Доброй Надежды // СО. 1848. Кн. 4. Отд. VII. С. 30—36;
- 577 -
Очерки мыса Доброй Надежды // С. 1852. № 3. Отд. VI. С. 1—17; Колония мыса Доброй Надежды // ОЗ. 1852. № 5. Отд. VII. С. 25—34 и др.
С. 154. Сочинения Содерлендов, Барро, Смитов, Чезов и многих, многих других о Капе образуют целую литературу... — О сочинениях Дж. Садерленда и Торнли Смита см. выше, с. 575, примеч. к с. 146 и с. 574, примеч. к с. 141. Кроме них Гончаровым упомянуты следующие издания: Barrow J. An Account of Travels into the Interior of Southern Africa, in the Years 1797 and 1798. London, 1801—1804. Vol. 1—2 (автор книги, путешественник и географ Джон Барроу (1764—1848), состоял в 1797—1801 гг. секретарем первого британского губернатора Капской колонии, благодаря чему «имел все способы в своих руках извлекать самые верные материалы из колониальных архивов и получать из других источников нужные и обстоятельные сведения для своего сочинения» (Головнин. «Диана». С. 152); позднее основатель английского Королевского географического общества (1830) и его вице-президент); Chase J. C. The Cape of Good Hope and the Eastern Province of Algoobay. London, 1843.
С. 156. Даже в Восточной Индии, где цивилизация до сих пор встречает почти неодолимое сопротивление в духе каст... — Речь идет об Индии (или Ост-Индии — см. выше, с. 543, примеч. к с. 12), где сословно-кастовая система сохранялась до середины XX в.
С. 157. ...недавно наемники, а прежде рабы. ~ в 1834 году они освобождены от рабства...; см. также
с. 432: ...правительство, которое участвует в святом союзе против торга неграми!; с. 677—678: ...те же люди, которые в одном углу мира подали голоса к уничтожению торговли черными... — В 1807 г. в английских колониях была запрещена работорговля, в 1820-х гг. введен ряд правовых норм в отношении рабов, в 1833 г. британский парламент принял закон, полностью отменявший рабовладение. Согласно ему, все рабы должны были быть освобождены за семь лет, начиная с августа 1834 г., причем рабовладельцам выплачивалась компенсация в размере 20 млн фунтов стерлингов. В декабре 1841 г. Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия заключили Лондонскую конвенцию, согласно которой торговля неграми была признана равносильной разбою и грабежу на море, а уличенные в ней преступники приговаривались к смертной казни. С. 157. ...африканские малайцы распространились будто бы, по словам новейших изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Надежды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. — См. об этом: Gegenwart. S. 513. Говоря о нерешенности «важного этнографического вопроса», Гончаров, возможно, имеет в виду научные труды Вильгельма Гумбольдта, в частности вводную главу «Места обитания и культурные отношения малайских племен» его труда «Ueber die Verschiedenheit des menschlichen sprachbaues und ihren Einfluss auf die gestige Entwicklung des Menschengeschlechts» (1835; опубликован в Берлине в 1836 г. и включен в издание: Humboldt W. von. Gesammelte Werke. Berlin, 1848. Bd. 6. S. 1—425; на рус. яз. в пер. П. С. Билярского: Гумбольдт Б. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода // ЖМНП. 1858. № 1, 6, 8, 12; 1859. № 3, 5, 7; отд. изд.: СПб., 1859). Однако в русских изданиях труда
- 578 -
Гумбольдта отсутствует вводная глава, в которой освещается вопрос миграции малайских (по происхождению — островных) племен; ср.: Гумбольдт В. фон. Места обитания и культурные отношения малайских племен // Гумбольдт В. фон. Избр. труды по языкознанию. М., 1984. С. 37—46. Упоминание имени В. Гумбольдта в связи с исследованием проблем миграции малайцев см. также: Вышеславцев. С. 389—390, где представлен и тип капского малайца (Там же. С. 61—62).
С. 157. Недавно только отведена для усмиренных кафров целая область, под именем Британской Кафрарии; см также с. 171: ...присоединил к английским владениям под названием Британской Кафрарии. — В 1847 г. при губернаторе Г. Смите (о нем см. ниже, с. 582, примеч. к с. 169) территория в 200 кв. км с населением в 56 200 жителей (племена коса и тембу) была превращена в английскую резервацию Британская Кафрария с формальным правлением племенных вождей, но под жестким контролем английских магистратов (см.: 500 Years. P. 195—196).
С. 158. ...в которое она поставлена англичанами с 1809 года ~ насильственное занятие колонии англичанами... — Вероятно, имелся в виду 1806 г., когда власть над колонией перешла к Англии (см. ниже, с. 580, примеч. к с. 161).
С. 158. ...из прекрасной немецкой статьи «Das Cap der Guten Hoffnung» ~ энциклопедического описания новейшей истории. — Восьмитомная энциклопедия «Die Gegenwart Erne encyclopädische Darstellung der neuesten Zeitgeschichte für alle Stände», на которую ссылается Гончаров, издавалась в Лейпциге в 1848—1856 гг., анонимная статья «Мыс Доброй Надежды» помещена в т. 4, вышедшем в 1850 г. (S. 507—554). Дальнейшее изложение истории колонии представляет собой сокращенный вольный пересказ статьи (в ряде случаев дословный перевод) со значительными авторскими вставками.
С. 158. Мыс Доброй Надежды открыт был ~ в 1493 году, португальцем Диазом (Diaz), который назвал его мысом Бурь ~ португальский король Иоанн II ~ дал мысу Бурь нынешнее его название. — Время открытия мыса Доброй Надежды в энциклопедической статье (см.: Gegenwart. S. 531) указано ошибочно Португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш (Diaz de Novaes, ок. 1450—1500), возглавивший экспедицию для открытия пути в Индию, впервые достиг южной оконечности Африки в 1486 г. (по другим данным, в 1487 г), назвав, согласно распространенной в прошлом веке версии, открытый им мыс мысом Бурь (Cabo de los Tormientos); последнее в новейших исследованиях ставится под сомнение, ср.: «легенда о том, что он <Диаш> назвал его „мысом Бурь” и что полный спокойной уверенности король <Иоанн II; 1481—1495> повелел переименовать его в мыс Доброй Надежды, покоится лишь на не заслуживающем большого доверия сообщении Барроша» (Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. М., 1950. С. 77—78; ср. также: 500 Years. P. 8; Горнунг М. Б., Липец Ю. Г., Олейников И. Н. История открытия и исследования Африки. М., 1973. С. 64—65, Баррош (Барруш; Barros) — португальский историк времен великих открытий).
С. 158. ...посещали мыс, в 1497 году, Васко де Гама... — Васко да Гама (о нем см. выше, с. 543, примеч. к с. 12) обогнул мыс Доброй
- 579 -
Надежды 20 ноября 1497 г., впервые совершая плавание из Европы в Индию вокруг Африки.
С. 158. ...бразильский вице-король Франциска де Альмейда ~ умертвили самого вице-короля и около 70 человек португальцев. — Речь идет о Франсишку д’Алмейда (d’Almeida, ок. 1450—1510), португальском адмирале, участнике нескольких завоевательных походов, назначенном за военные заслуги вице-королем (1505—1509) Ост-Индии, а не Бразилии, как ошибочно указано в источнике, на который опирался Гончаров (ср.: Gegenwart. S. 531). Был на Капе в 1505 г. по пути в Индию, 1 марта 1510 г. при возвращении из Индии в Португалию в Столовой бухте у мыса Доброй Надежды д’Алмейда и 74 члена его экипажа были убиты туземцами (Ibid.).
С. 159. ...голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибека, заняла Столовую бухту. В 1652 году голландцы заложили там крепость, и таким образом возник Капштат. — Ян ван Рибик (van Riebeeck, 1619—1695), судовой врач в Батавии (с 1639 г.), затем негоциант голландской Ост-Индской компании (основанная в 1602 г. компания в XVII — первой половине XVIII в. действовала как влиятельная торговая и политическая организация, как государство в государстве, ликвидирована в 1798 г), в 1649 г. представил доклад о перспективах основания колонии на Капе как связующего звена между Голландией и ее империей на Востоке с центром в Батавии (о ней см. ниже, с. 591, примеч. к с. 246). В апреле 1652 г. ван Рибик прибыл на трех кораблях на мыс Доброй Надежды, где заложил крепость и основал поселение свободных бюргеров (будущий Кап-штад), состоял здесь комендантом крепости до отбытия в Батавию в 1662 г. С 1918 г. в Кейптауне существует Общество ван Рибика, издающее историографический ежегодник (см.: 500 Years. P. 18—21; Thompson. P. 32—33).
С. 159. ...встретились с кафрами, известными под общим, собирательным именем амакоза. — Амакоса (или амакозе, амакоза) — общепринятое в XVIII—XIX ее название племени коса (xhosa; ср. названия других африканских племен: амазулу, аматембо и т. п.), занимавшего территории, которые граничили с Капской колонией на северо-востоке. Фразы о «собирательном имени амакоза» в тексте энциклопедической статьи нет (ср.: «встретились с кафрами, преимущественно с племенем амакоса» — Gegenwart. S. 532); собирательным для ряда племен, включая и племя коса, служило наименование «кафры» (см. об этом выше, с. 571, примеч. к с. 130). Однако и далее, излагая события трех «кафрских войн» (велись главным образом с племенем коса), Гончаров последовательно использует названия «амакоса» и «кафры» как синонимичные (см. наст. изд., т. 2, с. 159, 168), очевидно более доверяя не книжной, а местной устной информации; ср. пояснение другого путешественника: «Кафрами (кяфир, неверный) называли первоначально мавританские мореплаватели в Индийском океане всех жителей юго-восточного берега Африки. Впоследствии, когда голландские колонисты на мысе Доброй Надежды начали встречаться с жителями самой южной части этого берега, они стали называть кафрами одно только их племя амакозов (amakosae), как они сами себя называют» (Бутаков А. Записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах. С. 40); ср. также: Вышеславцев. С. 81—84.
- 580 -
С. 159. ...эпоху основания колонии ~ под предводительством знаменитого вождя Тогу (Toguh), от которого многие последующие вожди ~ известнейшие из них, Гайка и Гинца, ведут свой род. — Вожди племени коса Гайка (Gaika; 1743—1829) и Гинца (Hintsa; ум. 1835), активные участники пограничных конфликтов 1820—1830-х гг. (о них см.: Rosenthal. P. 132, 169; Thompson. P. 73—75), приходились Тогу «родней в восьмом колене» (Gegenwart. S. 532; сведения почерпнуты Гончаровым из этого последнего источника). В основных исследованиях по истории Южной Африки имя вождя Тогу не упоминается, в предыдущих комментированных изданиях «Фрегата „Паллада”» он ошибочно отождествлялся с диктатором зулусской империи Чака Зулу (1787—1828).
С. 159. ...прикочевали с севера к востоку, к реке Кей... — Неточность в тексте Гончарова (движение происходило с северо-востока на юго-запад); ср. «с северо-востока, к реке Кей» (Gegenwart. S. 532).
С. 160. ...французскими эмигрантами, удалившимися сюда по случаю отмены Нантского эдикта. — Эдикт, изданный в Нанте в 1598 г. завершил религиозные войны между католиками и протестантами (гугенотами); последним были предоставлены политические права, относительная свобода вероисповедания и богослужения. Из-за вновь начавшихся преследований после отмены эдикта в 1685 г. многие протестанты бежали из Франции и впервые появились на Капе в 1687 г.
С. 161. ...об отдельной, независимой колонии голландских так называемых буров (boer — крестьянин) ~ которую они основали в 1835 году, выселившись огромной толпой за черту границы. — Название буры или боеры (от гол. boer — земледелец, крестьянин), но с уничижительным оттенком, утвердилось за голландскими фермерами Капской колонии при английском правлении (см.: Thompson. P. 56). О «Великом треке» буров подробнее см. ниже, с. 581, примеч. к с. 162—163.
С. 161. ...в 1795 году колония была занята силою оружия англичанами ~ По Амьенскому миру, в 1802 году, колония возвращена была Голландии... — Английская эскадра прибыла на мыс Доброй Надежды в июне 1795 г. однако военный гарнизон Капштада капитулировал только 16 сентября того же года после длительного вооруженного сопротивления. Колония находилась под английским правлением до заключения мирного договора в Амьене 27 марта 1802 г. между Францией, в союзе с Испанией и Батавской республикой (существовала на территории Нидерландов в 1795—1806 гг.), и Британией. По условиям этого договора Британия возвращала часть захваченных ею в ходе войн территорий. С февраля 1803 г. Капская колония получила статус голландской колонии под управлением Батавской республики, сохранявшийся до 1806 г. (см.: 500 Years. P. 100—117).
С. 161. ...в 1806 году снова взята Англиею ~ утверждена окончательно Венским трактатом 1815 года. — В ходе возобновившейся войны между Англией и Францией Капштад в январе 1806 г. был вновь захвачен английской военной эскадрой, принадлежность колонии Англии была закреплена Венским трактатом (к Англии отходили колонии, захваченные ею у Голландии), который явился результатом Венского конгресса 1814—1815 гг., состоявшегося после разгрома наполеоновской Франции
- 581 -
С. 162. ...в 1827 году обнародован был свод законов в английском духе ~ перемены в управлении. — Дискриминационные по отношению к голландскому населению колонии законы были приняты в 1827 и 1833 гг. (см.: Thompson. P. 87).
С. 162. ...по заключении в 1835 году мира с кафрами... — Речь идет об окончании 6-й «кафрской войны» (1834—1835); подробнее о ней см. ниже, примеч. к с. 164.
С. 162—163. ...целое народонаселение двинулось массой к северу ~ под названием «Orange river sovereignty» ~ и заключило с ним в январе 1852 года договор... — История «Великого трека» (1834—1854) — переселения буров из Капской колонии на северо-восток за реку Вааль и на север за Оранжевую реку, изложена по: Gegenwart. S. 538—539. Конвенция о признании независимости бурской республики Трансвааль (современная территория ЮАР) была подписана 17 января 1852 г., Оранжевого свободного государства (современная территория Лесото) — 23 февраля 1854 г. (см.: Thompson. P. 87—96; 500 Years. P. 143—181, 234—256).
С. 163. Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы... — Речь идет о массовой (поощрявшейся английским правительством) иммиграции в Южную Африку в 1820 г. (см. об этом: 500 Years. P. 131).
С. 164. У англичан сначала не было положительной войны с кафрами ~ повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году, серьезной войне с кафрами. — Детальный рассказ о предыстории 5-й (1819—1820) и 6-й (декабрь 1834—1835) «кафрских войн» (см.: Gegenwart. S. 533—534) изложен Гончаровым кратко, 6-я война названа в данном случае 1-й, поскольку именно в это время заметно возрос масштаб военных действий на границах колонии. В основных исследованиях по истории Южной Африки принята следующая хронология «кафрских войн»: 1-я — 1779—1781, 2-я — 1789, 3-я — 1799—1801, 4-я — 1812, 5-я — 1819—1820, 6-я — 1834—1835, 7-я («War of the Axe») — 1846, 8-я — 1850—1853 гг. (см.: 500 Years. P. 92—93, 108—109, 143—144, 183—195; Thompson. P. 73—79; Smithers A. J. The Kaffir Wars, 1779—1877 London, 1973 и др.).
С. 164. ...к предводителям одного главного племени, Гайки — О Гайке см. выше, с. 580, примеч. к с. 159.
С. 164. ...два новые округа и назвали их Альберт и Виктория... — Речь идет о провинциях (о них см.: Gegenwart. P. 528—529), возникших в 1847 г. и названных в честь английской королевы (с 1837 г.) Виктории (1819—1901) и ее супруга принца Саксен-Кобург-Готского Альберта (1819—1861).
С. 166. Коронный чиновник — чиновник, находящийся на коронной (государственной) службе.
С. 166. Все публичные акты подлежат гербовой пошлин. — Введенная еще в императорском Риме гербовая пошлина (гербовый сбор) взималась при всех гражданских актах, требовавших использования государственной гербовой (клейменой) бумаги или специальной марки.
С. 166. Акр (англ. acre) — земельная мера в Англии и Северной Америке, равная 4047 кв. м.
С. 16. Морген (нем., гол. morgen) — старинная земельная мера в Германии и Нидерландах (от 2500 до 9700 кв. м).
С. 168—169. Кафры, или амакоза, со времени беспокойств 1819 года, вели себя довольно смирно ~ этот сын, по имени Сандилья, был еще
- 582 -
ребенок ~ Война была неизбежна и вскоре вспыхнула. — Данный пассаж воспроизводит текст энциклопедической статьи: Gegenwart. S. 534—536; о Сандили см. ниже, примеч. к с. 173; другие упомянутые здесь вожди — Макомо, Секо, Тиали (точнее: Тали) — малоизвестны (о Макомо см.: Посьет ОЗ. № 3. С. 26; Вышеславцев. С. 87).
С. 169. Восстали четыре племени ~ уступить белым значительный участок земли. — Соответствует тексту: Gegenwart. S. 536—537.
С. 169. ...тогдашний губернатор, сэр Бенджамен д’Урбан... — Бенджамен д’Эрбан (d’Urban; 1777—1849) был губернатором колонии с января 1834 г.; отстраненный от этой должности в 1838 г., принимал активное участие в военных конфликтах с кафрами до 1846 г., когда был назначен главнокомандующим британскими войсками в Северной Америке (см.: Rosenthal. P. 108).
С. 169. Полковники Смит и Соммерсет (первый был потом губернатором)... — Гарри Смит (Smith; 1787—1860) — губернатор Капской колонии в 1847—1852 гг.; Генри Сомерсет (Somerset; 1794—1862), старший сын губернатора колонии в 1814—1827 гг. Чарльза Сомерсета, жил с отцом на Капе с 1815 г.; участник пограничных войн 1830—1850-х гг.; с 1853 г. — главнокомандующий английскими войсками в Индии (см.: Rosenthal. P. 349, 355).
С. 169—170. До 1846 года колония была покойна ~ Метлэнда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности. — Соответствует тексту: Gegenwart. S. 541—542.
С. 169. ...в марте 1846 года открылась опять война. — Т. е. 7-я «кафрская война».
С. 170. Губернатором был только что поступивший, вместо сэра Джорджа Непира, сэр Перегрин Метлэнд. — Джордж Нейпир (Napier; 1784—1855) — губернатор Капской колонии в 1838—1844 гг.; Перегрин Мейтланд (Maitland; 1777—1852) — в 1844—1846 гг.
С. 170—171. В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Поттин-джер ~ полковник Соммерсет неутомимо преследовал их и принудил к сдаче. — Соответствует тексту: Gegenwart. S. 541—542. Генри Поттинджер (Pottinger; 1789—1856) — губернатор колонии в 1846—1847 гг.; о Сомерсете см. выше, примеч. к с. 169.
С. 171—172. ...губернатор Поттинджер был отозван в Мадрас, и место его заступил ~ сэр Герри Смит ~ и одно только это, то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными. — Соответствует тексту: Gegenwart. S. 548—549. О губернаторе Г. Смите см. выше, примеч. к с. 169.
С. 171. ...присоединил к английским владениям, под названием Британской Кафрарии. — См. выше, с. 578, примеч. к с. 157.
С. 172. ...в 1851 году открылась третья. — Т. е. 8-я «кафрская война» (см. выше, с. 581, примеч. к с. 164).
С. 173. Кеткарт, заступивший в марте 1852 года Герри Смита ~ мир и прощение Сандильи и народу Гайки... — Джордж Каткарт (Cathcart; 1791—1854) был губернатором колонии и главнокомандующим войсками с 1852 г. Вождь племени коса Сандили (Sandile, производное от Александр; ок. 1823—1878), «кафрский Шамиль» (Вышеславцев. С. 85) — участник национальных войн с 1850-х до 1870-х гг.; о нем см.: Rosenthal. P. 328; Meintjets J. Sandile: The Fall of the Xhosa Nation. Cape Town, 1971.
- 583 -
С. 173—174. ...колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории ~ проект представлен в парламент и, конечно, будет утвержден ~ Он утвержден был в 1853 году. — Речь идет о принятой в 1853 г. конституции Капской колонии. По свидетельству К. Н. Посьета, пакет с текстом конституции прибыл в Капштад накануне отплытия «Паллады» (см.: Посьет МСб. С. 245; также: Всеподданнейший отчет. С. 168—169).
С. 175—176. ...похоронный марш на известные слова Козлова: «Не бил барабан перед смутным полком»... — Цитируется начальная строка стихотворения И. И. Козлова (1779—1840) «На погребение английского генерала сира Джона Мура» (<1825>), являющегося переводом стихотворения ирландского поэта Чарльза Вольфа (1791—1823) «The burial of sir John Moor». Исполнялось на напев «Среди долины ровныя...»; в песенниках — с 1870-х гг.
С. 178. Кипсек (англ. keepsake) — богато иллюстрированное (как правило, гравюрами) издание.
С. 179. ...к десерту quatre mendiants... — Название десерта восходит к легенде о халифе Гарун аль-Рашиде (763 или 766—809). Согласно легенде, халиф, бродя в одежде нищего по ночному Багдаду, встретил трех нищих, которым хозяин гостиницы отказал в ужине. По его совету нищие приготовили ужин из найденного в своих мешках.
С. 180. ...малайцы эти возвращаются из местечка Крамати ~ на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. — Шейх Юсуф (Yussuf; 1626—1699), в прошлом правитель острова Бантам в голландской Ост-Индии (выслан оттуда на Кап в 1694 г. из-за конфликта с голландской Ост-Индской компанией), до настоящего времени почитаем как пророк капскими магометанами-малайцами; его гробница в местечке Фор (Faure) близ Капштада, обладающая чудотворными свойствами, является местом паломничества (см.: Rosenthal. P. 341; QBul. Vol. 15. № 3. P. 89). Карамат (араб.) — чудеса, совершаемые мусульманским «святым».
С. 182. ...«Сени новые, кленовые»... — Строка русской народной песни, ранний вариант которой встречается в песенниках 1790-х гг.
С. 185. ...оно основано двести лет назад и названо в честь тогдашнего губернатора, по имени Стеллен, и жены его, урожденной Бош. — По замечанию Д. Варли, эти ошибочные сведения могли быть почерпнуты Гончаровым из «Капского альманаха» за 1853 г. (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 94). Город Стелленбос (Stellenbosch) основан в 1680 г. губернатором колонии (1679—1699) Симоном ван дер Стелом (van der Stel; 1639—1712); по преданию, название отразило его впечатления от местной живописной флоры (гол. bos — дерево, лес); женой ван дер Стела была Иоанна Якоба Сикс (Six). В данном случае изложена история города Свеллендама (Swellendam), основанного в 1745 г. губернатором (1739—1751) Хендриком Свелленгребелем (Swellengrebel) и названного им в собственную честь и в честь жены Вильгельмины, урожденной Дамм (Damme) (см.: 500 Years. P. 39—40, 61, 70).
С. 185. Местечко замечательно еще школой, одной из лучших в колонии. — Школа в Стелленбосе с системой образования, разработанной Дж. Гершелем (о нем см. выше, с. 576, примеч. к с. 153), создана в 1683 г.; упоминается в «Капском альманахе» за 1853 г. (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 95).
- 584 -
С. 185—186. ...африканским Геттингеном или Оксфордом. — Имеются в виду Геттингенский (основан в 1737 г.) и Оксфордский (основан во второй половине XII в., по другим данным — в начале XIII в.) университеты.
С. 186. Два датчанина, братья, доктор и аптекарь... — По данным Д. Варли, речь идет о братьях Шредер (Schröder) (см. QBul. Vol. 15. № 3. P. 95, со ссылкой на «Капский альманах» за 1853 г.).
С. 186. «Вот это фронтиньяк, это ривезальт» ~ сходство с chambertin — Фронтиньяк, ривезальт — сорта местного вина, шамбертен — бургундское вино (по названию местечка в Верхней Бургундии).
С. 186. «Господин Ферстфельд, местный доктор» — Доктор Ферстфельд (Verstfeld) упоминается в «Капском альманахе» за 1853 г. (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 96).
С. 187. Френология (от греч. phren — душа, ум, сердце) — учение о связи формы черепа и психики человека, принадлежащее австрийскому врачу и анатому Францу Йозефу Галлю (Gall; 1758—1828). Согласно его теории, те или иные психические свойства локализуются в различных участках мозга и определяются по рельефу черепа.
С. 187. «Он десять лет жил в Китае», — заметил кто-то про Гошкевича. — См. об этом выше, с. 434—435.
С. 189. ...в широких нанковых ~ панталона. — Т. е. в панталонах из нанки — грубой хлопчатобумажной ткани, первоначально производившейся в г. Нанкин в Китае, позднее — повсеместно в Европе.
С. 189. ...так и повеяло Поль Поттером, Миерисом, Теньером. — Мастеров «фламандской школы» — голландцев анималиста Паулюса Поттера (Potter; 1625—1654), жанриста Франса ван Мириса (Миериса) старшего (Miens; 1635—1681), фламандца, также жанриста, Давида Теньера (Тенирса) младшего (Teniers; 1610—1690) — отличали простодушие в изображении незатейливых мирных сцен деревенского и городского быта, тонкость и тщательность в проработке деталей. О «фламандстве» самого Гончарова подробнее см. наст. изд., т. 1, с. 741—743, 761—762. Теньер и фламандские живописцы братья Адриан и Исаак ван Остаде упоминаются также в «Обыкновенной истории» (см. нас. Изд., т. 1, с. 446), ниже во «Фрегате „Паллада”» (наст. т., с. 396), в «Обрыве» (часть вторая, главы V, XX).
С. 190. ...крытые штофом козетки... — Т. е. двухместные диванчики (от фр. causette — легкая, непринужденная беседа), обитые декоративной гладкой тканью с рисунком (нем. Stoff).
С. 195. Яхташ (ягдташ) (нем. Jagdtasche) — охотничья сумка для дичи.
С. 195. ...появились кисейные спенсеры... — См. выше, с. 564, примеч. к с. 87.
С. 195. Муслинь-де-лень (фр. mousselme de laine) — шерстяной муслин (муслин — хлопчатая тонкая, легкая ткань).
С. 197. ...ни Абдель-Кодеры и Сандильи ~ не помешаю... — Абд-аль-Кадир или Абд-аль-Кадер (Abd-el-Kader; наст. имя — Il-Hadji; 1807—1883) — арабский эмир, предводитель арабских племен в войне с французскими завоевателями в Алжире в 1832—1847 гг., талантливый оратор и поэт. После окончания войны в 1847 г. и ликвидации эмирата был взят в плен. «Священная война» арабов произвела сильное впечатление в Европе: во
- 585 -
Франции, в частности, в 1850-х гг. вышло несколько книг, посвященных Абд-аль-Кодеру; ср. статью «Биография Абдель-Кадера» (БдЧ. 1848. № 3. Отд. VII. С. 16—20), стихотворение В. Г. Бенедиктова «Письмо Абдель-Кадера» (между 1850 и 1856, Бенедиктов. С. 362—364) и др. Освобожденный в конце 1852 г. Абд-аль-Кадер участвовал в коронационных торжествах Наполеона III в Париже (см. выше, с. 562—563, примеч. к с. 83), став, по словам газет, «львом парижского общества». «Любопытство и удивление возбуждает только один человек — Абд-эль-Кадер. Все наперерыв приглашают его к себе, ни одно порядочное собрание без него обойтись не может» (СПбВед. 1852. 28 нояб. № 268). Позднее — со значительной пенсией от французского правительства — переселился в Сирию, где жил отшельником. Автор религиозно-философского сочинения на арабском языке, опубликованного во французском переводе: «Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent» (Paris, 1885). О Сандили см. выше, с. 582, примеч. к с. 173.
С. 197. Есть проект железной дороги внутрь колонии... — Строительство железной дороги от Кейптауна до Веллингтона было начато в 1859 г. (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 107).
С. 198. «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!» или «У Антона донка» и т. д. — Начальные строки двух популярных цыганских романсов, оба включались в песенники со второй половины 1850-х гг. (см.: Новый полный русский песенник / С прибавлением всех песен московских цыган. М., 1856. Ч. 2. С. 8; Полнейшее из всех собрание песен московских цыган и современных народных русских. М., 1857. С. 41; Новейший русский и цыганский песенник. СПб., 1861. С. 48 и др.). Романс «Ненаглядный ты мой» поет в «Обрыве» Марфинька (часть третья, гл. XIX).
С. 198. «Вон и мистер Бен!» — Английский инженер и геолог Эндрю Бейн (Bain; 1796—1864) жил в Капской колонии с 1820 г., исследуя ископаемую фауну Южной Африки (о нем см.: Rosenthal. P. 14; QBul. Vol. 15. № 3. P. 107; см. также ниже, примеч. к с. 199). Его именем названо ущелье — Бейнс-Клуф (Bain’s Kloof; упоминается: наст. т., с. 216, 228), через которое по проекту Бейна в 1848—1853 гг. прокладывалась шоссейная дорога.
С. 199. ...с портретами королевы Виктории и принца Альберта в парадном костюме ордена Подвязки. — О королеве Виктории и принце Альберте см. выше, с. 581, примеч. к с. 164. Орден Подвязки (The Garter) — старейший рыцарский орден Британской империи, учрежденный королем Эдуардом III в 1350 г. для узкого круга приближенных (25 кавалеров). Знаками ордена, обязательными для парадного костюма, служили подвязка из темно-синего бархата с золотой каймой и девизом (о девизе ордена подробнее см. наст. изд., т. 1, с. 819); золотой с бриллиантами медальон с изображением Св. Георгия (орден посвящен Св. Георгию Каппадокийскому и Св. Эдуарду Исповеднику) на темно-синей ленте через плечо; серебряная звезда с красным георгиевским крестом, которую носили слева на груди.
С. 199. ...о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии ~ «Я покажу вам свою геологическую карту» ~ «Она, вероятно, уже печатается ученым обществом... — В 1851 г. составленная Бейном геологическая карта Южной Африки и его «Записки» были отосланы в Лондонское Геологическое общество;
- 586 -
опубликованы в 1856 г. (см.: QBul. Vol. 15. № 3. P. 108); см. Также: The Journals of Andrew Geddes Bain / Ed. by M. H. Lister. Cape Town, 1949 (Van Riebeeck Society Publications; № 30).
С. 200. ...как тигр таскал из-за загородки лошадей... — См. выше, с. 572, примеч. к с. 132.
С. 201. ...был бы африканский Рубини: у него изумительный фальцетто. — Джованни Баггиста Рубини (Rubini; 1794 или 1795—1854) — знаменитый итальянский тенор («король теноров»); в 1831—1845 гг. неоднократно пел на оперных сценах Парижа и Лондона. Весной 1843 г. впервые выступал с концертами в Петербурге и, по оценкам знатоков, «совершенно опрокинул все наши преждебывшие понятия о сценическом пении» (Р. З. <Зотов Р. М.> Рубини и опера // СПч. 1843. 7 июня. № 124). Как отмечал другой рецензент, «у нас до Рубини хорошего фальсета не слыхали <...> фальсет Рубини — это богатый, неисчерпаемый рудник новых, всемогущих эффектов, это новый способ разнообразить человеческое пение посредством контрастов, выражать нежнейшие оттенки чувств и страстей» (Рубини и итальянская музыка // ОЗ. 1843. Т. 29. Отд. II. С. 37—38). В составе итальянской оперной труппы Рубини выступал в Петербурге в 1843—1845 и в 1847 гг. Фальцет (ит. falsetto) — один из регистров мужского певческого голоса (горловой, в отличие от грудного), придает звуку особую окраску. О Рубини Гончаров упоминает также в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 459) и «Обломове» (наст. изд., т. 4, с. 399).
С. 201. Посьет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с г-ном Беном. — Скупые сведения о Бейне в опубликованных «Письмах» К. Н. Посьета не дополняют гончаровского текста (ср.: Посьет ОЗ. № 3. С. 24—25; № 4. С. 117).
С. 201. Да это кадриль или что-то вроде шень, балансе». — Шень (фр. chaine — цепь), балансе (фр. balance — балансирование) — танцевальные па в кадрили — танце французских публичных маскарадов и гуляний, обычно в четыре (и более) пары.
С. 202. ...гора Гринберг, зеленая не по одному названию. — Название горы в данном случае составлено из англ. green — зеленый (ср. гол.: groen) и гол. berg — гора.
С. 203. «Близко города Славянска, на верху крутой горы». — Песня гудошника Торопки Голована из оперы А. Н. Верстовского на либретто М. Н. Загоскина «Аскольдова могила» (московская премьера — 15 сентября 1835 г.; текст впервые опубл.: Аскольдова могила: Романтическая опера в четырех действиях / Музыка А. Н. Верстовского. М., 1836. С. 87—89). Включалась в популярные песенники (с 1840-х гг.) и антологии русских народных песен.
С. 205. ...и сулу. — Т. е. племени зулу.
С. 205. ...это африканские Адонисы... — Первоначально в финикийско-сирийской, затем в греческой мифологии Адонис — юноша редкой красоты, спутник и возлюбленный Афродиты (в финикийском варианте — Астарты).
С. 207. «Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил». — Строки 3-й строфы популярного романса «Тройка» («Гремит звонок, и тройка мчится...»; слова Н. Анордиста (Н. Радостина); муз обработка А. Ф. Львова, В. Маркова, М. И. Бернарда и др.). Впервые: Альманах на 1840 г. Н. Анордиста (с картинкою). М., 1840. С. 70—72. Ср.:
- 587 -
Твоя краса меня прельстила,
Теперь мне белый свет постыл!
Зачем, зачем обворожила,
Коль я душе твоей не мил!(Собрание лучших песен, баллад
и романсов в двух частях. М., 1859.
Ч. 1. С. 72).Романс включался в нотные собрания народных песен. Строка 1 иногда: «Звенит звонок, и тройка мчится»; строка 3 строфы 3 иногда: «Зачем, зачем приворожила...».
С. 208. ...между тем здесь архимедов рычаг бессилен. — По преданию, древнегреческий математик и механик Архимед (ок. 287—212 до н. э.), установив закон рычага, сказал: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Выражение, как правило, используется в значении двигательной силы вообще.
С. 209. «Люди добрые, внемлите» ~ «Вы всю... грусть мою... поймите»... — Первая и третья (измененная) строки популярной с середины 1850-х гг. цыганской песни; ср.:
Люди добрые, внемлите
Печали сердца моего,
Мою скорбь вы всю поймите,
Грустно жить мне без него.(Песенник, или Собрание избранных
песен, романсов и водевильных
куплетов: В 3 ч. СПб., 1855.
Ч. 2: Песни московских цыган. С. 28).С. 210. ...сын Бена... — Томас Бейн (1830—1893) с 1848 г. официально числился ассистентом отца (см.: QBul. Vol. 15. № 4. P. 140).
С. 212. Мыза (финск. moisio) — загородный дом, дача с собственным отдельным хозяйством.
С. 212. «Ну, последние времена пришли! ~ просишь у ближнего хлеба, а он дает камень, вместо рыбы — змею» — Шутливая парафраза нескольких библейских стихов: выражение «последние времена» используется в целом ряде текстов (Книги Ездры, пророка Даниила, Послания апостолов Петра, Иоанна, Иуды и др.); ср. также: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею, вместо рыбы?» (Лк. 11: 11).
С. 215. ...какой-нибудь Плантагенет или Стюарт. — Плантагенеты (Plantagenets) — анжуйская династия, занимавшая английский престол в 1154—1399 гг. (до прихода к власти династии Тюдоров); Стюарты (Stuart, Stewart) — королевская династия в Шотландии (1371—1714) и Англии (1603—1649, 1660—1714).
С. 217. Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию; см. также
с. 702: Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. — Открытие месторождений золота в 1847 г. в Калифорнии (Северная Америка) и в 1851 г. на юго-востоке Австралии (на землях английских колоний — Новый Южный Валлис с центром в Сиднее и Виктория с центром в Мельбурне) вызвало огромный поток переселенцев (см., в частности: Добывание золота в Калифорнии и Австралии // С. 1853. № 4. Отд. II. С. 59—75). В 1867 г. в Южной Африке были найдены алмазы, в 1886 г. — золото, что
- 588 -
также привлекло сюда многочисленных европейцев («золотой бум» 1886—1889 гг.); в начале XX в. Южная Африка давала до 50% мировой добычи золота.
С. 217. ...сказать, что клад зарыт в земле ~ чтобы они изрыли ее всю; см. также
с. 702: Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело — не в золоте. — Имеется в виду сюжет басни Эзопа (VI в. до н. э.) «Крестьянин и дети его» (см.: Басни Эзопа / Пер., статья и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 1969. С. 76. № 42 («Лит. памятники»)). Гончарову этот сюжет мог быть известен и по басне В. И. Майкова «Отец и дети» (опубл. 1767). С. 219. Эта луговина, вместе с источниками, называется Brandt Valley. — Точное ее название Brandvlei (от гол. brand — огонь, пожар и vallei — низина, болото; букв.: горящее болото) — см.: QBul. Vol. 15. № 4. P. 149. В наст. изд. дан ошибочный перевод (см.: т. 2, с. 219).
С. 223—224. «Что ты, дева молодая, не отходишь от окна ~ Разве ждешь ты? Да кого же? не солдата ли певца?» — Этот текст в песенниках прошлого века не зафиксирован.
С. 226. Несколько небольших остовов пресмыкающихся он предложил взять для петербургского музеума натуральной истории. — Т. е. для основанного в 1832 г. музея при Петербургской Академии наук, коллекция которого (бывшая «натур-камера») была выделена из общей коллекции созданной Петром I в 1714 г. Кунсткамеры. Музей был открыт для публики в 1838 г. и до 1894 г. сохранял название Кунсткамеры; позднее — Зоологический музей (с 1897 г. размещается в соседнем с Кунсткамерой здании — Университетская наб., д. 1).
С. 227. Настоящий Авраам — после божественного посещения! — Согласно ветхозаветному преданию, в богоявлении Аврааму было предсказано умножение его рода: «...умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря» (Быт. 22: 17).
С. 235. ...это был наш транспорт «Двина», который мы видели в Англии. — Транспорт «Двина», совершавший плавание по маршруту Кронштадт—Камчатка под командованием капитан-лейтенанта П. Н. Бессарабского, находился в Портсмуте с 24 октября (5 ноября) 1852 г. по 6 (18) января 1853 г.; прибыл на Кап 4 (16) апреля и отбыл 19 апреля (1 мая) 1853 г. (см.: Обзор. Т. 1. С. 62). О встрече с судном в Англии см. в письме Гончарова к Е. А. и М. А. Языковым от 8 (20) декабря 1852 г.; о прибытии «Двины» на Кап — в письме им же от 18—19 (30—31) мая 1853 г.
С. 236. ...посетить одного из кафрских предводителей, Сейоло...; см. также
с. 239: Сейоло — один из второстепенных вождей. — По данным Д. Варли, Сейоло был одним из вождей племени коса, участником 6, 7 и 8-й кафрских войн; взят в плен в октябре 1852 г. Приговоренный к пожизненному заключению, он содержался в тюрьме до 1869 г., когда ему разрешено было вернуться в Кафрарию (см.: QBul. Vol. 16. № 1. P. 44). Ср. в письмах В. А. Римского-Корсакова: «Сейоло этот был не то чтобы очень важное лицо между кафрами, а просто предводитель небольшой шайки, которая с войсками даже и не переведывалась, но делала вреда немало, избрав себе предметом нападения почты и фуражные партии...» (Римский-Корсаков. С. 70). Согласно записи в «Путевом журнале» Ф. Алексеева (о нем см. выше, с. 571, примеч. к с. 128), Сейоло «содержался в городе Вымборге
- 589 -
вместе с женою, и его всем показывали, многие из наших офицеров ездили его смотреть. Англичане говорят: „Саёла не законный властитель племени, которого был предводителем, но похититель только этой власти и был жесток до невероятности с пленными английскими солдатами, с живых сдирал кожу, жарил, тиранил по нескольку дней”, но тут, вероятно, много прибавления, потому что видевшие этого человека не нашли ничего жестокого в его физиономии, напротив, он любезен, при входе любопытного привстает и с улыбкой говорит на английском языке „здравствуйте”, но на вопрос, говорит ли он по-английски, отвечает „нет”» (цит. по: Мельник В. И. Незабываемая «Паллада». С. 133—134).
С. 237. ...из травы reet... — Вероятно, имелся в виду камыш (англ. reed).
С. 238. ...высокого роста, вершков четырнадцати... — Т. е. около 2 м; рост человека измерялся в вершках сверх двух аршин: вершок (верх пальца) — 4.5 см; аршин — 0.7 м.
С. 239. ...один характер с нашими войнами на Кавказе. — Т. е. с войнами России на Кавказе в 1817—1864 гг., закончившимися его присоединением.
С. 239—240. ...мы поехали ~ к В. А. Корсакову на шкуну «Восток» ~ шкуна, купленная адмиралом в Англии ~ Теперь адмирал посылал ее вперед. ~ На другой день, 12-го апреля, ушли и мы. — О покупке в Англии шхуны «Восток» см. выше, с. 568, примеч. к с. 115. Шхуна отбыла с мыса Доброй Надежды в Гонконг за день до «Паллады» — 11 (23) апреля 1853 г. (см.: Обзор. Т. 1. С. 29, 51; Всеподданнейший отчет. С. 169; QBul. Vol. 15. № 2. P. 49). Адмирал Е. В. Путятин задержал отплытие фрегата на день в ожидании английского почтового парохода, доставившего ему «предписания из Петербурга», в частности известие о «двух посланных через Америку курьерах с новыми дополнительными инструкциями», касающимися посольской миссии в Японию. Местом прибытия как курьеров, так и назначенных в состав эскадры двух новых судов — корвета «Оливуца» Камчатской флотилии и транспорта Российско-Американской компании «Князь Меншиков», были назначены острова Бонин (см.: Всеподданнейший отчет. С. 169—170). Подробнее см. ниже, с. 603—604, примеч. к с. 302.
V
ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ
С. 242. Шторм был классический ~ На другой день стало потише... — О «жестокой буре», продолжавшейся 19 часов, К. Н. Посьет вспоминал: «Волнение шло горами, фрегат ложился то на один, то на другой бок и, несмотря на вторичную, повсеместную оконопатку в Саймонсбее, потек всеми палубами и показал движение в надводных частях корпуса» (Посьет МСб. С. 243). Повреждения на «Палладе» были столь значительными, что Е. В. Путятин вынужден был отправить в Петербург курьера (И. И. Бутакова) с донесением, в котором испрашивал разрешение «об отправлении в нынешнем же году фрегата „Диана” нам на смену» (см.: Отчет. С. 147; Всеподданнейший отчет. С. 170; Обзор. Т. 1. С. 30—31). Гончаров в письме к Е. А. и М. А. Языковым от
- 590 -
18—19 (30—31) мая 1853 г. Сообщал: «Адмирал посылает его <Бутакова> курьером просить фрегата поновее и покрепче взамен „Паллады”, которая течет, как решето, и к продолжительному плаванию оказывается весьма неблагонадежной. На другой или третий день по выходе с мыса Доброй Надежды нас трепнула буря, которая, обнаружив непрочность судна, и заставила просить другого». Об отсылке в Петербург Бутакова «просить другого фрегата вместо „Паллады”, отказывающейся служить за ветхостью и Дряблостью», Гончаров писал и Майковым 25—26 мая (6—7 июня) 1853 г.
С. 244. При входе в пролив начались мертвые штили ~ одна зеленая кайма — «Зондский пролив встретил нас прекраснейшим утром, — писал К. Н. Посьет 15 (27) мая 1853 г. — Густые, кажется, непроницаемые леса гористой Явы дышат Индиею, над ними небо: выразить не умею, оно как-то особенно выразительно — оно не молчит, не говорит, но внимание ваше постоянно к нему приковано» (Посьет МСб. С. 245).
С. 245. ...подслушивать, как растет трава. — Выражение восходит к тексту Младшей Эдды (1, 27) и подразумевает особую поэтическую чуткость. Приобрело популярность в романтическую эпоху, в частности благодаря часто цитировавшемуся стихотворению «На смерть Гете» (1832) Е. А. Баратынского, в котором создан образ поэта-мудреца, ясновидца природы: «С природой одною он жизнью дышал / Ручья разумел лепетанье, / И говор древесных листов понимал, / И чувствовал трав прозябанье» (см. об этом: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 116). Тот же образ («будете прислушиваться к росту травы») возникает в «Обломове» (наст. изд., т. 4, с. 236).
С. 245. ...как растет — хоть сладкий картофель — О сладком картофеле (батате) см. ниже, с. 606, примеч. к с. 302.
С. 246. ...наконец 17 мая ~ добрались мы до Анжерского рейда ~ приехал к такому берегу, у которого нет никакого прошедшего и никакой истории. ~ Что такое Анжер? Малайское селение... — О прибытии фрегата на Яву 17 (29) мая см.: Обзор. Т. 1. С. 29; Отчет. С. 147; Всеподданнейший отчет. С. 171. Современное название порта на западном побережье о Ява — Аньер (Anjer). «Аньер по-голландски, Анжер по-английски и Аньяр по-малайски, — свидетельствовал В. А. Римский-Корсаков, — это небольшое селение с крепостцою на яванском берегу Зондского пролива. Достоинство его в том, что оно расположено на самом проходе судов, идущих из Европы и Ост-Индии в Китай и обратно. В Аньере можно найти пресную воду и всякую свежую провизию очень дешево, а это очень важно для всякого мореплавателя <...>. <...> Аньер, конечно, скорее можно назвать городком, нежели селением. Есть в нем и крепость, и церковь, и полиция, и рынок, и даже маленькая гавань для малайских лодок. Но только этот городок не похож на такое собрание зданий, которое мы привыкли величать городом. Домов, таких, как наши, или, по крайней мере, вроде наших, всего два казарма в крепости, в ней же и больница, и дом капитана над портом. Все же остальное — не что иное, как совокупление навесов, галерей, сеней без комнат. Все это большей частью сплетено из бамбука или из лозняка и обнесено изгородями и плетнями из таких же материалов» (Римский-Корсаков. С. 83, 85—86).
- 591 -
С. 246. О нем упоминает еще Тунберг. — Речь идет о сочинении шведского естествоиспытателя, автора многочисленных работ по ботанике и зоологии, Карла Петера Тунберга (Thunberg; 1743—1828) «Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad eren 1770—1779» (Upsala, 1788—1793. Т. 1—4), знакомом Гончарову по немецкому (1792—1793), французскому (1794) или же английскому (1795) переводу. Тунберг был на Яве, а именно в Батавии (см. ниже), в марте 1775 г. и оставил обстоятельное повествование о населении, климате, флоре и фауне острова. В главе о Яве французского (сокращенного) издания его книги селение Аньер не упоминается (см.: Thunberg. P. 219—260).
С. 246. ...в Батавию, где свирепствуют гибельные, особенно для иностранцев, лихорадки. — Батавия (от древнего названия германских племен — батавов, населявших территорию Нидерландов) — форт, основанный в 1610 г. близ туземного селения Джакарта голландской Ост-Индской компанией (о ней см. выше, с. 579, примеч. к с. 159), позднее — центр торговли в голландской Ост-Индии, современная Джакарта. По словам Ж. Дюмон-Дюрвиля, Батавия — «могила почти всех новоприбывающих европейцев» (ср. его пространные рассуждения о вреде здешнего климата — Дюмон-Дюрвиль. Ч. 3. С. 264—265).
С. 248. ...детскую басню о лгуне... — Имеется в виду басня Эзопа «Пастух-шутник» (см.: Басни Эзопа / Пер., статья и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 1969. С. 124. № 210 («Лит. памятники»)). Ср. широко известное толстовское переложение этой басни — «Лгун» (1875).
С. 249. ...у Зама... — Т. е. в петербургском зверинце В. Зама, находившемся на углу Большой Морской ул. и наб. реки Мойки, у Кирпичного пер.
С. 250. Рты у всех как будто окровавлены от бетеля ~ раздражает десны. — Бетель — растение семейства перечных. По словам В. А. Римского-Корсакова, бетель — «род ореха, мягкого и горького, который они <малайцы> с приправой какой-то особенной извести завертывают в древесный лист. Жвачка эта источает красивый, совершенно кровяного цвета сок, и оттого у них рот вечно будто бы в крови. <...> Я, разумеется, этой жвачки отведал, но она так жестка, что я не мог и двух минут продержать ее во рту» (Римский-Корсаков. С. 87). Ср. также пояснение А. В. Вышеславцева: «Бетель — род перца; его сильно пряный лист, с острым вкусом, очень сходен с листом черного перца; на лист бетеля кладут кусок чунама (самая лучшая известь), величиною с боб, часть ореха с ореховой пальмы, потом немного табаку и инбиря, и все это завертывают в другой лист бетеля. Эту смесь жуют несколько часов сряду, так что сильно текущая слюна получает красный цвет, а зубы — черный. Рак в щеке — самая обыкновенная болезнь между жующими эту отвратительную жвачку» (Вышеславцев. С. 145).
С. 250. Все они говорили по-китайски, по-малайски и по-английски, но не по-голландски. Долго ли англичане владели Явой и как давно, а до сих пор след их не пропадает здесь! — Ту же особенность отмечал К. Н. Посьет: «Удивительно и даже досадно, до какой степени английский язык распространился по берегам всего света! Где бы, кажется, его менее ожидать, как на Зондских островах, принадлежащих 150 лет голландцам? Между тем значительная часть анжерских малайцев говорит порядочно по-английски и ни слова по-голландски»
- 592 -
(Посьет ОЗ. № 4. С. 119). Ява, официально входившая в состав голландских колоний с 1749 г., отошла к Англии в 1811 г. в результате наполеоновских войн, но в 1816 г. (по Лондонскому трактату) была вновь возвращена Голландии.
С. 251. ...и под пальмами кокоса и areca. — Пальма арека дает небольшой оранжево-красный плод, содержащий внутри так называемый арековый, или бетелев, орех, употребляемый для приготовления бетеля (см. выше, с. 591, примеч. к с. 250).
VI
СИНГАПУР
С. 253. Указания знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины и свойства этих морей... — Речь идет о книге английского гидрографа (с 1810 г. официального гидрографа английской Ост-Индской компании) Джеймса Горсбурга (Horsburg; 1762—1836) «East India Directory or Directions for Sailing to and from the East Indies, China, New Holland, Cape of Good Hope and the interjacent Ports, compiled chiefly from original Journals and Observations made during 21 years’ experience in navigating those Seas» (London, 1809—1811. Vol. 1—2; позднее неоднократно переиздавалась под названием «East India Directory»). По словам Вышеславцева, «Горсбург для моряка то же, что Коран для мусульманина» (Вышеславцев. С. 170).
С. 254. ...необузданные поэтические грезы о нисхождении Брамы на землю, о жаркой любви богов к смертным... — Возможно, Гончаров имеет в виду сюжет «индийской легенды». И.-В. Гете «Бог и баядера» (1797). Название этой романтической баллады (первый рус. пер. под загл. «Брама и баядера» — Славянин. 1827. Ч. III. № 27; подпись: «Ч—въ») было запрещено цензурой, «чтобы не вводить в соблазн читателя эротическими положениями, недостойными истинного божества» (Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 103). Баллада увлекала русских поэтов-романтиков — К. С. Аксакова, Н. В. Станкевича, Ап. Григорьева, А. К. Толстого. С 1835 г. на петербургской сцене под названием «Влюбленная баядерка» шла опера Д. Обера «Бог и баядера» (1830). По словам современника, «весьма игривые мотивы этой партитуры тотчас расхватались для кадрилей и мазурок» (Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 1. С. 48).
С. 255. ...американец Вилькс насчитывает до двадцати одних азиатских племен. — В 1838—1842 гг. офицер американского флота Чарльз Вилке (Wilkes; 1798—1877) возглавлял научную экспедицию по исследованию побережья Антарктики и многочисленных островов Тихого океана. Его пятитомное описание этого путешествия «Narrative of the United States Exploring Expedition during the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842» (1845) выдержало подряд несколько изданий (см. подробное изложение содержания книги в статье «Первая ученая экспедиция вокруг света, совершенная на счет Североамериканского правительства» — МВед. 1847. 3—14 июня. № 66—71; см. также Путешествие вокруг света североамериканца Уйлькса // ОЗ. 1850. № 7—12). О племенах Сингапура Вилке, в частности, писал: «Считается, что число азиатских наций, населяющих Сингапур, достигает двадцати четырех и состоит из китайцев, индийцев, малайцев,
- 593 -
евреев, армян, парсов, бугисов, помимо европейцев» (Wilkes. P. 374).
С. 260. ...за 1800 морских миль от Кантона! — О Кантоне см. ниже, с. 600—601, примеч. к с. 291.
С. 261. Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон Кихота. — О главном герое романа Сервантеса (1547—1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» («Дон Кихот», ч. 1 — 1605, ч. 2 — 1615) сказано: «смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема» (Сервантес Сааведра М. де. Собр. Соч.: В 5 т. М., 1961. Т. I. С. 61).
С. 263. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них. — Подобное замечание в указанной выше книге Эдварда Белчера (см. выше, с. 567, примеч. к с. 106) не обнаружено. Отсутствует оно и в рассказе Белчера о посещении Сингапура во время кругосветного плавания 1841—1842 гг. (см.: Belcher E. N. Narrative of a Voyage round the World, performed in Her Majesty’s Ship «Sulphur», during the Years 1841—1842, including Details of the Naval Operations in China, from dec. 1840 to nov. 1841. London, 1843. Vol. 2. P. 244—246).
С. 263—264. ...в белых кисейных халатах, персияне, вот парси с бледным, матовым цветом лица и лукавыми глазами, далее армянин в европейском пальто...; см. также
с. 412: ...кучками ходят парси, или фарси, с Индийского полуострова или из Тибета. ~ Они сильно напоминают армян. — Парсы (парси — самоназвание, у Гончарова оно ошибочно соотнесено с фарси, персидским языком) — замкнутая этно-конфессиональная группа в Западной Индии, потомки персов-зороастрийцев, переселившихся в VII—X вв. из Ирана; материальное преуспеяние у парсов почитается религиозной добродетелью. Сведения как о сингапурских парсах, так и об армянах, возможно, почерпнуты Гончаровым у Ч. Вилкса, ср.: «Наиболее почитаемы армяне, они среди главных купцов на острове. Немногочисленные, они тем не менее влиятельны благодаря своему богатству; это чрезвычайно симпатичная нация, одеваются по английской моде и обычно чисто говорят по-английски и по-португальски. <...> Парсы немногочисленны в Сингапуре, но принадлежат к наиболее зажиточному слою его обитателей. Одеваются частично в восточном духе, частично по европейской моде. <...> Они разного оттенка, в большинстве более крепкие и дородные, чем другие нации. Многие из них говорят по-английски» (Wilkes. P. 393—394). По-видимому, отождествление «парси» с «фарси» у А. В. Вышеславцева восходит к тексту Гончарова (как и другое отмеченное выше «заимствование» — см. выше, с. 573, примеч. к с. 139); ср.: «Встретите еще толпу людей в длинных халатах, в клеенчатых высоких колпаках, формой усеченного конуса; лица их полны, кожа точно пергамен, большие черные глаза навыкате, усы растут вперед, и бакенбарды узкою черною полосой идут от рта к ушам. Все они смотрят откормленными индюками: это парси или фарси, то есть персияне, купцы, торгующие большею частью опием» (Вышеславцев. С. 185). С. 264. ...убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке. — На Елагином острове (по имени одного из его первых владельцев обер-гофмейстера двора Екатерины II И. П. Елагина) в устье Невы располагались парк и дворец (1818; архитектор — К. И. Росси) — летняя резиденция императрицы
- 594 -
Марии Федоровны. По словам путеводителя, «один из прелестнейших островов, которыми славится наша столица <...> весь превращен в английский парк с проезжими дорогами и аллеями, прудами, фермою и тому подобными заведениями. <...> Прогулка по Елагину острову, открытому публике за исключением небольшого пространства, прилегающего ко дворцу, принадлежит к самым приятным. <...> На Елагином острову происходит ежегодно в торжественный день 25 июня гулянье, заключающееся фейерверком. Здесь запрещено курение табаку» (см.: Греч А. Весь Петербург в кармане. СПб., 1851. С. 219—220).
С. 265. ...на куске холста, русское клеймо «Фабрика А. Перлова». Это дук. — Ни в Москве, ни в Петербурге фабрика А. Перлова (среди полотняных, нанковых, холстинковых, ситцевых и бумажно-ткацких фабрик) не значится. В 1850-е гг. в Москве, на 1-й Мещанской, существовала табачная фабрика купца, почетного гражданина В. А. Перлова (1784—1869) — см.: Захаров М. Указатель Москвы. М., 1852. Ч. 2: Промышленность. С. 50. Дук (или равендук, гол ruwendoec) — грубое полотно, парусина.
С. 269. ...не дым, а лед отечества нам сладок, и приятен!; см. также
с. 709: ...и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества! — Шутливая парафраза из «Горя от ума» (д. I, явл. 7). У А. С. Грибоедова: «И дым Отечества нам сладок и приятен!» — неточная цитата из стихотворения «Арфа» (1798) Г. Р. Державина: «Отечества и дым нам сладок и приятен», которая, в свою очередь, восходит к античным источникам — «Одиссее» (I, 56—58), «Письмам с Понта» Овидия (I, 3, 33), и имеет богатую литературную традицию (см.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 307). См. также ниже, с. 781, примеч. к с. 709. Латинский вариант изречения — «Dulcis fumus patnae» («Сладок дым отечества») — использован Гончаровым в черновых вариантах романа «Обломов». С. 270. Но что ж такое Сингапур? ~ Это островок, в несколько миль величиной ~ Он уступлен англичанам, в 1819 году, одним из малаккских султанов, которому они помогли у твердиться в его владениях. — Возможно, историю Сингапура Гончаров излагает, опираясь на данные Ч. Вилкса. Согласно последним, Стамфорд Раффлз (Raffles), представлявший интересы английской Ост-Индской компании, прибыл на остров в 1819 г. и заключил договор с шахом Хуссейном Магомедом о создании на южном побережье Сингапура английской фактории, причем, как пишет Вилкс, «юрисдикция договора распространялась за пределы фактории только на расстояние пушечного выстрела»; по тому же договору, Хуссейн был признан сингапурским султаном. По Лондонскому договору (17 марта 1824 г.) между Англией и Нидерландами о разграничении сфер влияния, остров целиком перешел в английское владение, султану в качестве выкупа была выплачена значительная денежная сумма (см.: Wukes. P. 376—378). Ср. также краткий рассказ о покупке англичанами острова (с указанием его стоимости): Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 249—250.
С. 270. ...незадолго пред тем голландцы выхлопотали себе у другого султана ~ торговое поселение в тех же местах, именное проливе Рио. — Ч. Вилкс сообщает о заключении Голландией в 1818 г. коммерческого договора с шахом Абдулрахманом, запрещавшего английскую торговлю на острове, и о сосредоточении голландских военных сил на берегу пролива Рио (или Риау, Rhio, Riau) (см.: Wilkes. P. 376).
- 595 -
С. 271. Стен Биль, командир датского корвета «Галатея» и автор путешествия, сравнивает нынешний Сингапур, в торговом отношении, с древней Венецией. — Офицер датского флота (в 1852—1854 и 1860—1863 гг. военно-морской министр, с 1864 г. — вице-адмирал) Стен Андерсен Билль (Bille; 1797—1883) — автор описания кругосветного плавания, совершенного им в 1845—1847 гг. (см.: Bille S. Bencht uber die Reise der Corvette «Galatea» um die Welt in den Jahren 1845, 46 und 47. Copenhagen; Leipzig, 1852. Bd. 1—2; сравнение Сингапура с Венецией — Bd. 1. S. 329; краткое изложение этого сочинения: Плавание датского корвета «Галатея» вокруг света в 1845, 1846 и 1847 годах // ВестнРГО. 1854. Ч. 10. Отд. III. С. 35—78; Ч. 11. Отд. III. С. 1—68). Книга Билля имелась в библиотеке Гончарова (см.: Библиотека. С. 106—107). В X—XVI вв. Венеция была крупным центром посреднической торговли между Западной Европой и Востоком.
С. 271. ...Сиамом, Кохинхиной и Бирманской империе... — Сиам — современный Таиланд, Кохинхина (Cochinchma) — принятое в Европе название Южного Вьетнама в период французской колонизации, Бирманская империя — одно из крупнейших государств Юго-Восточной Азии (сложилось в середине XVIII в.), с 1886 г. — британская колония.
С. 271. ...спали на своих колючих глазетовых постелях... — Глазет (от фр. glacé — блестящий) — ткань с шелковой основой и золотой или серебряной битью (проволочной нитью), разновидность парчи. В XIX в. глазет находил применение только в церкви в литургическом облачении (ризах), воздухах, пеленах, нагробных покровах и пр.
С. 271. ...верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл, весь здоровый и свежий сок. — Ср. рассуждения на тему «уменья жить», «savoir vivre» в фельетоне Гончарова «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1849), а также комментарий к тексту фельетона (наст. изд., т. 1, с. 470—493, 789—791).
С. 271. ...никакие Крезы не достигают до геркулесовых столпов... — Богатство Креза (595—546 до н. э.), последнего царя Лидии (с 560 г.), вошло в пословицу. Геркулесовы столбы — древнее название предгорий на африканском и европейском берегах Гибралтарского пролива, граница обитаемого мира. Геракл обнаружил столбы по пути к великану Гериону или, по другой версии, сам соорудил их; «достигнуть геркулесовых столбов» — достигнуть предела.
С. 272. Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию например: уж, кажется, трудно выдумать наряднее эпанчу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после! Да одни ли Испания и Венеция?.. — Вследствие открытия морского пути вокруг Африки Венеция лишилась ведущей роли в торговле с Востоком; в войнах, возникших после Французской революции, утратила независимость. В 1797—1805 и 1814—1866 гг. Венеция — австрийская провинция, ее торговля и богатство пришли в упадок. Гончаров имеет в виду также расцвет Испании в эпоху Реконкисты (конец VIII—XV в.) и последовавший за этим экономический и политический упадок (XV—XVIII вв.); его рассуждения о судьбе Испании отсылают, скорее всего, к упомянутым выше (см. выше, с. 563, примеч. к с. 83) очеркам В. П. Боткина, в которых немалое внимание уделено причинам современных «тяжких политических страданий» страны (см.: Боткин. С. 12—13,
- 596 -
24—25, 34—35 и др.). К той же проблеме обращались и рецензенты «Писем об Испании»; так, А. В. Дружинин писал: «Много было говорено про упадок Греции и Италии, но что значит упадок сейчас упомянутых стран перед тем упадком, в каком находится несчастная родина дона Родрига и Кортеса, Кальдерона и Сервантеса, Веласкеса и Мурильо? <...> Тот упадок истинно страшен и печален, около которого все покрыто темнотой и безмолвием. В темноте и безмолвии, посреди общего равнодушия всей Европы, совершается плачевное падение Испании, рыцарской и благородной страны, „беспрестанно ворочающейся на одре болезни”, как безнадежный больной в страшной песни Данта. Подобно одинокому, всеми покинутому больному, безнадежно страдает край, когда-то потрясавший вселенную по своему произволу. Никто в образованной Европе не интересуется историею его недуга, ни в одной из соседних земель не отзываются скорби Испании, посреди холодного равнодушия зрителей льется ее кровь и истощаются ее силы. <...> С упадком политическим для Испании идет не только упадок нравственный, как оно всегда бывает, сама природа этой великолепной страны будто приходит в смертное изнурение, отказывается служить несчастному, всеми покинутому человеку» (Там же. С. 236—237). Эпанча (епанча) — длинный широкий парадный плащ.
С. 272. ...валансьенскими кружевами... — Кружева, производившиеся во французском городе Балансе (Valence).
С. 272. Нордкап — мыс на севере острова Магере у берегов Норвегии, северная оконечность Европы.
С. 274. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В Кантоне так называется бухта или верфь ~ только и его зовут Вампоа. ~ У него богатые магазины, домы и великолепная вилла...; см. также
с. 278—281: ...о даче Вампоа. ~ Европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку. — Вампоа (Хуанпу) — остров и порт с доками в дельте реки Чжуцзян. «Река раздваивается, — писал В. А. Римский-Корсаков, — и с двух сторон обтекает большой плоский остров. Это остров Уампоа. На нем большое селение, и перед селением стоит на якоре до 30 больших купеческих судов разных наций. Уампоа — это пристань для иностранной торговли. Далее его купеческие суда не поднимаются, потому что там и мелко, и тесно. Городок населен всем тем людом — торговым и ремесленным, какой необходим в торговых гаванях для корабельных потребностей» (Римский-Корсаков. С. 93—94); ср. также красочную зарисовку острова Вампоа у С. Билля (Билль. С. 42, 46—47). О поездке в Кантон на шхуне «Восток» адмирала Путятина и его спутников см. ниже, с. 600—601, примеч к с. 291. О посещении загородного дома «здешнего богатого купца, китайца Вампоа», «еще ребенком привезенного из Кантона в Сингапур», подробно рассказывал А. В. Вышеславцев (см.: Вышеславцев. С. 148—155), отметивший в частности: «Дом Вампоа — маленький музеум редкостей. Все размещено со вкусом и знанием, выставлено не напоказ, а служит для комфорта хозяина <...>. <...> Пестрота китайских фарфоров, костяные вещи, коллекция раковин, резная мебель — все это перемешивалось с предметами роскоши, необходимыми для комфорта образованного европейца» (Там же. С. 152—153). С. 277. ...жуковский табак... — Имеется в виду табак знаменитой петербургской фабрики Василия Григорьевича Жукова (1796 или
- 597 -
1800—1882); фабрика и магазин располагались в собственном доме Жукова на Фонтанке, возле Чернышева моста (см.: Бурнашев В. П. Вас. Жуков. // СПч. 1832. 17—20 дек.).
С. 278. Еще одно, последнее сказание... — Начало монолога Пимена (сцена «Ночь Келья в Чудовом монастыре») в трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1824—1825).
С. 279. ...ожидает своих Нимвродов. — Нимврод (Нимрод) — внук библейского патриарха Ноя, искусный охотник, «сильный зверолов перед Господом» (Быт. 10: 9).
С. 281. ...самой Сакунталы... — Легенда о любви царя Душьянты и Шакунталы (санскр. Cakuntala), воспитанной в лесной обители дочери нимфы Менаки и мудреца Вишвамитры, присутствует в двух различных вариантах в «Махабхарате» (I, 62—69) и «Падма-пуране»; наибольшую известность получила обработка легенды индийским поэтом Калидасой (предположительно V в. н. э.) в драме «Признанная по кольцу Шакунтала». Гончаров был знаком с этим сюжетом, скорее всего, по лекциям С. П. Шевырева, прослушанным на последнем курсе Московского университета (Шевырев приступил к чтению лекций 15 января 1834 г.). В курсе «Истории словесности всеобщей» он передавал в подробностях содержание «благоухающей <...> всеми ароматами пряного Востока» драмы Калидасы (см.: История поэзии: Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. М., 1835. Т. 1. С. 177—193). «А тут еще Шевырев, — писал Гончаров в мемуарном очерке «В университете», — тогда молодой, свежий человек, принес нам свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших — индийской, еврейской, арабской, греческой — до новейших западных литератур. <...> Как благодарны мы были ему за этот бесконечный ряд, как будто галерей обширного музея — ряд произведений старых и новых литератур, выставляемых им перед нами с тщательною подготовкою, с тонкой и глубокой критической оценкой их! <...> Долго без таких умных истолкователей пришлось бы нам потом самостоятельным путем открывать глаза на библейских пророков, на произведения индийской поэзии, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира — до новейших, французской, немецкой, английской литератур, словом — на все, что мы читали по их указанию тогда и что дочитывали после них». Сокурсник Гончарова, П. И. Прозоров, вспоминал о лекциях Шевырева: «Своими щегольски обработанными лекциями и одушевленными теплым дилетантизмом <...> Шевырев познакомил студентов с содержанием и формою поэзии индийцев ("Магаборатою”, „Рамайяною” и „Саконталою”)» (Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 111). Первый русский перевод (с английского) отрывков драмы Калидасы принадлежит Н. М. Карамзину — «Сцены из „Саконталы”, индийской драмы» (Московский журнал. 1792. Ч. VI, кн. 2—3).
С. 283. В начале июня мы оставили Сингапур. — Фрегат вышел из Сингапура 1 (13) июня (см.: Отчет. С. 148; Всеподданейший отчет. С. 173).
- 598 -
VII
ГОНКОНГ
С. 284. С первого раза, как станешь на Гонконгский рейд, подумаешь, что приехал в путное место ~ всё высокие зеленые холмы... — О. Аввакум записал в дневнике 14 июня 1853 г.: «В 8 часов обедня. Штиль. Дождь. Стояли против острова Лемве. Множество островов, покрытых мелкою зеленью. Местоположение красиво. Множество кит<айских> лодок. Подул ветерок, и течением принесло тотчас в Хон-Конг. В 12 ½ стали на якорь. Корсаков приехал и офицеры с шкуны „Востока”. Жарко» (Аввакум. С. 28).
С. 285. ...песку и камней неистощимое обилие. Англичане сумели воспользоваться и этим материалом. ~ Китайцам, конечно, не грезилось, когда они, в 1842 году, по Нанкинскому трактату, уступали англичанам этот бесплодный камень вместо цветущего острова Чусана, во что превратят камень рыжие варвары. ~ что они же, китайцы, своими руками и на свою шею, будут обтесывать эти камни... — Война Англии с Китаем (1839—1842), так называемая первая «опиумная», закончилась поражением Китая и подписанием в г. Нанкине договора, по которому Гонконг был отдан англичанам в вечное владение (подробнее об условиях Нанкинского договора см. ниже, с. 669, примеч. к с. 431). Э. Белчер (о нем см. выше, с. 567, примеч. к с. 106), прибыв в Гонконг в 1844 г. после первого его посещения в 1842 г., писал: «Перемены, произошедшие в Гонконге со времени нашего первого визита, почти невероятны. <...> В то время его северная часть была пуста, место будущего города еще не было даже намечено; сейчас, по прошествии всего немногим более двух лет, прекрасный город, мастерство, являющее самое себя, занимает весь фасад острова, протяженностью более мили, и здания, возведенные и заселенные, первоклассны как в отношении комфорта, так и великолепия» (Belcher. Vol. 1. P. 62). С. Билль, чьи впечатления от Гонконга относятся к 1846 г., вторил ему: «Гонкой служит разительным доказательством силы торговли. Первый камень его основания положили только за 4 года до нашего приезда; до этого же времени остров представлял обнаженную необитаемую скалу, притон одиноких рыбаков и пиратов. Но как скоро открыли пристань для торговли, то переселенцы всех наций стали стекаться тысячами. Правительство наняло 10 000 китайцев; берег очистили, взорвали скалы, обтесали камни, проложили дороги, осветили улицы, в граните иссекли водопроводы и настроили великолепных домов. Теперь наружность Гонкона самая блестящая и везде видна кипучая деятельность» (Билль. С. 39—40; к 1846 г. в городе было более полутора тысяч зданий — см.: Иванов Л. М. Гонконг: История и современность. М., 1990. С. 19). Чусан — принадлежащий Китаю остров в провинции Чекианг. Захваченный английской эскадрой в июне 1840 г., именно он, а не Гонконг, должен был по первоначальному плану англичан стать центром их торговли с Китаем (см.: Endacott G. B. A History of Hong Kong. London, 1959. P. 72). «Рыжие дьяволы» — вариант прозвища «красноволосые», возникшего в эпоху колонизации и подразумевавшего как у китайцев, так и у японцев всех европейцев (португальцев, голландцев, англичан и др.): светловолосые европейцы ассоциировались с изображением красноволосых демонов буддийского
- 599 -
пантеона (см. об этом: Кин Д. Японцы открывают Европу: 1720—1830. М., 1972. С. 20). У Гончарова «дезертирующие» из Англии англичане — «рыжие» (ср. — наст. изд., т. 2, с. 52, 533).
С. 285. Город Виктория состоит из одной, правда, улицы, но на ней почти нет ни одного дома... — О. А. Гошкевич в специальном очерке о Гонконге отмечал: «Город, которого собственное имя Виктория едва ли известно и всем жителям его, растянут над проливом, отделяющим остров от материка, и состоит из одной главной улицы, следующей очертаниям берега; она называется Королевскою дорогою (Queen’s Road), хотя как нынешней, так и будущей королевам Великобритании едва ли придется ездить по ней <...> главная улица прерывается посредине бульваром, от которого далее в гору разводится сад с извилистыми удобными дорожками, так что самая гора, прежде совершенно голая, ныне покрывается уже до известной высоты то тенистыми бамбуковыми аллеями, то рощами разнообразных деревьев» (Гошкевич О. А. Хонкон: (Из записок русского путешественника) // ТРДМ. Т. 3. С. 395—396). В письме к А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г. Гончаров писал о городе: «...он весь состоит из одной улицы, вырубленной в скале, но какая улица, какие дворцы на ней! Это клочок Regent-street или, пожалуй, нашего Невского проспекта. Надо вспомнить, что эта улица, дворцы и миллионеры существуют там только с 1842 года». Современное название г. Виктория — Сянган.
С. 285. Дня три я не сходил на берег: нездоровилось... — Гончаров сообщал из Гонконга Е. А. и М. А. Языковым 19 июня (1 июля): «Наши поехали в Кантон, я — нет: помешала проклятая лихорадка, приобретенная мной в Сингапуре. Вообще я несчастнейший человек в жарком климате. Лишь только вошли в Зондский пролив, я потерял аппетит, желудок ослабел, пищеварение испортилось и по телу пошла сыпь, так что я завтра принимаюсь за декокт. Всё это помешало мне отправиться вместе с нашими в Небесную империю, хотя мне следовало ехать, кроме любопытства, и по обязанности».
С. 288. Это всё переселенцы из португальской колонии Макао. ~ Макао опустел почти совсем. — Макао — город на острове в устье реки Чжуцзян, или Сицзян (Жемчужная река), против Кантона (см. ниже, с. 600—601, примеч. к с. 291), основанный в 1557 г. (принадлежал Португалии с 1680 г.); современный Аомынь. Макао был центром европейской торговли с Китаем до того, как она сосредоточилась в Кантоне. «Едва ли можно предположить, — замечал С. Билль, — чтоб Макао, который ныне тоже объявлен вольною гаванью, мог когда-нибудь соперничать с Гонконом, уже и потому, что гавань последнего одна из самых безопасных на всем китайском берегу, тогда как рейд в Макао слишком открыт, а внутренняя гавань доступна только для самых мелких судов» (Билль. С. 40). По свидетельству В. А. Римского-Корсакова, «Макао теперь уже покинут, заброшен, и только разве целебная сила его климата может привлечь к нему посетителей...» (Римский-Корсаков. С. 107).
С. 288. Ноги у всех более или менее изуродованы... — Китаянкам с детства бинтовали ступни ног, чтобы задержать их рост и придать особую форму. «В искалеченной ступне четыре малых пальца подгибаются компрессом, а большой палец растет, образуя с атрофируемыми следами пальцев как бы треугольник. От этого носок получается
- 600 -
острый...» (Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах / Пер. с китайского В. М. Алексеева. М., 1973. С. 539).
С. 289. ...к великолепным, построенным четырехугольником, казармам. ~ Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, или веранда... — С. Билль среди «великолепия гонконгских зданий» также выделял казармы, состоящие «из тройного ряда трехэтажных построек, лежащих на склоне горы одна над другою и соединенных между собою посредством крытых арок для защиты от палящих лучей солнца. Два большие четырехугольные двора, образуемые таким образом строениями, служат местом учения, парадов и снабжены колодцами, из которых вода проведена в кухни. Переднее и нижнее строение служит помещением для офицеров; здесь же у них бывает и общий стол» (Билль. С. 40). «Лучшее здание, по моему мнению, где соединено прекрасное с полезным, это казармы стоящего здесь полка, — писал О. А. Гошкевич. — Двухэтажный перистиль вокруг придает ему вид римского храма и защищает со всех сторон от солнечных лучей» (Гошкевич О. А. Хонкон. С. 396).
С. 290. Клуб — это образцовый дворец в своем роде ~ всё привезено из Англии. — Гонконгский клуб был открыт в 1845 г. С развитием колонии, в 1848—1851 гг., возникли также любительская драматическая труппа, клуб регаты г. Виктория, клуб крикета, клуб любителей верховой езды и др. (см.: Иванов П. М. Гонконг: История и современность. С. 234—235; Endacott G. B. A History of Hong Kong. P. 70). Коммодор М. К. Перри, посетивший остров в апреле 1854 г., писал о достижениях англичан в Гонконге: «...если коммерческие склады, доки и пирсы, торговая флотилия свидетельствуют о материальном благосостоянии, о социальном, интеллектуальном и религиозном прогрессе говорят клубы, читальные залы, школы и церкви» (Perry. Vol. 1. P. 158).
С. 290. ...помещается в здании, вроде монастыря, итальянский епископ с несколькими монахами. — Речь идет о католической зарубежной миссии (в Гонконге — с 1850 г.), контролируемой Семинарией иностранных миссий в Милане.
С. 291. Наши уехали в Кантон... — Кантон (Canton, Kuang-chou; современный Гуанчжоу) — главный город китайской провинции того же имени в устье реки Чжуцзян, или Сицзян (Жемчужная река), центр китайской торговли с Европой, единственный открытый порт (до 1842 г.). О поездке в Кантон на шхуне «Восток» см. подробный рассказ В. А. Римского-Корсакова (Римский-Корсаков. С. 92—106) и официальное донесение Е. В. Путятина (Отчет. С. 148—149). О. Аввакум, также участник поездки, записал в дневнике 17, 18, 19 и 20 июня: «В 5 часов утра отправились на шкуне в Кантон и в 6 часов вечера стали на якорь против фактории. Заняли квартиры в гостинице „Детская компаньйона”, содержимой китайцами. Ходили по улице и купили персиков»; «Письмо от адмирала передано кантонскому генерал-губернатору через американского консула. Утром до обеда ходили по китайским лавкам. Видели много превосходных вещей, но у нас они не имели бы никакого употребления, разве могли бы служить для показания искусства китайцев в разных отношениях. После обеда ездили в сад одного богатого купца. Дом отличный. Театр, беседка, пруды с ненюфарами. Разные дерева и цветы. Возвратились в 8 часов»; «Поутру получена бумага ответная от генерал-губернатора кантонского. Весь день пробыл я в гостинице,
- 601 -
занимался составлением ответа на китайском языке»; «В 7 часов утра снялись с якоря и отправились вниз по реке при противном течении от пролива. <...> Прибыли в Хон-Конг в 12 часов ночи» (Аввакум. С. 28—29). Ср. также: Диао Шаохуа. Гончаров и Китай // Гончаров. Материалы. С. 74.
С. 291. ...епископ сделал ему визит. ~ двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды; см. также
с. 470: Католический епископ в Гонконге сказывал... — О. Аввакум отметил в дневнике 23 июня: «Китайский епископ с двумя итальянцами и одним кит<айским> священником был у нас» (Аввакум. С. 30). Речь идет о Джордже Смите (Smith), направленном в 1844 г. в Гонконг англиканским Лондонским миссионерским обществом; с 1849 г. — первый епископ нового, с центром в г. Виктория, гонконгского диоцеза (в него входили и Китай, и Япония); здесь в 1851 г. им учрежден колледж Св. Павла — школа для священников-китайцев (см.: Endacott G. B. A History of Hong Kong. P. 70—71, 86). Училище пропаганды веры (Collegium de propaganda fide), созданное в 1627 г. для подготовки миссионеров, входило в состав основанной в Риме в 1622 г. Григорием XV Конгрегации пропаганды веры (Congregatio de propaganda fide), целью которой было распространение католичества. С. 291. ...посетил нас английский генерал-губернатор ~ он же и полномочный от Англии в Китае. Зовут его сэр Бонэм (sir Bonham), — Сэмюэл Джордж Бонэм (Bonham; 1803—1863) после губернаторства в английских колониях на Малакке и Сингапуре в 1837—1847 гг. был губернатором Гонконга в 1848—1854 гг.
С. 292. ...торговое заведение, с верфью, Джердина и Матисона. ~ В заведении Джердина выстроен дворец, около него разбит сад и парк...; см. также
с. 386: ...я вспомнил Гонконг и особенно торговое заведение Джердина и Матисона... — Британская торговая фирма, учрежденная представителем Ост-Индской компании Вильямом Джардином (Jardin) и Джеймсом Матисоном (Matheson) первоначально (в 1834 г.) в Кантоне и Макао, затем (в 1842 г.) перенесенная в Гонконг, просуществовала до 1905 г. и сыграла огромную роль в развитии колонии. «В числе достопримечательностей Гонкона, — писал С. Билль, — должно упомянуть и о купеческом доме, под фирмою Jardine & Matheson. Этот старинный и знаменитый торговый дом, присвоивший себе половину кантонской торговли и, несмотря на то, участвовавший, как говорят, в торге опиумом, построил себе на восточной части рейда особенную маленькую гавань, где помещаются принадлежащие ему суда. Недалеко от берега выстроено великолепное трехэтажное здание, содержащее в себе кладовые, конторы и т. п. и соединенное с пристанью посредством небольшой железной дороги. Позади и выше этого дома основал свою резиденцию сам Матисон в небольшом, но роскошно убранном доме. У него своя собственная полиция и своя стража; верфь его защищена батареею, а ночью лодки обходят дозором его корабли» (Билль. С. 40—41). По словам А. В. Вышеславцева, «две купеческие фамилии, напоминающие богатством и влиянием своим прежних венецианских и генуэзских аристократов, Джардин и Матесон <...> строили город с западного конца, прозванного по имени своих основателей, между тем как весь город назван именем королевы» (Вышеславцев. С. 179).
- 602 -
С. 292. Стен Биль, командир датского корвета «Галатея», полагает, что англичане слишком много посадили в Гонконг труда и денег и что предприятие не окупится. — «Почти невероятно, — замечал С. Билль, — что это только начинающее процветать место торговли могло, как утверждают, без убытка похоронить в известняке и камне столь значительные капиталы». Ссылаясь на «просвещенное» мнение английского губернатора Гонконга, капитан датского корвета предполагал, что многим торговым домам «будет трудно нести тяжесть таких мертвых капиталов» и, возможно, им «предстоит кризис, причиной которого явится единственно расточительное и чрезмерное строительство» (см.: Bille. Bd. 2. S. 14).
VIII
ОСТРОВА БОНИНСИМА
С. 294. ...что мы испытывали в ночи с 8-го на 9-е и всё 9-е число июля, выходя из Китайского моря в Тихий океан; см. также
с. 295—300: ...нас ветер кидал лишь по морю ~ Сердце хранит долго злую память о таких минутах! — Об урагане 8 и 9 июля 1853 г. см.: Отчет. С. 150—151; Всеподданнейший отчет. С. 174—175; ему посвящены также две специальные статьи: Болтин А. Шторм в Восточном океане, выдержанный фрегатом «Паллада» // МСб. 1855. № 7. Ч. V. С. 7—10; Замечания о шторме, выдержанном фрегатом «Паллада» в 1853 году // МСб. 1856. № 2. Ч. III. С. 459—468. «Тифон» вошел в число чрезвычайных происшествий с судами русского военного флота (см.: Обзор. Т. 1. С. 32—33; Т. 2. С. 103—104). О «тифоне» Гончаров рассказывал Э. А. Белавиной в письме с островов Бонин от 30 июля — 20 августа (11 августа — 1 сентября) 1853 г.: «Я от бессонницы и жестокой качки так ослабел, что едва через неделю поправился. Ни в каюте, ни на палубе — места не было: бросает из угла в угол как мячик и иногда обо что-нибудь ударит головой или плечом. Сколько шишек оказалось потом на голове, сколько ушиб<л>енных рук, ног, пятен на глазах или на ребрах! А одного несчастного матроса так ударило железным гаком (крюком) по голове, что пробило череп до мозга, и он умер. Я вовремя, в разгаре бури, ушел в капитанскую каюту на мягкий диван и не выходил целый день, а любовался морем из окна, хотя, впрочем, безобразнее его быть ничего не могло. Небо слилось с морем в серую массу; вода крутилась как кипяток; ничего не видать, кроме пены, водяных облаков и брызг, ничего не слыхать, кроме всезаглушающего воя ветра. Нет: больше бы не нужно эдаких картин! Бог с ними!» Ср. его рассказ в письме к Е. А. и М. А. Языковым от 31 июля (12 августа): «...8-го и 9-го июля, при выходе из Китайского моря в Тихий океан, на нас грянул ураган. К счастию, он задел нас концом, а то беда бы с нашим старым судном. Он изорвал в клочки три паруса и так расшатал грот-мачту, что она чуть не упала: Бог знает, спаслись ли бы мы тогда! Теперь поправляемся, чтобы идти дальше...» — а также рассказ о шторме в дневнике о. Аввакума 9 и 10 июля: «Прежний сильный ветер продолжался и к вечеру превратился в сильный шторм. При малых парусах неслись весьма быстро до 13 узлов. Качало-валяло донельзя. Не только бортами, а даже верхними сетками черпало воду, течь повсюду. Едва успевали
- 603 -
помпою откачивать воду. Книжные полки у меня обрушились, много книг перемочило и испортило. Постель всю перемочило. Я ночевал сидя в капитанской каюте»; «Ветер сделался тише. Осмотрелись: ванты у грот-мачты ослабли донельзя, подтянули талями; мачта едва держалась. Три паруса изорвало. Стульев и столов изломало большую часть» (Аввакум. С. 33). См., кроме того: Энгельгардт. С. 729—731.
С. 295. ...зайти на маленькие острова Ваши, лежащие к югу от Формозы... — Ваши (современное название — Батан) — группа островов в проливе Ваши, между Филиппинами и островом Тайвань (прежнее название — Формоза); принадлежали Испании.
С. 295. Там, говорят, живет испанский алькад, несколько монахов и есть индийские деревушки. — Эти сведения почерпнуты Гончаровым из книги Э. Белчера (о нем см. выше, с. 567, примеч. к с. 106), посетившего острова Ваши в ноябре 1844 г. Белчер сообщал о трех испанских монастырях на острове Батан (центральном в архипелаге), о нескольких малайских деревнях, находящихся там же, и о теплой встрече его экипажа алькадом, или капитаном, возглавлявшим небольшой гарнизон острова (см.: Belcher. Vol. 1. P. 68—70). Алькальд (алькад) (исп. alkalde) — представитель местной административной или судебной власти (см. также ниже, с. 734, примеч. к с. 580).
С. 295. 7-го числа вечером подошли к главному из островов, Батану, на котором, по указанию Бельчера, есть якорное место. ~ мы пустились далее и вышли в Тихий океан. — О якорном месте на острове Батан см.: Belcher. Vol. 1. P. 69. О. Аввакум записал в дневнике 7 и 8 июля: «В 6 часов подошли к островам манильским. Два острова остались в левой руке, а в правой виден был остров Баши; на нем есть католический монастырь. К востоку (NO) от него невдалеке лежит остров Батан. К северо-восточной оконечности его, довольно высокой, подошли в сумерки. Против мыса на море есть скала с острою верхушкою, как пирамида»; «Ночь всю ходили вдоль восточного берега острова Батана, взад и вперед, хотели стать на якорь против селения, но глубина (45 саж<еней>) не позволила. Утром в 6 часов при сильном попутном ветре пустились от берега прочь и шли во весь день весьма скоро. Ночью — тоже» (Аввакум. С. 32). См. также: Отчет. С. 149; Всеподданнейший отчет. С. 174.
С. 302. С приходом в порт Ллойд ~ Там ожидали нас: корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России... — Ллойд — порт на острове Пиль архипелага Бонин (см. ниже). «Паллада» вошла в порт 26 июля (7 августа), здесь же с 20 июля (1 августа) находилась шхуна «Восток». Корвет «Оливуца» под командованием капитан-лейтенанта Н. Н. Назимова (о нем см. ниже, с. 650, примеч. к с. 374) вышел из Петропавловска-на-Камчатке 31 марта (12 апреля) 1853 г. и прибыл в порт Ллойд 26 июня (8 июля) (см.: Обзор. Т. 1. С. 20, 33, 53; также: МСб. 1854. № 12. Ч. II. С. 211 (выписка из шканечного журнала «Оливуцы»)). На транспорте Российско-Американской компании «Князь Меншиков» (капитан И. В. Фуругельм), проследовавшем из Новоархангельска (город на острове Ситка (остров Баранова) у побережья Северной Америки, административный центр колонии Российско-Американской компании) на Бонин через Панаму и Сандвичевы (Гавайские) острова, 16 (28) июля прибыли «посланные с депешами» к Е. В. Путятину лейтенант А. Е. Кроун и В. К. Бодиско (племянник российского посланника в США А. А. Бодиско; о нем см. выше, с. 515—517).
- 604 -
Транспорт доставил также провизию, закупленную для эскадры Путятина в Гамбурге (см.: Обзор. Т. 1. С. 34; Отчет. С. 151; Всеподданнейший отчет. С. 175). «Депеши» от Министерства иностранных дел содержали инструкции (составленные при участии Ф.-Ф. Зибольда; см. об этом ниже, с. 629—630, примеч. к с. 329), следуя которым Путятин отправился не в Эдо, как предполагал первоначально, а в Нагасаки. О. Аввакум записал в дневнике 25 июля: «В полдень вошли в бухту острова Пиля, с западной стороны, и стали на якорь. Встретили командиры: корвета — Назимов, „Меншикова” — Фуругельм и шкуны — Корсаков» (Аввакум. С. 34). См. также у Б. М. Энгельгардта: «В порте Ллойд „Паллада” застала всю эскадру. Еще в Петербурге было решено присоединить к путятинской экспедиции в водах Тихого океана два из находившихся там судов. Рандеву первоначально было назначено в Гонолулу на Сандвичевых островах, а затем в связи с изменением маршрута „Паллады” — на Бонинсима. Здесь-то и поджидал запаздывавший фрегат транспорт „Князь Меншиков” и корвет „Оливуца”. <...> Кроме того, на транспорте прибыли курьеры из Петербурга и Вашингтона с депешами, предписаниями и письмами. Между прочим, Путятин получил из Министерства иностранных дел предписание начать переговоры в Нагасаки и, по возможности, воздержаться от посещения Иедо, чтобы не раздражать японцев» (Энгельгардт. С. 731; см. также выше, с. 589, примеч. к с. 239—240).
С. 302. Побольше остров называется Пиль, а порт, как я сказал, Ллойд. — Названия острову и порту были даны в 1827 г. Ф. Бичи (о нем см. ниже) в честь британского министра внутренних дел в 1822—1827 и 1828—1830 гг. Роберта Пиля (Peel; 1788—1850; позднее, в 1834—1835 и 1841—1846 гг., — премьер-министр) и Оксфордского епископа Чарльза Ллойда (Lloyd; 1784—1829). О своем пребывании на островах Бонин Бичи писал: «Присоединение территорий необитаемых островов сейчас составляет простую формальность, поэтому я <...> провозгласил острова собственностью Британского правительства, прибив к дереву медную табличку с гравированными на ней необходимыми данными. Поскольку гавань не имела названия, я назвал ее порт Ллойд, в знак почтения к епископу Оксфорда. Остров, на котором она расположена, я назвал в честь сэра Роберта Пиля, государственного секретаря Ее величества» (Beechey. P. 231). Имена английских ученых Бичи присвоил еще двум бухтам на острове Пиль, а также близлежащим островам (Ibid. P. 237).
С. 302. Острова Бонинсима стали известны с 1829 года; см. также ниже: Бонинсима по-китайски или по-японски значит Безлюдные острова. — Тихоокеанский архипелаг Бонин (или Бонинсима — от искаж. яп. Мунинсима: Безлюдные острова) состоит из 89 островов, объединенных в три группы: острова Перри, Бичи и Бейли. Архипелаг был открыт японским мореплавателем Огасавара в 1593 г. и назван его именем. Здесь до 1725 г. существовала японская колония для преступников, позднее острова были брошены и заселены вновь только в 1830 г. переселенцами с Сандвичевых островов (см. ниже). Несмотря на территориальные претензии Англии, США и России, острова с 1876 г. официально присоединены к Японии. Варианты японского названия островов (Мунинсима или Бунесима — Безлюдные,
- 605 -
Необитаемые) приводятся в книге Бичи (см.: Beechey. P. 237, 239).
С. 302. Из путешественников здесь были: Бичи... — Офицер английского флота, путешественник Фредерик Вильям Бичи (Beechey; 1796—1856) участвовал в экспедициях к Северному полюсу (1818—1819), к северному побережью Африки (1821—1822) и в плавании по Тихому океану и Берингову проливу (1825—1828); с 1854 г. — контрадмирал, с 1855 г. — президент Королевского Географического общества; автор описаний путешествий: Proceedings of the Expedition to explore the Northern Coast of Africa. London, 1828; Narrative of a Voyage to the Pacific and Beering’s Strait. London, 1831. Vol. 1—2; Voyage of Discovery to the North Pole. London, 1843. Бичи был на островах Бонин в июне 1827 г. и оставил их подробное описание (см.: Beechey. P. 227—240). Изложение сведений о его тихоокеанской экспедиции см.: Путешествие в Тихий океан и Берингов пролив, совершенное на королевском судне «Блоссом», под начальством Ф. В. Бичея, капитана королевского флота в 1825, 1826, 1827 и 1828 годах // Записки Ученого комитета Морского штаба. 1832. Ч. 8. С. 231—237.
С. 302. ...из наших капитан Литке... — Путешественник и географ Федор Петрович Литке (1797—1882) побывал на островах Бонин в апреле-мае 1828 г. во время кругосветной экспедиции 1826—1829 гг. и в своей книге об этом путешествии (СПб., 1834—1838. Ч. 1—3) дал описание островов и сообщил краткие сведения об истории их открытия (см.: Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин». 1826—1829. 2-е изд. М., 1948. С. 185 и след.).
С. 302. ...и, кажется, недавно Вонлярлярский... — Транспорт «Иртыш» под командованием капитана Ивана Васильевича Вонлярлярского (ум. 1853) посетил остров Пиль в марте 1845 г. и простоял там месяц, занимаясь «поверкой хронометров, запасением воды и дров» (Плавание транспорта «Иртыш» от Маниллы до Петропавловска // Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 1846. Ч. 4. С. 412).
С. 302. ...кроме того, многие неизвестные свету англичане и американцы. — Об этих мореплавателях, главным образом капитанах английских и американских китобойных судов, чье присутствие на Бонинсима было увековечено лишь прибитыми к деревьям табличками с именами и датами, подробно рассказывал Бичи (см.: Beechey. P. 229—231).
С. 302—303. ...и здесь живут люди, конечно всего человек тридцать ~ еще выходцы из Лондона, из Сан-Франциско... — В письме к А. Н. и А. И. Майковым от 29 июля (10 августа) 1853 г. Гончаров сообщал о Бонинсима: «Здесь живет человек 30, частию беглых матросов, частию бывших пиратов; они сеют овощи, плоды, разводят свиней, кур и продают всё это заходящим сюда китобоям. Те иногда платят за это деньги, а иногда берут даром — насильно». Согласно материалам экспедиции М. К. Перри, побывавшей на Бонинсима в июне 1853 г. (об экспедиции см. выше, с. 567—568, примеч. к с. 106, и ниже, с. 647—648, примеч. к с. 367), среди переселенцев с Сандвичевых островов (в 1830 г.) было пятеро белых — англичане, немцы и американцы, в том числе и Н. Севри (см.: Perry. Vol. 1. P. 230; также: Walworth. P. 60); о Севри см. ниже, с. 606, примеч. к с. 303.
- 606 -
С. 302. Они разводят ям, сладкий картофель, тара... — Ямс (ям, иньям) — группа видов (свыше 30) многолетних растений семейства диоскорея (Dioscorea), возделываемых в тропиках и субтропиках; съедобные клубни напоминают картофель. Сладкий картофель, или батат, — вид корнеплодных семейства ипомея (Ipomoea batatos) со съедобными ботвой и клубнями от 3 до 10 кг; растет в Центральной Америке, Индии, Индонезии, Японии, Италии, Испании. Таро — многолетнее растение семейства колоказия (Colocasia) с крупными клубнями, употребляемыми в пищу аналогично картофелю; одна из древнейших тропических и субтропических культур.
С. 303. ...мореплаватели, с своей стороны, стараются приобретать всё даром, как пишут в «Nautical Magazine»... — Морской журнал «Nautical Magazine» выходил в Лондоне с 1832 г. Сведения, указанные Гончаровым, не обнаружены.
С. 303. ...как нам подтвердил и сам Севри, или Севрэ, здешний старожил. — Владелец небольшой фермы на острове Пиль Натаниэль Севри (Savory; ум. 1874), выходец из штата Массачусетс, к 1853 г. остался единственным из первых переселенцев с Сандвичевых островов (см.: Perry. Vol. 1. P. 230; Vol. 2. P. 125). Исследованные в июне 1853 г. эскадрой М. К. Перри острова Бонин были признаны удобными для размещения здесь американской угольной базы; с Севри, объявленным губернатором, был подписан договор о покупке участка земли для строительства углехранилища. В порту Ллойд был поднят американский флаг, Перри заявил об аннексии островов (что вызвало официальный протест С. Д. Бонэма, английского губернатора Гонконга; о нем см. выше, с. 601, примеч. к с. 291). Ко времени второго посещения Бонинсима эскадрой Перри в апреле 1854 г. на острове Пиль была организована «Колония острова Пиль» с Севри во главе (см.: Ibid. Vol. 1. P. 226—244, 332—358; Vol. 2. P. 125—132; Walworth. P. 62; Полевой Б. П. Первые попытки США захватить острова Рюкю, Бонин и Тайвань (1853—1857) // Вопросы истории. 1952. № 12. С. 121—122; Файнберг Э. Я. Внутреннее и международное положение Японии в середине XIX века. М., 1954. С. 30).
С. 303. Но один потерпел при выходе какое-то повреждение, воротился ~ поколотил и обобрал поселенцев. ~ и преступник был схвачен, с судном, где-то в Новой Зеландии. Нынче и на Восточном океане от полиции не уйдешь! — Об этом эпизоде сообщается и в материалах экспедиции Перри; местом ареста преступника назван г. Гонолулу (см.: Perry. Vol. 1. P. 231). Восточным океаном в России до второй половины XIX в. назывался Тихий океан (также: Великий океан).
С. 303—304. Я ~ рискнул съехать на берег. ~ а это оказались раки ~ круглые, длинные, всякие. — Ср. запись от 28—29 июля в дневнике о. Аввакума: «В 9 часов утра с Гошкевичем, доктором и бароном Крюднером отправились в ту же бухту. Матросы купались в пруду, мыли белье, наливались в ручье пресною водою. <...> Бесчисленное множество четвероугольных раков, пестрых больших, черных малых и фиолетовых с белым брюхом. Пальмы трех сортов: зонтичная, на ней кисти плодов, капус<т>ная и пилообразная с большим гнездом волосистых пирамидальных орехов. Два сорта красного дерева, камфарное дерево, кардамон, папоротник одеревенелый и множество других неизвестных. Закусили там на берегу, отдохнули; выпарились в бане и вечером возвратились» (Аввакум. С. 35).
- 607 -
С. 304. Дня через два я опять отправился ~ в другую бухточку... — Ср. рассказ о. Аввакума (29 и 30 июля): «В среду утром ездили в среднюю бухту. Живет англичанин из Лондона с каначкою. Ели арбузы. Посажено таро, листом походит на ненюфар, лючусский сладкий корень, арбузы, тыквы, ананасы. Утки с утятами. Собаки»; «Утром ездили с Посьетом в южную бухту, где наливаются водою. Живет канак с каначкою, говорит по-английски. Сахарный тростник, таро, лючусский сладкий корень, арбузы, ананасы, лимоны. Три собаки, щенята» (Аввакум. С. 35).
С. 305. Прочитав, что сандвичане делают из него poï-poï... — Гончаров, скорее всего, не вполне точно передает сведения Ф. Бичи, хотя, возможно, им был использован иной источник. В главе, посвященной Сандвичевым островам, которые Бичи посетил в январе 1827 г., в частности, сообщается: «Среди других приятных вещей мы попробовали Leuhow, блюдо такого изысканного качества, что на плантации то и дело проводятся экскурсии ради удовольствия там пообедать; по этой причине пикник и Leuhow стали почти что синонимами. Ингредиенты блюда — верхушки таро и мидии, которых разводят в заводях; все это завертывается в большие листы и печется в земле, хотя иногда используется также домашняя птица или свинина» (Beechey. P. 105).
С. 305. 2-го августа. — О. Аввакум записал в дневнике: «Офицеры ездили обедать на берег. Вечером мы ездили на берег, пили чай и закусывали свежую рыбу, арбузы, ананасы» (Аввакум. С. 36).
С. 308. Бичи пишет, что в его время было так много черепах здесь, что они покрывали берег ~ на пути их ждали бесчисленные враги ~ пожирали шарки (акулы). — По словам Ф. Бичи, на островах «есть несколько песчаных бухт, в которых зеленые черепахи столь многочисленны, что почти скрывают цвет берега» (Beechey. P. 230); здесь же сообщается и о той опасности, которую для молодых черепах представляют птицы и акулы (шарка — от англ. shark).
С. 308. «Шарок, — пишет он, — было еще больше, нежели черепах, они даже хватали за весла зубами». — Ф. Бичи сообщал, что спущенная с его судна лодка была окружена акулами, «настолько дерзкими и прожорливыми, что они кусали весла и руль и, даже раненные лодочным якорем, много раз повторяли атаки» (Ibid. P. 231).
С. 309. Наконец 4-го августа, часа в четыре утра, я, проснувшись, услышал шум ~ кругом всё море да море... — Ср. запись о. Аввакума от 4 августа: «С 4-х часов начали поднимать якорь и подтягиваться к ветру. К восьми часам подняли паруса и пошли из бухты. По выходе поворачивали назад и ожидали шлюпок. „Меншиков” и „Оливуца” прошли мимо нас, а потом догнала и шкуна. Летучая рыба. Зыбь во весь день. Вечером ход малый. Ночь лунная. Ветер юго-восточный и потом восточный» (Аввакум. С. 36). О девятидневной стоянке фрегата на Бонинсима и отбытии из порта Ллойд 4 (16) августа см. также: Обзор. Т. 1. С. 33—34; Отчет. С. 151; Всеподданнейший отчет. С. 175—176.
- 608 -
ТОМ ВТОРОЙ
I
РУССКИЕ В ЯПОНИИ
В КОНЦЕ 1853 И В НАЧАЛЕ 1854 ГОДОВС. 313. Нагасакский рейд. С 10 августа 1853 года. — Русская эскадра подошла к Нагасакскому рейду вечером 9 (21) августа, «но, по малоизвестности его, не решилась войти в темноте и всю ночь держалась у входа под малыми парусами» (Отчет. С. 152; см. также: Всеподданнейший отчет. С. 176; Обзор. Т. 1. С. 35). 10 (22) августа вечером эскадра бросила якорь на среднем рейде Нагасаки.
С. 313. ...не путешествие, а прогулка ~ прошли 850 миль. — Ср.: Отчет. С. 151—152.
С. 314. Тут были Юлия, Клара... — Имя Юлия небольшому острову было дано в 1804 г. И. Ф. Крузенштерном, как и имя Клара, соответствовавшее европейскому Сент-Клер (см. об этом: Крузенштерн. С. 148). На карте Японии сохранилось 32 названия, данных Крузенштерном (см.: Попов К. М. Япония: Очерки развития национальной культуры и географической мысли. М., 1964. С. 285).
С. 314. ...Номосима, Ивосима... — Гончаров не вполне точно передает названия острова Носима, лежащего к северу от мыса Номо (Номодзаки), и острова Иодзима.
С. 314. Сима значит остров, саки — мыс, или наоборот, не помню. — Значение слов передано верно.
С. 314. Вот достигается наконец цель десятимесячного плавания, трудов. — Ср. созвучные по настроению строки (Всеподданнейший отчет. С. 176).
С. 314. ...и естественному, и народному, и всяким европейским правам... — Ср. упоминание тех же разделов права в «Обыкновенной истории» (наст изд., т. 1, с. 215, 761).
С. 314. ...и в горах — мы знаем уже — родится лучшая медь в свете...; см. также
с. 361: ...любовь к ~ превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах... — Самые разнообразные сведения, в том числе и о «естественных произведениях» Японии (меди, железе, золоте и серебре), сообщал В. М. Головнин в ч. 3 («Замечания о японском государстве и народе») своих «Записок» (о Головнине и его книге см. ниже, с. 625—626, примеч. к с. 326). «Меди в Японии чрезвычайно много, — писал он. — Японцы обивают ею кровли некоторых зданий, носовую часть своих судов, пазы или штыки. Из меди делается почти вся поваренная их посуда, курительные трубки и множество других безделиц <...>. <...> Известно, что голландцы в вывозе японской меди находили главную свою выгоду в торговле с сим государством, ибо в ней всегда есть знатная часть золота, которую японцы или не хотели, или не умели отделять. Нынче же они не так уже поступают, но отдают голландцам почти одну чистую медь» (Головнин. Записки. С. 347—348). О высоком качестве японской меди сообщали К. П. Тунберг (см.: Thunberg. P. 407), Ф.-Ф. Зибольд (см.: Зибольд. Т. 1. С. 99) и др. По сведениям «Библиотеки для чтения», «в конце семнадцатого столетия португальцы и китайцы вывозили 4500 тонн меди, а теперь вывозится ее не более 1800» (Япония. С. 18; статья заимствована из «Quarterly
- 609 -
Review» и сообщает сведения из книг голландцев Г. Мейлана и О. Фишера, изданных в 1830 и 1833 гг. в Амстердаме, — см.: Там же. С. 1). В статье «Япония и японцы» Е. Ф. Корш приводил следующие сведения: «Кроме горных заводов для выделки золотых, серебряных, железных и особенно медных руд у них есть оружейные и пушечные заводы. <...> Но медь важнейшее из всех горных произведений Японии, и ее одной было бы достаточно для обогащения этого края. <...> Вообще японцы искусные практические металлурги» (Корш. № 10. С. 51). С конца XVIII в. вывоз меди был строго ограничен.
С. 314. ...нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и ~ лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала XIX столетия. — «Золота очень много в Японии, — сообщал Ф.-Ф. Зибольд, — но разработка рудников или золотоносных песков несовершенна или ограничена благоразумною осторожностью правительства. Серебро редко и находится особенно на севере <...>. Алмазы, топазы и другие драгоценные камни не редки. Многие места богаты каменным углем, известью, фарфоровой глиной и пр.» (Зибольд. Т. 1. С. 99—100; см. также. Корш № 10. С. 51). О «каменном уголье, которое в Японии есть, но никуда не употребляется», упоминал В. М. Головнин (см.: Головнин. Записки. С. 356). «Уголь, который дает крылья и жизнь пароходной навигации, — писал английский автор, современник Гончарова, — и этим служит объединению всех частей земного шара, это минерал, к приобретению которого американцы имеют наибольший интерес. <...> Без свободного доступа к углю цепочка пароходной навигации останется разорванной. В этом смысле он должен цениться выше, чем все богатства золота, серебра и меди, которые содержат острова (Японские острова)» (Steinmetz. P. 56). О «самом дорогом минерале XIX столетия» см., в частности: Барбот де Марни. Каменный уголь и его значение в общежитии, технике и промышленности // БдЧ. 1853. № 3. Отд. IV. С. 1—36. Об открытии залежей угля на Сахалине см. ниже, с. 752, примеч. к с. 631.
С. 315. Но это что несется мимо нас по воде ~ у Кемпфера говорится...» — Энгельберт Кемпфер (Kaempfer; 1651—1716) — немецкий ученый (доктор философии, физики и естественной истории), путешественник; научной деятельностью занимался в Польше и Швеции; с 1688 г. — на голландской службе. В 1683—1684 гг. в качестве секретаря шведского посольства отправился через Москву, по Волге и Каспийскому морю в Персию; позднее поступил на голландский флот медиком и посетил Индию, Яву и Суматру. В 1690—1692 гг. жил в Японии; будучи врачом голландской Ост-Индской компании (о ней см. выше, с. 579, примеч. к с. 159), состоял в этой должности при дворе императора; собрал драгоценные сведения об истории, культуре, религии, флоре и фауне Японии (большая часть рукописей хранится в Британском музее). Автор двухтомного исследования, написанного по-немецки и изданного впервые на английском языке (The History of Japan. Together with the Description of the Kingdom of Siam. London, 1727); затем на латинском (1728), голландском (1729), французском (1729) языках; немецкое издание: Geschichte und Beschreibung von Japan. Berlin, 1777. Время прибытия эскадры Путятина (9 августа; по лунному календарю — 18 июля) совпало с концом буддийской церемонии «Бон» — праздником поминовения усопших, начинавшимся вечером 15 июля и продолжавшимся в некоторых частях Японии, в том числе и в
- 610 -
Нагасаки, до рассвета следующего дня. О празднике «Бон» Кемпфер писал: «Во время этого праздника люди приходят на всю ночь к могилам своих предков и родственников с огнями и фонарями. <...> Они верят, что души умерших, независимо от того, хорошую или плохую жизнь они вели, ходят вокруг и посещают свои прежние жилища» (Kaempfer. Vol. 2. P. 563). По сведениям Ф.-Ф. Зибольда, праздник «в честь душ умерших родственников или друзей» «кончается тем, что на воду спускают множество лодочек с фонарями, которые тонут более или менее скоро; по этому заключают об участи душ на том свете. <...> Японцы верят, что в это время души умерших прилетают взглянуть на прежние свои жилища при свете факелов и фонарей; вот почему Тунберг и другие называют его праздником фонарей» (Зибольд. Т. 1. С. 187). См. также о церемонии «Бон»: Корш. № 10. С. 64.
С. 315. ...Фаддеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу; см. также с. 316: Они еще с лодки всё показывали на нашу фор-брам-стеньгу ~ «Судно российского государства». ~ Через полчаса явились другие ~ привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения... — Утром 10 (22) августа Е. В. Путятин «приказал поднять на фор-брам-стеньге фрегата флаг уполномоченного Его императорского величества» (Обзор. Т. 1. С. 35); на брам-стеньгах каждого из судов эскадры были подняты белые флажки с японской надписью на хирагана (один из двух вариантов японской слоговой азбуки): «Судно Российского государства». В. А. Римский-Корсаков писал об этом: «9 августа вечером мы подошли ко входу в Нагасакский залив и продержались тут ночь под парусами, а на следующее утро в ясный, солнечный день построились в линию и пошли к заливу. Еще накануне с фрегата на все прочие суда послано было по коленкоровому значку с японской надписью, означающей „Русское судно”. Эти значки мы подняли на мачтах» (Римский-Корсаков. С. 116). Более подробный рассказ содержится в его же дневнике (запись от 10 августа): «С рассветом эскадра была в ордере и, при ровном бом-брамсельном о<ст>е, стала лавировать к Нагасаки. На всех четырех судах подняли на брам-стеньги небольшие белые значки с японскою надписью, которая означает „Русское судно”. В 8-м часу пристала к фрегату первая японская шлюпка. Мы видели в трубу, как прежде всего подана была с нее на палке какая-то бумага, а потом полез по трапу какой-то чиновник в сером шелковом халате. Другая такая же шлюпка, пройдя мимо нас, пристала к корвету. <...> К нам также пристала одна лодка. Несколько фигур в серых халатах сидело в кормовой будке. Одна из них подала на палке и нам бумагу. В бумаге по-английски и по-французски было написано несколько вопросов касательно имени и флага судна, цели его прибытия, имени командира, о грузе — словом, тех же самых, какие нам предлагались во всех колониальных портах. Это мне кажется шагом со стороны японцев к сношениям с европейцами, потому что бумага начинается фразою: „Все суда голландские или прочих наций, приходящие в японские порты...”» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 190—191). Пребывание иностранных судов в порту «закрытой» страны строго регламентировалось; губернатор Нагасаки прежде всего ставил условие «удержать за собой старинные правила и обычаи» (см.: Всеподданнейший отчет. С. 176). 9 (21) августа, сразу после получения известия о прибытии эскадры, им был отдан приказ об усилении охраны побережья. Японские чиновники, встретившие
- 611 -
эскадру за несколько миль до порта, передали на борт «Паллады» инструкцию, запрещавшую иностранным судам вход на внутренний рейд, высадку экипажей на берег и их общение с населением.
С. 315. Между большим и следующим пальцем шла тесемка ~ соломенную подошву. Это одинаково, и у богатых, и у бедных. — «Обувь японская состоит в соломенных подошвах или в деревянных колодках, — писал В. М. Головнин, — обыкновенно они носят так называемые на их языке зори: это не что иное, как подошвы, сплетенные плотно и чисто из соломы сарачинского пшена <...> от употребления зорей между теми пальцами, где вкладывается веревочка, столько места, что еще два пальца могли бы поместиться. Во всей Японии носят зори мужчины, женщины — и дети всякого состояния, с тою лишь разностью, что люди имущие покупают лучше, чище и красивее сплетенные, и притом с замшевыми стельками <...>. <...> Для японцев весьма нужно иметь такую обувь, которую они могли бы скоро снимать и надевать, ибо они всегда оставляют ее у дверей и ни в какой дом иначе не входят, как в одних чулках или босые» (Головнин. Записки. С. 336—337; сарачинское пшено — старое русское название риса). «Странно, — замечал И. Ф. Крузенштерн, — что японцы не умеют обувать ног своих лучше. Их чулки, длиною до полуикр, сшиты из бумажной ткани; вместо башмаков носят они подошвы, сплетенные из соломы, которые придерживаются дужкою, надетою на большой палец. Полы в их покоях покрыты всегда толстым сукном и тонкими рогожами, а потому и скидывают они свои подошвы по входе в оные. Знатные не чувствуют неудобности в сей бедной обуви, потому что они почти никогда не ходят, а сидят только во весь день, подогнувши ноги...» (Крузенштерн. С. 159).
С. 315. Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую ~ косичку ~ Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! — Речь идет о традиционной прическе самураев. И. Ф. Крузенштерн писал о ней: «Голова японца, обритая до половины, не защищается ничем ни от жары в 25 градусов, ни от холода в один и два градуса, ни от пронзительных северных ветров, дующих во все зимние месяцы. Во время дождя только употребляют они зонтик. Крепко намазанные помадою, лоснящиеся волосы завязывают у самой головы на макушке в пучок, который наклоняется вперед. Убор волос должен стоить японцу много времени. Они не только ежедневно оные намазывают и чешут, но ежедневно же и подстригают» (Крузенштерн. С. 159). Ср. рассказ В. М. Головнина: «Мужчины головы и бороды бреют, оставляя только длинные волосы вокруг задней части головы, то есть на висках и по всему затылку. Сии остальные волосы сбирают они вместе и на самой маковке, перевязав крепко тонким белым шнурком вплоть к самой голове, загибают наперед пучком длиною вершка в полтора и опять перевязывают тем же шнурком так, чтоб пучок плотно лежал по черепу. Сколь ни проста сия прическа, но и в ней японцы имеют свое щегольство, которое состоит в хорошей помаде и в том, чтоб волосы лежали сколько возможно ровнее и правильнее один к другому и казались не столько волосами, сколько твердым телом под лаком. А особливо пучок должен походить совершенно на четверогранный лакированный кусок дерева, имеющий сверху и по обеим сторонам выемки наподобие желобков. Японские волосочесы столь искусны, что и
- 612 -
действительно дают им сие сходство; такая прическа требует немало времени» (Головнин. Записки. С. 334).
С. 315—316. За поясом ~ заткнуты были две сабли, одна короче другой; см. также с. 317: Но не все имеют право носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит...; с. 345: ...и об одной, и о двух шпагах...; с. 352: ...сабли, даже по две за поясом у каждого... — По словам современного исследователя, самурайских мечей «было два длинный, двуручный, и короткий, типа кинжала. Ношение двух мечей было не только исключительной привилегией самураев, но и их святой обязанностью» (Искендеров. С. 56). В статье «Положение голландцев в Японии» в числе многих «замечательных подробностей» национальной жизни японцев отмечалось следующее: «...мужчины, принадлежащие к высшим классам, носят по две сабли, обе с одного боку, одну над другою; низшие классы носят только по одной сабле; а купцам и народу запрещено оружие. Знатный японец никогда не выходит со двора без сабли или, лучше сказать, без сабель» (БдЧ. 1843. № 3. Отд. VII. С. 103). Ср.: Зибольд. Т. 1. С. 130.
С. 316. ...у так называемых Ковальских ворот... — Имеются в виду «ворота», образуемые островами Иодзима (португ. назв.: Cavallos) и Коягисима. Извещение о запрете продвигаться в гавань далее острова Иодзима, т. е. далее наружного рейда, вручалось каждому прибывающему в Нагасаки иностранному судну.
С. 316. ...больших неприятностей ~ для губернаторского брюха; см. также ниже: ...один из нагасакских губернаторов, несколько лет назад, распорол себе брюхо оттого, что командир английского судна не хотел принять ~ подарков от японского двора. — Подобный эпизод неизвестен. Единственный случай, когда губернатор Нагасаки вынужден был совершить харакири, произошел в 1808 г. при заходе в залив Нагасаки под голландским флагом английского фрегата «Фаэтон». По рассказу В. М. Головнина, «несколько человек голландцев и японцев по повелению губернатора тотчас поехали на оное <судно>, где первых всех, кроме одного, задержали, а последних вместе с голландцем отправили назад сказать, что судно принадлежит англичанам и, как они в войне с голландцами, то всех людей сего народа увезут с собой в плен, если японцы не пришлют к ним известного числа свиней и быков. <...> Между тем оставшиеся на берегу голландцы склонили губернатора на сей выкуп, свиней и быков отослали на судно и выменяли за них захваченных голландцев. Губернатор за сие лишился жизни...» (Головнин. Записки. С. 175). По другой версии, узнав о прибытии в гавань английского фрегата, нагасакский губернатор «занялся приготовлением к обороне на случай вооруженного нападения со стороны англичан. Но он узнал, к величайшему своему ужасу, что на самом важном оборонительном пункте гавани, где должен был стоять гарнизон из 1000 человек, почти все люди находились в самовольной отлучке и командира тоже не было, так что нельзя было набрать более 60 или 70 солдат. <...> Через полчаса после отбытия английского корабля губернатор Нагасаки лишил себя жизни, чего требовал обычай страны. То же сделали и офицеры гарнизона, оказавшегося неисправным» (Буйницкий. № 10. С. 69, 73; события изложены по: Зибольд. Т. 2. С. 37—43; ср. также: Япония. С. 14—15; Зибольд МСб. С. 33; Венюков М. И. Обозрение Японского
- 613 -
архипелага в современном его состоянии. Берлин; СПб., 1871. С. 47—48; Belcher. Vol. 2. P. 47—48; Perry. Vol. 1. P. 50—53; Steinmetz. P. 416—418, Beasly W. G. The Modern History of Japan. New York; London, 1963. P. 40).
С. 316. ...но к нам явилась третья партия японцев ~ и привезла «разрешение» идти и на второй рейд. — «С первой японской шлюпки, подошедшей к нам еще в море, — писал К. Н. Посьет, — подали нам письмо от губернатора, не руками, а палочками. Письмо это заключало просьбу не идти далее островов Каваллос, то есть оставаться на наружном рейде; но не успели мы войти на этот рейд, как прибыла другая шлюпка с переводчиками; они нам привезли разрешение идти прямо на средний рейд...» (Посьет ОЗ. № 3. С. 122). В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 10 августа: «Вечером, когда уже эскадра делала последний галс ко входу, приехал от губернатора старший баниос (полицейский чиновник) и объявил позволение стать на среднем рейде, за островом Паппенберг.
В ½ 7 часа фрегат под всеми лиселями (ветер переменился), за ним шкуна и несколько поодаль корвет и транспорт, при звуках „Боже, царя храни”, миновали заветную узкость и стали на якорь на спокойном рейде, оживленном сотнями лодок под флагами и значками всех цветов, обрамленном живописными, обработанными, зеленеющими, цветущими берегами. Вход на малый рейд загорожен был цепью лодок с протянутою между ними веревкою. Точно так же загорожены были устья всех малых бухточек среднего рейда» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 191; также: Отчет. С. 152).
С. 317. Вскрывать себе брюхо — самый употребительный здесь способ умирать поневоле ~ Кто-то из путешественников рассказывает ~ искусство ловко, сразу распарывать себе брюхо. — Упоминаемый путешественник — Ф.-Ф. Зибольд (о нем см. ниже, с. 629—630, примеч. к с. 329). Он сообщает о харакири, предписанном кодексом чести самурая, следующее: «...мальчиков обучают <...>) великой тайне гара-кири, или искусству распарывать себе брюхо; честному японцу часто случается прибегать к этому роду смерти. Их учат уменью порядочно совершить эту операцию, с надлежащею для этого случая церемониею, и объясняют им разные причины, по которым такого рода самоубийство бывает необходимо благовоспитанному человеку» (Зибольд. Т. 2. С. 11).
С. 317. Третья партия японцев была лучше одета: кофты у них из тонкой, полупрозрачной черной материи, у некоторых вытканы белые знаки на спинах и рукавах — это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. — «В торжественных случаях, — писал Е. Ф. Корш, — где соблюдается более строгий этикет, они <японцы> надевают сверх обыкновенного платья парадную распашную мантию, хаури, с широкими отворотами на плечах и груди <...> на отворотах, на рукавах и на спине между плеч нашивается фамильный герб» (Корш. № 10. С. 34). О «хаури» писал и В. М. Головнин: «Это платье некоторым образом нарядное <...> там, где требуется вежливость и этикет, непременно нужен хаури, на котором как на рукавах, на полах против груди, так и на спине неотменно должен быть вышит герб фамилии; в другом же платье можно обойтись и без герба. <...> Черный цвет у японцев есть самый нарядный и почтенный; это же цвет праздничный; знатные люди носят верхнее платье по большей части черного цвета, белого же платья не бывает,
- 614 -
ибо этот цвет означает траур» (Головнин. Записки. С. 335, 337—338). «Все на многих местах верхнего платья, — писал И. Ф. Крузенштерн, — имеют фамильный герб, величиною с империал. Сей обычаи принадлежит обоим полам. <...> Величайшая почесть, которую князь или губернатор кому-либо оказывает, состоит в подарке верхнего платья со своим гербом. Посланнику нашему твердили неоднократно о великом счастии, если император благоволит подарить его платьем, украшенным гербом императорским. На платьях из японских тканей герб выткан; на сделанных же из китайских, нашивается» (Крузенштерн. С. 158—159). Ср. замечание В. А. Римского-Корсакова о гербах на одежде «всех должностных лиц», посещавших русские суда (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 194), а также: Зибольд. Т. 1. С. 128. Земледельцы, принадлежавшие к низшему сословию, «хаури» не носили.
С. 317. ...от сиогуна... — Сёгун (официальное «сэйи тайсёгун» — великий военачальник, покоряющий варваров) — глава сёгуната, светский правитель Японии (в отличие от микадо — «духовного императора»; о нем см. ниже, с 621—622, примеч. к с. 322), обладавший военной и политической властью при режиме бакуфу — с конца XII в. до 1868 г., т. е. до реставрации Мэйдзи. За всю историю японского сёгуната сменилось 39 сёгунов; в 1615—1868 гг. у власти находилась династия сёгунов Токугава.
С. 317. Они объявили, что они переводчики, оппер-толки и ондер-толки, то есть старшие и младшие. ~ а всех их около шестидесяти человек...; см. также с. 377: У них наследственные должности: сын по большей части занимает место отца. — Эти старшие и младшие японские переводчики (от гол. oppertolk и ondertolk), владевшие голландским языком, появились в начале XVII в. и происходили из семей, в которых сыновья наследовали профессию отца; таких семей насчитывалось около тридцати. Переводчики подчинялись нагасакскому губернатору и, помимо своих прямых обязанностей (контактов с голландской факторией — о ней см. ниже), осуществляли иногда и финансовые операции. По сведениям Э. Кемпфера, в Нагасаки в 1690 г. было 123 переводчика (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 332); по сведениям К. П. Тунберга, в 1775 г. — от 40 до 50-ти (см.: Thunberg. P. 283); Ф.-Ф. Зибольд в 1820-е гг. насчитывал «от шестидесяти до семидесяти присяжных переводчиков для голландского языка и еще более для китайского» (Зибольд. Т. 1. С. 158). Существует свидетельство, что в последние годы сёгуната работало 140 переводчиков.
С. 317. ...для сношений с голландской факторией. — Голландская фактория была основана в 1609 г. в г. Хирадо (в 80 км от Нагасаки) и в 1641 г. перенесена в Нагасаки на Дэсима (или Дэдзима; букв.: Выступающий островок (яп.)) — искусственный остров в форме части развернутого веера, созданный в 1636 г. для португальской фактории. Последняя существовала в Нагасаки в 1570—1639 гг., ликвидирована в связи с запретом христианства (см. об этом ниже, с. 640—641, 643, примеч. к с. 350—351, 356). Размещение фактории на острове, обнесенном каменной оградой с единственным охраняемым проходом, было продиктовано стремлением воспрепятствовать контактам японцев с иностранцами. Подробные сведения о фактории на Дэсима приводят все посещавшие Нагасаки путешественники (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 259—260, 310—354; Thunberg. P. 275, 291—293; Belcher. Vol. 2. P. 43—45; Зибольд. Т. 1. С. 137—202 и др.). «Библиотека
- 615 -
для чтения» в статье «Положение голландцев в Японии» сообщала: «Большой монастырь, называемый Дезима, так же оригинален, как все, что порождено затейливым воображением японцев: это искусственный остров, устроенный в бухте наподобие насыпи, или дамбы. Когда правительство начало не доверять иностранцам, оно позаботилось прежде всего о том, чтобы поселить их в таком месте, где бы за ними легче было присматривать <...>. <...> Когда сыну богов, императору, докладывали о том, какую форму рабы его должны дать острову, он молча указал на свое опахало. Поэтому остров получил форму веера. Впоследствии, по окончательном изгнании португальцев, место их в этой тюрьме заняли голландцы. <...> Остров лежит в нескольких саженях от берега, на котором стоит Нангасаки. Город соединяется с островом каменным мостом; но высокие стены мешают жителям того и другого видеть, что делается у соседа. Несчастным голландцам предоставлено только зрелище моря, а японским судам запрещено близко подходить к острову. В начале моста стоят крепкие железные ворота, охраняемые солдатами и полицейскими. Купцов, которых держат таким образом взаперти, как прокаженных, не может быть более одиннадцати, и, чтобы жить в Дезиме, надобно быть членом фактории. <...> Голландцы могут иметь дела только с такими купцами и ремесленниками, которые назначены правительством. <...> За исключением чиновников и переводчиков, никто не может побывать на Дезиме без особенного дозволения нангасакского губернатора» (БдЧ. 1843. № 3. Отд. VII. С. 104—105, 106, 107); см. также очерк истории фактории: Военский. № 10. С. 221—225. Голландская фактория сыграла исключительно важную роль в модернизации страны. К настоящему времени на месте бывшего острова построен Музей Дэсимы.
С. 317. ...семидесяти толковников. — Греческий перевод Ветхого завета — Септуагинта (от лат. Septuaginta — семьдесят), был осуществлен, согласно легенде, семьюдесятью переводчиками, приехавшими из Иерусалима в Александрию в 3—2 вв. до н. э.
С. 317. Они знают только голландский язык... — Некоторые переводчики знали также и английский язык (см. ниже, с. 625, 647, примеч. к с. 326, 367).
С. 317. ...выучиться по-японски. Но кто станет учить их? это запрещено под смертною казнью. — По свидетельству В. М. Головнина, находясь в плену, он не мог выучиться японскому языку, поскольку «японские законы запрещают учить христиан читать и писать» (Головнин. Записки. С. 227). О гонениях на христиан см. ниже, с. 640—641, 643, примеч. к с. 350—351, 356.
С. 317. Вообще всё: язык, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание — всё пришло к ним от китайцев; см. также с. 331: ...японцы и китайцы близкая родня ~ и те и другие вышли из одной колыбели, Средней Азии, и, конечно, составляли одно племя ~ В языке их, по словам знающих по-китайски, есть некоторое сходство с китайским; с. 333: Вам, может быть, покажется странно, что я вхожу в подробности о деле, которое, в глазах многих, привыкших считать безусловно Китай и Японию заодно, не подлежит сомнению. — Неизвестно, на что опирался Гончаров, высказывая подобное «мнение», разделяемое, по его словам, «многими», «всеми». Авторы, неоднократно цитируемые им в тексте очерка о Японии, отстаивали противоположный взгляд. Так, Э. Кемпфер, в полемике с распространенной точкой зрения о генетической
- 616 -
близости китайцев и японцев, посвятил исследованию этого вопроса особую главу в своей книге, настаивая на полной независимости японцев в языке (особенно в языке, по его словам, «абсолютно чистом и свободном от каких-либо смешений с языками соседей», — Kaempfer. Vol. 1. P. 84), религии, культуре, обычаях и образе жизни — «в еде, питье, сне, одежде, способе бритья головы, в приветствиях, манере сидеть и многом другом» (Ibid. P. 86). Ср. ниже (наст. изд., т. 2, с. 331) иронически поданную Гончаровым «концепцию» Кемпфера, который «выводит» японцев «от вавилонского столпотворения» (см. ниже, с. 631, примеч. к с. 331). По утверждению К. П. Тунберга, «абсолютно различны» как язык, так и религия китайцев и японцев (см.: Thunberg. P. 300—301). К середине XIX в. вопрос об этнической и языковой самостоятельности японцев (как потомков одного из домонгольских племен) был в достаточной степени прояснен. Так, например, Е. Ф. Корш в большой компилятивной статье «Япония и японцы», обобщающей сведения как путешественников (Кемпфера, Тунберга, Зибольда, Головнина), так и новейших исследователей, писал: «Японский архипелаг населен народом, который, при общем монгольском типе и более или менее аналогическом развитии, имеет довольно природного и приобретенного сходства с китайцами, однако ж представляет совершенно особое племя по языку. <...> Зибольд, изучавший японцев тщательнее всех своих предшественников, приурочивает их к отрасли монголов, населяющих северо-восточную часть азиатского материка <...> сходство, представляемое их языком с китайским и корейским, относится бесспорно к позднейшему времени, так как первобытные жители были действительно цивилизованы китайскими поселениями, да и впоследствии испытывали влияние китайской образованности, а через Корею получили буддизм. Все это легло в основу развития нынешнего японского народа, сильно окитаенного, что бы он себе ни говорил: нельзя же воспользоваться плодами чужой гражданственности, не подпавши влиянию ее привива» (Корш. № 9. С. 13). О влиянии на средневековую Японию китайской культурно-исторической традиции (в том числе о проникновении из Китая конфуцианства и буддизма) и, наряду с этим, об устойчивом японском «этноцентризме» см.: Сладковский М. И. Китай и Япония. М., 1971. С. 20—26; Чудодеев Ю. В., Каткова З. Д. Китай — Япония: любовь или ненависть? М., 1995. С. 7—24; Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы: Этнопсихологические очерки. 3-е изд. М., 1996. С. 97—111 и др.
С. 318. ...письмо к губернатору...; см. также с. 327: ...есть два письма: одно к губернатору, а другое выше...; с. 336: привезли ответ губернатора на письма от адмирала и из Петербурга. — Е. В. Путятин должен был доставить в Японию грамоту императора Николая I императору Японии, в которой было заявлено о мирных целях посольства и об обоюдовыгодной пользе для России и Японии от установления добрососедских отношений. Этот документ не был вручен адресату (см. об этом: Файнберг 1969. С. 75); сведения о том, что при правлении сёгуната император не обладал политической властью, Путятин, по-видимому, получил на Бонинсима из дополнительных инструкций (см. ниже, с. 629—630, примеч. к с. 329). Японским властям было объявлено о двух официальных письмах: государственного канцлера графа К. В. Нессельроде к губернатору
- 617 -
Нагасаки и в Верховный совет Японии (Городзю) (см.: наст. т., с. 87—88); см. также ниже, с. 639, примеч. к с. 344.
С. 318. ...они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах? — О том же вопросе сообщают Е. В. Путятин (см.: Отчет. С. 152, а также его письмо к Л. Г. Сенявину от 21 августа (2 сентября) 1853 г. — наст, т., с. 92) и Гончаров в письме к А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г. Ср. запись в дневнике В. А. Римского-Корсакова от 10 августа: «Сношения начались тем, что объявлено им о письме нашего правительства в Иеддо. При этом сделан был японцами вопрос: „Почему же для одного письма послано четыре судна?”. Такая наивная хитрость могла бы смутить хоть кого. Счастье, что Посьет нашелся и ответил, что число судов зависит от важности посылаемого лица» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 192). Тот же вопрос был задан японцами и коммодору М. К. Перри (о нем см. выше, с. 567—568, примеч. к с. 106), чья эскадра, состоявшая также из 4 судов, прибыла в Эдосский залив за полтора месяца до эскадры Путятина, 24 июня (8 июля) 1853 г. Перри отвечал, что количеством судов определяется степень почтения японскому императору (см.: Spalding J. W. Japan and Around the World. New York, 1955. P. 152; Lensen 1955. P. 9). О прибытии Перри в Японию см. также ниже, с. 647—648, 653—654, примеч. к с. 367, 385.
С. 319. Что это такое! ~ все улыбающаяся природа ~ Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу. — Ср. в очерке «Описание Нагасакского порта» А. Пещурова, гардемарина на «Палладе»: «Прибрежные окрестности Нагасаки гористы, бесплодны и утесисты; нужда, однако же, заставила жителей с невероятными усилиями возделывать самые крутые скаты, обращая их в террасы, засеваемые рисом и другими овощами <...>. <...> Таким образом, несмотря на неплодородие почвы, берега представляются роскошно убранными разного рода зеленью; редко можно найти места, так приятно поражающие взгляд новопришельца, как эти крутые и от природы бедные возвышенности» (МСб. 1856. № 1. Ч. III. С. 202; без подписи (в качестве приложения к «Отчету» Е. В. Путятина); об авторстве см.: Отчет. С. 155; Обзор. Т. 1. С. 38). Проникновенные строки сохранились и в дневнике В. А. Римского-Корсакова: «Бесподобная гавань — этот внутренний Нагасакский рейд. Сколько прекрасных бухточек вдается по его зеленеющим, живописным берегам. Как эти берега возделаны, заселены, какая на всем печать трудолюбия и опрятности! <...> Как хорошо раскинуты на полугоре казармы караульных — серенькие домики с белою полосою по окраине черепичных крыш своих; как прихотливо вьется к ним дорожка между зеленеющих кустов и больших сосен, венчающих здесь каждый клочок, не занятый посевом. Спокойнее здешней стоянки быть не может» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 187). Ср.: Крузенштерн. С. 149; Зибольд. Т. 1. С. 119—120, а также «Рапорт» Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 112).
С. 319. ...гербы Физенского и Сатсумского удельных князей... — Об удельных князьях см. ниже, с. 620, примеч. к с. 321. Хидзэн (Физэн, Фицэн) — старое название губерний Сага и Нагасаки; Сатсума — старое название западной части губернии Кагосима. Э. Кемпфер сообщал об исключительном богатстве обоих, Хидзэнского и Сатсумского, соседствующих княжеств (см.: Kaempfer. Vol. 2. P. 456).
- 618 -
С. 319. ...занавески заколебались и обнаружили пушки ~ Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки. — К. И. Лосевым, старшим артиллеристом на «Палладе» (о нем см. выше, с. 426—427), была написана статья «О нагасакских укреплениях», общий смысл которой сводился к тому, что «японцы не имеют понятия ни об инженерном, ни об артиллерийском искусстве». В рассказе о береговых батареях и «гребной флотилии» японцев, столь же «ненадежно защищенной, как и батареи», Лосев отмечал легкость японских военных лодок. «Это заставляет подозревать, — писал он, — что на них или вовсе нет орудий, или есть, да деревянные» (<Лосев К.> О нагасакских укреплениях // МСб. 1856. № 8. Ч. III. С. 300, 306; к статье прилагалась «Карта Нагасакского рейда»). Суждения Лосева получили спустя два года резкое опровержение в написанной «по личным наблюдениям» статье Л. Ф. Баллюзека, который настаивал на том, что японцы, как ученики голландской военной школы, прекрасно знакомы с «наукой фортификации» и «артиллерийским искусством». «Японцы народ умный, — замечал Баллюзек, — понимающий всю пользу, которую можно извлечь из европейской образованности; они быстрым шагом пойдут вперед — в этом нет никакого сомнения. Мы вообще так мало знаем о Японии, государстве, которому, по моему мнению, предстоит блистательная будущность, если только японское правительство умно поведет дела...»; о «занавесках» тот же автор сообщал: «Начиная с острова Паппенберг, ближе к городу, где фарватер идет в близком расстоянии от берегов, все батареи завешены бумажною полосатою матернею, черною или темно-синею с белым; посредине белый кружок с узором (герб князя)» (см.: Баллюзек Л. Ф. Несколько слов о японской артиллерии и об укреплениях Нагасакского порта // Артиллерийский журнал. 1858. № 2. С. 201, 208—209, 213). См. также ниже, с. 619, 654, примеч. к с. 319—320, 387.
С. 319. Отчего ж не Нангасаки ~ буква н прибавляется так, для шика... — Название Нангасаки (Нангазаки) употреблялось до середины прошлого века; под таким названием порт упоминается многими путешественниками (К. П. Тунбергом, В. М. Головниным, Э. Белчером и др.). Однако уже Э. Кемпфер последовательно использовал название «Nagasacki» и по этому поводу замечал только, что оно иногда произносится как «Nangasacki» (см: Kaempfer. Vol. 1. P. 259). Кроме того, в своей книге он дважды обыгрывал звучащее в названии «нет», рассказывая об изгнании из порта первого голландского судна, доставившего туда потерпевших кораблекрушение японцев, и о строгих регламентациях, существующих здесь для иностранцев (Ibid. Vol. 1. P. 2—3, 58). Один из современных Гончарову английских авторов также отмечал, что название города лишь иногда произносится как «Нангасаки» (см.: Steinmetz. P. 14).
С. 319. «Нагасаки — единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам», — сказано в географиях ~ прочие ходят без позволения. — К примеру, в «Краткой всеобщей географии» о Нагасаки сообщалось, что это «знатный торговый город с гаванью, в которой из европейцев одним только голландцам торговать позволено» (Пятунин А. Краткая всеобщая география. 4-е изд. СПб., 1834. С. 259). Законы о запрете христианства и «закрытии» страны (см. ниже, с. 640—641, 643, примеч. к с. 350—351, 356) предусматривали исключение для торговых контактов с Китаем и Голландией (поскольку
- 619 -
японские власти не относили протестантов-голландцев к христианам). Голландские суда могли входить в порт Нагасаки один раз в год — в июне или июле и оставаться там до сентября. С конца XVIII в. в Нагасаки «незаконно» заходили и суда других государств (ср. отмеченное В. А. Римским-Корсаковым изменение в тексте доставленной на борт официальной «бумаги» — с. 610—611, примеч. к с. 315), однако подобные случаи единичны. См. подробную хронику посещений Нагасаки и Эдо иностранными судами в 1820—1840-х гг.: Зибольд. Т. 2 С. 155—225; Belcher. Vol. 2. P. 46—49; Perry. Vol. 1. P. 53—62; Steinmetz. P. 408—426; Beasly W. G. The Modern History of Japan. P. 40—47.
С. 319—320. Там, налево ~ строится батарея ~ порядочная. — Имеется в виду батарея на острове Каминосима; упоминается как А. Пещуровым, так и К. И. Лосевым (об их статьях см. выше, с. 618, примеч. к с. 319). «Не доходя Паппенберга, на острове Каминосима, — записал в дневнике В. А. Римский-Корсаков, — построены, как видно, недавно батареи с каменною одеждою. Нижняя батарея поставлена с соображением и знанием военного дела: она обстреливает суда на подходе — вдоль и на проходе — поперек, à fleur d’eau <вдоль поверхности воды — фр.>. На обеих по шести орудий, в том числе несколько медных тяжелого калибра, на корабельных станках» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 191—192). По данным Лосева, на трех рейдах Нагасаки было 38 батарей со 137 орудиями, причем 45 орудий были установлены на батареях во время пребывания в порту эскадры Путятина (см.: <Лосев К.> О нагасакских укреплениях. С. 304).
С. 320. Где же здания, дворцы, храмы, о которых пишет Кемпфер и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число?; см. также с. 386: Немудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов... — В Нагасаки и вне его Э. Кемпфер насчитывал 62 храма (синтоистских, буддистских и иных); восемь из них он описал подробно; в Миако, по его данным, было 3893 храма (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 260; Vol. 2. P. 609—615; 416). Гончарова могли привлечь описания храмов, расположенных вблизи Нагасаки. По словам Кемпфера, «эти храмы служат не только для исповедания веры, но и для отдыха и развлечения, имея для этих целей прекрасные сады, элегантные прогулочные места и благоустроенные дома, пожалуй, лучшие в городе...» (Ibid. Vol. 1. P. 260).
С. 320. ...у горы Паппенберг...; см. также с. 387: ...с Паппенберга некогда бросали католических, папских монахов, отчего и назван так остров. — Описание этой горы дается далее в тексте (наст. изд., т. 2, с. 387). По словам А. Пешурова, остров Паппенберг (яп. Такахокосима; русское название — Попова, Поповская гора) «имеет около ½ мили в окружности и составляет высокую гору, покрытую кедрами, соснами и разными хвойными деревьями. Гора оканчивается с трех сторон, западной, южной и восточной, более или менее крутыми обрывами и доступна для входа только с севера и северо-востока. Утесистые берега Паппенберга приглубы...» (<Пещуров А.> Описание Нагасакского порта. С. 205—206). Э. Кемпфер приводит как японское (Така-Боко — Бамбуковая гора), так и голландское (Паппенберг) названия горы; последнее, по его словам, «основано на легендарной истории о католических монахах, будто бы сброшенных с нее прямо в море во времена гонений» (Kaempfer. Vol. 1.
- 620 -
P. 254). О преследовании христиан в Японии см. ниже, с. 643, 644, примеч. к с. 356, 361.
С. 320. ...узенькую бухту Кибач... — Речь идет о бухте Кибати.
С. 320. ...с островами Кагена, Катакасшна, Каменосима... — Так Гончаров передает названия расположенных близ среднего рейда островов Кагэноосима, Каминосима (позднее соединен с островом Кюсю) и, по всей вероятности, — острова Такахокосима (Паппенберг).
С. 320. ...из волшебного балета?; см. также с. 341: ...просидел ли в волшебном балете ~ Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном вкусе... — Популярность волшебных (сказочных, фантастических) балетов связана с петербургскими постановками Шарля Дидло («Зелиса и Альсинор, или Лес приключений», 1809; «Роланд и Моргана, или Разрушение очарованного острова», 1812; «Хензи и Тао, или Красавица и чудовище», 1819 и др.), Филиппа Тальони («Сильфида», 1835; «Дева Дуная», 1837; «Тень», 1839; «Озеро волшебниц», 1840 и др.), Жана Коралли («Жизель, или Вилисы», 1842; «Пери», 1844), Жюля Перро («Эолина, или Дриада», 1846; «Сатанилла», 1848; «Питомица фей», 1850 и др.). Рецензируя волшебный балет «Питомица фей», Ф. Кони писал: «...это балет фантастический: сто тысяч процентов уже на его стороне. Балет, по-моему, все то же, что сон, и чем он запутаннее, чем отвлеченнее от всего правдоподобного, тем он увлекательнее. Как самое неестественное явление сцены, балет должен быть пестрой фантасмагорией, где образы вещественного мира приобретают какой-то нечеловеческий мечтательный вид, растут, увеличиваются, преувеличиваются, переходят за границы всего вероятного и переносят воображение зрителя в туманную область мечты, нежа и раздражая его своими невозможными формами, своими непонятными побуждениями...» (Кони Ф. Балет в Петербурге // Пантеон и репертуар русской сцены. 1850. Т. 2, кн. 3. Театр, летопись. С. 44—45). Ср. рассказ о церемонии в письме Гончарова к Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 (27) сентября 1853 г.: «...вся эта сцена будто вырвана из какого-нибудь фантастического балета или оперы. Я думал, что я сижу в партере Большого театра или вижу одну из тех картин, которых действительности не веришь».
С. 321. ...«мышьей беготни», по выражению поэта! — Заимствование из пушкинских «Стихов, написанных ночью во время бессонницы» (1830) (см.: наст. изд., т. 1, с. 807).
С. 321. Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от сиогуна, платят ему дань и содержат войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей. — Княжества в Японии представляли собой самостоятельные административно-хозяйственные единицы (как Э. Кемпфер, так и Ф.-Ф. Зибольд сообщали о 604 княжествах, или «государствах», — см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 70; Зибольд. Т. 1. С. 76). Правители княжеств (даймё) пользовались неограниченной властью над подчиненным населением, имели собственные отряды самураев и, по словам В. М. Головнина, «управляли в своих владениях как самодержавные государи» (Головнин. Записки. С. 320).
С. 322. ...в Едо, к сиогуну... — Эдо (Едо, Иедо) — столица светского правителя Японии, сёгуна; город основан в 1456 г., в 1868 г. переименован в Токио.
- 621 -
С. 322. ...в Миако, к микадо, сыну неба...; см. также с. 351: Известно, что этот микадо (настоящий, законный государь, отодвинутый узурпаторами-наместниками, или сиогунами, на задний план) не может ни надеть два раза одного платья, ни дважды обедать на одной посуде. ~ сиогун аккуратно поставляет ему обновки, но простые, подешевле; с. 352: ...микадо. Этот прямой и непосредственный родственник неба, брат, сын и племянник луны ~ сидит с своими двенадцатью супругами и несколькими стами их помощниц, сочиняет стихи, играет на лютне... — Миако — обозначение столицы, в то время расположенной в г. Киото; микадо — титул японского императора. Лишенный при режиме бакуфу военной и политической власти (см. выше, с. 614, примеч. к с. 317), японский император сохранял роль главы государства с сакральными и духовными функциями: поддерживал непрерывность «небесной» генеалогии — определявшуюся синтоистской доктриной связь с космическими силами (микадо — потомок богини солнца Аматэрасу и ее представитель на земле, также родоначальник всех японцев); обладал правом составления календаря, что символизировало его власть не только над пространством, но и над временем; причислял живых и умерших к пантеону почитаемых божеств (ками) и т. д. (см.: Earl D. M. Emperor and Nation in Japan: Political Thinkers of the Tokugawa Period. Seattle, 1964. P. 7—29; Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика. М., 1990. С. 14—24). Императорский двор находился в жесткой финансовой зависимости от дома Токугава, при этом размеры жалованья двора уступали доходам средних феодальных князей; была ограничена и личная свобода императоров, живших в полной изоляции и не имевших права покидать дворец в Киото. Приведенные Гончаровым сведения почерпнуты им главным образом у Э. Кемпфера, писавшего о некоторых особенностях культа императора как о «забавных и вызывающих» с точки зрения обычаев других наций. Упоминалось, в частности, что священная особа императора не должна касаться земли (поэтому императора носят на руках) и находиться на открытом воздухе (поэтому микадо никогда не покидает дворца); что микадо не стрижет волос, бороды и ногтей, поскольку сакральны все части его тела (стрижка происходит ночью во время сна) и т. д. Посуда и одежда используются микадо один раз, так как прикосновение к ним простого смертного грозит последнему болезнями и физическими страданиями. Кемпфер сообщал также о значении одного из титулов императора (тэнно — «сын неба»), о времяпрепровождении самого микадо и его двенадцати жен и о «блеске нищеты» императорского двора (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 149—154; ср.: Зибольд. Т. 1. С. 296—304). В инструкции, составленной для посольства Н. П. Резанова (см. ниже, с. 637, примеч. к с. 340), отмечалось, что «духовный император» «ведет жизнь в пышности, почтении, но совершенном ничтожестве, так что, имея собственную столицу, забыт он в народе и, следовательно, вам о доступе к нему отнюдь не домогаться» (Военский. № 7. С. 136). Ср. сведения, которые сообщала о микадо «Библиотека для чтения»: «Особу его охраняют от всякого нечистого прикосновения, предоставляя ему, впрочем, иметь одну законную жену и двенадцать наложниц. Сверх того, развлекается он музыкой, поэзией и науками. Трубки и посуду употребляет он только по одному разу, после чего они тотчас разбиваются; зато и подают ему самые простые, соразмерно
- 622 -
с определенным для него скромным содержанием» (Япония. С. 9). По словам В. М. Головнина, микадо «пребывает всегда невидим для всех классов граждан, кроме штата его двора и вельмож, от светского императора временно к нему посылаемых. <...> Ест он всякий раз на новой посуде, а всю ту, которую он однажды употребил, тотчас разбивают. Причина сему, по словам японцев, есть та, что никто недостоин после него употреблять ту же посуду, а если кто дерзнул бы с намерением или стал по ошибке на ней есть, того тотчас постигла бы смерть» (Головнин. Записки. С. 315—316). См. также ниже, с. 784—785, примеч. к с. 731.
С. 323. Гребцы гребли стоя, с криком «Оссильян, оссильян!»; см. также с. 324: Лодки хоть куда ~ Весло привязано к лодке, и гребец, стоя, ворочает его к себе и от себя. — Гончаров передает одно из японских восклицаний типа «Хэссинсё, хэссинсё...», или «Эссинъёйса, эссинъё», или «Ёссириёйса, ёссириёйса». По замечанию Н. Г. Шиллинга, японские гребцы (уже не в Нагасаки, а близ селения Мэасима в 1855 г. — подробнее см. ниже, с. 791, примеч. к с. 736) «в такт вдыхают воздух и при этом издают какой-то странный звук» (Шиллинг. С. 50). Ср. рассказ А. Пещурова: «На всех шлюпках японцы гребут стоя; весла расположены по бокам, и во время гребли часть их движется в одну сторону, а часть в другую, образуя таким образом род винта. При дружном содействии гребцов и большом навыке этот способ гребли нисколько не уступает нашему, а во многих случаях даже лучше <...>. <...> Для дружного действия гребцов имеется в корме барабан, который означает такт; за неимением же барабана, становится один из прислужников и означает такт ударами бамбука о палубу, а на всех вообще лодках, вдобавок к этому или взамен того и другого способа означать такт, гребцы издают мерные пронзительные крики» (<Пещуров А.> Описание Нагасакского рейда. С. 213). О японских лодках В. А. Римский-Корсаков сообщал: «Шлюпки эти похожи конструкциею на китайские, только гребля на них совсем особенная. Снаружи борта, кругом всего привального бруса, выдается другой наружный брус, отделяющийся на фут от привального и соединенный с ним перекладинами, которые служат уключинами. Японский гребец просовывает между бортом шлюпки и наружным брусом весло и, упирая его на перекладину, не гребет, а таланит. Гребцов обыкновенно шестеро, седьмой с кормы помогает грести и править. Гребут они стоя, сильно, энергически напирая на весла и откачиваясь назад, и их обнаженные медно-красного цвета фигуры большею частью хорошо сформированы, с резко обозначенными мускулами: их бритые лбы и собранные на темя в пучок жесткие волосы, угловатые черты лица придают японской лодке вид галеры средних веков. Все они совершенно голы, исключая узенькой повязки кругом пояса и под пахом. Японский тип мне нравится более, нежели китайский. В физиономии их более энергии и смелости, нет ничего жидовского и рабского ни в манере их, ни во взгляде» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 190—191). Об «однообразных, в один такт, припеваниях гребцов» в Нагасакском заливе Римский-Корсаков упоминал и в письме к родителям от 19 августа 1854 г. (см.: Римский-Корсаков. С. 116).
С. 323. ...сыграли гимн «Коль славен наш Господь в Сионе»... — Начальная строка так называемого амвросианского гимна «Те Deum laudamus», приписываемого Амвросию, епископу Медиоланскому
- 623 -
(IV в.): «По одному преданию, он был написан Св. Амвросием в благодарность за окончательную победу над арианством. По другому сказанию, он был воспет вдохновенно Св. Амвросием и Августином во время крещения последнего первым, когда они стояли в источнике» (Поснов М. Э. История христианской церкви (до разделения церквей — 1054 г.). Брюссель, 1964. С. 495).
С. 324. ...оппер-баниосы, ондер-баниосы ~ еще куча сволочи, их свита. — Слову «баниос» (от гол. opperbanjoost, onderbanjoost) В. А. Римский-Корсаков дает такое толкование: «Как кажется, баниос у японцев есть не чин или сан, а временное звание, сообщаемое старшими лицами всем чиновникам, которым от них вверяется какое-либо поручение. Так что, кажется, слово это равносильно нашему слову „поверенный”. Так, например, три или четыре чиновника, приезжавшие постоянно для переговоров с адмиралом на фрегат, были поверенные губернатора, или баниосы. Их обыкновенно называют голландцы обер-баниосами, тогда как многие другие низшего разряда, например привозившие зелень, мясо, воду, ибо ни одной лодке не дозволялось пристать без чиновника, были просто баниосы.
При баниосах всегда бывают переводчики. Перед обер-баниосами переводчики не только при официальных свиданиях, но и тогда, когда начинается угощение, например, и, следовательно, завязывался частный разговор, склоняли голову ниже пояса, выслушивая их фразы и передавая им наши. В этом случае, казалось, они относили свое почтение к лицу губернатора, представляемого баниосами, а не к самим баниосам, потому что едва ли старшие переводчики были младшие чином, нежели многие обер-баниосы, если судить по знакам на их одежде» (Римский-Корсаков. С. 237). Он же отмечал: «Смотря по униженному вниманию свиты, по поклонам чуть не до земли, надо было думать, что баниосы очень важные особы, но, по словам Крузенштерна, их значение простирается лишь на то время, покуда они облечены поручением губернатора, а в остальное время они ничего не значат» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 192). «Чрезвычайная покорность, — писал И. Ф. Крузенштерн, — с каковою говорили толмачи с баниосами, заставляла нас вначале высоко думать о достоинстве сих чиновников; но, наконец, узнали мы, что чины их сами по себе весьма малозначащи. Великое уважение оных продолжается до тех пор, пока находятся в исполнении своих должностей по повелению губернатора» (Крузенштерн. С. 158). Здесь: сволочь — «всякий люд» или «мелкий люд» (ср.: Даль. Т. 4. С. 154). О визите на «Палладу» оппер-баниосов см. в письме Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 августа (2 сентября) 1853 г. (наст. т., с. 90—91).
С. 325. ...были еще цветные шелковые же юбки с разрезанными боками и шелковыми кистями. — По словам В. М. Головнина, нижнее парадное японское платье «это настоящая юбка, и японцы также ее надевают сверху своих длинных халатов, с тою токмо отменою, что юбка сия поуже наших женских и посредине, начиная от самого подола до колен или несколько выше, сшита так, что шов сей разделяет обе ноги. Сим платьем японцы очень щеголяют. Когда нас водили к губернаторам, то как они сами, так и знатнейшие чиновники почти всякий день имели переменное исподнее платье: зеленое, голубое, лиловое или какого-нибудь
- 624 -
другого цвета, сделанное из толстой, подобной гродетуру, шелковой материи, верхнее же платье всегда было черное» (Головнин. Записки. С. 336). Как замечал И. Ф. Крузенштерн, нижнее платье японцев, «длиною по самые пяты», «подобно одежде европейских женщин, с тою притом разностью, что внизу гораздо уже и в ходу очень неудобно» (Крузенштерн. С. 158).
С. 325. По-японски их зовут гокейнсы. — Точнее: гокэнси.
С. 325. ...по одной завернули в свои бумажки ~ даже спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря; см. также с. 329: ...и завертывали в бумажку то конфекту, то кусочек торта ~ все спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху... — О забавлявшем русских моряков поведении японских чиновников и дипломатов Н. Г. Шиллинг вспоминал: «Они во время обеда без церемонии завертывали в бумагу все, что им нравилось: хлеб, пирожное, куски мяса, варенье, все это пряталось в широкие рукава халатов» (Шиллинг. С. 25, рассказ относится ко времени пребывания Путятина в Симода). «Чего посетитель не доест, — писал Е. Ф. Корш, — он тщательно завертывает в бумагу и кладет в завязанный край широких рукавов своих, служащий ему карманом. Обычай уносить домой все недоеденное распространен в целой здешней стороне; на больших обедах слуги званых гостей приносят с собой корзины, нарочно устроенные для помещения остатков трапезы» (Корш. № 9. С. 25).
С. 325. ...один переводчик ~ по имени Льода... — Сицуки Рёта (1802—1868) представлял одиннадцатое поколение переводчиков с голландского из дома Сицуки; с 1849 г. — оппер-толк.
С. 325. «Хи, хи, хи!» — твердил переводчик отрывисто ~ Частица «хи» означает подтверждение речи, вроде «Да, слушаю». Ее употребляют только младшие, слушая старших; см также с. 346: И они ~ хикали, когда те обращали к ним речь; с. 353: ...хикает и перед губернатором, и перед нами; с. 485: ...сидел в уголку и хикал на все стороны ~ «Хи!» — отозвался он... — Более точная огласовка: «Хе». По этому поводу И. Ф. Крузенштерн писал: «Если баниос говорил что толмачу или другому кому из сопровождающих его, то сей, подползши к ногам баниоса, наклонял к земле свою голову и беспрестанно повторял односложное слово: „е, е”, которое означает „слушаю, разумею”» (Крузенштерн. С. 158). Ф.-Ф. Зибольд также отмечал, что японцы в разговоре постоянно произносят «„хе! хе! хе!” самым слабым голосом» (Зибольд. Т. 2. С. 20).
С. 325. Потом, когда гокейнс кончил, Льода потянул воздух в себя... — Ту же особенность японского этикета отмечал В. А. Римский-Корсаков: переводчик, по его словам, «излагал перевод речи, по временам, на точках втягивая особым образом воздух губами, что прерывало его речь краткими всхлипываньями или шипеньями. Это, как я слышал, знак почтения, показывающий, что говорящий счастлив тем, что может вдыхать воздух той высокой особы, с которой он имеет честь говорить» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 193). Переводчик, по замечанию И. Ф. Крузенштерна, обыкновенно «вздыхал с некоторым шипением, как будто желая вдохнуть в себя воздух, окружающий его повелителя. <...> Такое шипящее дыхание есть всеобщее изъявление учтивости между японскими знатными» (Крузенштерн. С. 158).
С. 325. Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую. — Об осуществлявшейся сёгунатом политике сыска и
- 625 -
контроля (мэцукэ-сэйдзи) см, например: Файнберг 1960. С. 10. Аналогично Гончарову оценивал эту «систему» и В. А. Римский-Корсаков, писавший: «При их политике, в высшей степени подозрительной, и поддерживаемой системе взаимного шпионства, подобной иезуитской, едва ли японец, младший саном, согласится без предварительного на то разрешения высказать что бы ни было, хотя бы малейшую мелочь частной жизни, о японце высшего сана, особенно иностранцу. <...> Это взаимное шпионство висит, как меч Дамоклеса, над головою каждого японца. У них это так устроено, что если б я, например, не донес на вас, когда заметил за вами что-нибудь подозрительное, то рисковал бы подвергнуться той же ответственности, что и вы, потому что другие, которым за вами велено присматривать, донесли бы, что я утаивал зло, сделанное другим. Как они ухитрились привести в систему такую низость, трудно понять, но ведь и у нас некогда существовало „слово и дело”. Вероятно, человеку так свойственно делами нагадить ближнему, что привить это желание целому обществу нетрудно» (Римский-Корсаков. С. 237, 238). Орден иезуитов основан в 1534 г. испанским монахом Игнатием Лойолой (1491—1556), разработавшим его моральные и организационные принципы (в том числе и систему доносов, возведенных в степень священной обязанности), в Японии деятельность миссионеров-иезуитов развернулась с 1540—1550-х гг., и именно она позднее послужила основной причиной гонений на христиан (см. подробнее ниже, с. 644, примеч к с. 361). Ср. также замечание в письме Гончарова к М. А. Языкову от 20 августа (1 сентября) 1853 г.: «И в самом деле за ними строго смотрят: куда один пойдет, за ним побегут двое, трое. В этом взаимном невольном шпионстве есть что-то иезуитское, печальное».
С. 325. ...переводчик Садагора... — Намура Садагоро, из десятого поколения переводчиков с голландского из дома Намура. В 1845 г. стал ондер-толком.
С. 326. ...а молчал Нарабайоси; см. также с. 334: ...Нарабайоси 2-й (их два брата, двоюродные, иначе гейстра) ~ говорящий немного по-английски... — Во «Фрегате „Падлада”» выступают два переводчика с голландского, носящие эту фамилию. По всей вероятности, одним из них был Нарабаяси Тэйитиро (1819—1862), а другим — Нарабаяси Эйдзаэмон (1830—1860). Первый представлял девятое поколение из знатного дома Нарабаяси; в 1848 г. он стал ондер-толком, а в 1859 г. — оппер-толком. Эйдзаэмон представлял четвертое поколение переводчиков из боковой ветви рода Нарабаяси; в 1853 г. стал ондер-толком, а в 1857 г. — оппер-толком; принимал участие в переговорах с М. К. Перри.
С. 326. Корвет в самом деле вышел в мае из Камчатки, но заходил на Сандвичевы острова. — Корвет «Оливуца» под командованием капитан-лейтенанта Н. Н. Назимова вышел из Авачинской губы, в которой расположен Петропавловский порт, 31 марта (12 апреля), на Сандвичевы острова, в Гонолулу, прибыл 24 апреля (6 мая) 1853 г. (см.: Обзор. Т. 1. С. 20).
С. 326. ...какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера нашего знаменитого пленника, Головнина... — Василий Михайлович Головнин (1776—1831) — русский мореплаватель и государственный деятель, ученый-историк, географ и этнограф, теоретик военно-морского
- 626 -
дела, литератор. Совершил плавание из Кронштадта на Камчатку в 1807—1809 гг. и кругосветное плавание в 1817—1819 гг., оставил их описания; см.: Головнин В. М.: 1) Путешествие российского императорского шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота капитана (ныне капитана I ранга) Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах. СПб., 1819. Ч. 1—2; 2) Путешествие вокруг света, по повелению государя императора совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. СПб., 1822. Ч. 1—2. В 1811 г. Головнин прибыл на военном шлюпе «Диана» на Курильские острова для топографической съемки их южной части; здесь 29 июня (11 июля) вместе с шестью моряками он был захвачен в плен и более двух лет провел под домашним арестом на острове Хоккайдо, при этом, как пишет современный исследователь, «находясь в плену, русские вынуждены были почти без отдыха обучать самураев различным наукам и переводить с ними русские учебники и книги на японский язык» (Накамура. С. 145). При содействии капитана П. И. Рикорда (впоследствии адмирала) Головнин был освобожден из плена 25 сентября (7 октября) 1813 г. В 1816 г. в Петербурге вышла его книга «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о японском государстве и народе» (Ч. 1—3). «Записки» имели большой читательский успех в России и сразу по выходе были переведены на английский, французский, немецкий, голландский, датский и другие языки; в 1821—1825 гг. впервые изданы в Японии (в переводе с голландского). О Головнине, изданиях и переводах его «Записок» см.: Головнин. Записки. С. 516—522, а также: Дрыжакова Е. Первый образ Японии в русской литературе: «Записки» капитана В. Головнина (1816) // Acta Slavica Japonica. 1995. Т. 13. P. 98—109. Сопоставление «Записок» Головнина с очерками Гончарова см.: Михельсон В. А. Записки В. М. Головнина и «Фрегат „Паллада”» И. А. Гончарова // Учен. зап. Краснодарского гос. пед. ин-та. 1955. Вып. 13. С. 66—87; Краснощекова Е. А. «Мир Японии» в книге И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада”» // Acta Slavica Japonica. 1993. Т. 11. P. 108—109, 117, 121; Краснощекова. С. 182—187. В «Записках» Головнин приводит многочисленные примеры вопросов японцев, вынуждавших русских придумывать искусные ответы, после которых, в свою очередь, нельзя было бы задать следующего вопроса. Характерен пример с владимирской лентой, которую пленники определили просто как полосатую: «Если бы сказать им истинное значение сего наименования, то они стали бы нас пять или шесть часов мучить вопросами. Надлежало бы сказать, кто учредил орден сей, на какой конец, кто был Владимир, когда царствовал, чем прославился, почему ордену дано его имя, есть ли какие другие ордена в России, какие их преимущества и т. п., словом, надобно было бы объяснять им все наши орденские статуты...». «Несколько раз, — пишет Головнин, — мы с грубостью принуждены были говорить, что лучше было бы для нас, если бы японцы нас убили, но не мучили таким образом. <...> Часто мне приходила в голову мысль: не с намерением ли японцы таким образом нас мучат? Ничто не могло быть большим нам наказанием, как принуждение отвечать на такой вздор, и потому иногда мы, потеряв терпение, прямо говорили им, что не хотим отвечать, пусть лучше убьют нас...» (Головнин. Записки. С. 116, 135, 137).
- 627 -
С. 327. ...есть два письма: одно к губернатору, а другое выше... — См. ниже, с. 616—617, примеч. к с. 318.
С. 327. ...не привезли ли мы потерпевших кораблекрушение японцев» ~ они и потерпевших кораблекрушение своих же японцев не пускали назад, в Японию. — Наряду с другими законами, санкционировавшими «закрытие» Японии (о них см. ниже, с. 640—641, примеч. к с. 350—351), в 1631 г. был принят закон о смертной казни для каждого японца, покинувшего страну; таким образом, обязательному наказанию (казни или же тюремному заключению) подвергались и потерпевшие кораблекрушение, подобранные иностранными судами. О подобных фактах см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 2—3; Крузенштерн. С. 168—169; Belcher. Vol. 2. P. 29, 38—39; Зибольд. Т. 1. С. 112—113, 115, а также: Кин Д. Японцы открывают Европу: 1720—1830. М., 1972. С. 50—63; Накамура. С. 35, 65, 111, 116—118, 136—137, 155—158 и др.
С. 327. ...вынув из-за пазухи складную железную чернильницу, вроде наших старинных свечных щипцов. Там была тушь и кисть. — Имеется в виду «ятатэ», переносной письменный прибор.
С. 327. Прошло два дня ~ дано было знать японцам, что нам нужно место на берегу и провизия. Провизии они прислали небольшое количество в подарок... — См. об этом: наст. т., с. 91. По японским законам, все иностранные суда, заходившие в Нагасаки, снабжались провизией за счет правительства Японии.
С. 327. На третий день после этого приехали два баниоса ~ Баба-Городзаймон ~ Самбро...; см. также с. 328: ...отдали письмо Баба-Городзаймону... — Визит на «Палладу» старших чиновников при нагасакском губернаторе Баба Городзаэмона и Ом Сабуросукэ (Самбро) и передача им адресованного губернатору письма канцлера К. В. Нессельроде состоялись 13 (25) августа 1853 г. (см.: Отчет. С. 152—153, а также: наст. т., с. 87—88; Обзор. Т. 1. С. 36). В дальнейших визитах на «Палладу» участвовал и Сираиси Тодзабуро, также старший чиновник при нагасакском губернаторе. «Прорусские» настроения баниосов оказали значительное влияние как на позицию губернатора, так и на внешнюю политику Верховного совета Японии (среди членов Верховного совета даже сложилось мнение о сотрудничестве баниосов с Россией). Ср. замечания об интересе баниосов к европейцам и их надежде на успех русской миссии: Всеподданнейший отчет. С. 180. Любопытные характеристики японских переводчиков даны в материалах экспедиции М. К. Перри (о ее прибытии в Японию см. выше, с. 617, примеч. к с. 318, и ниже, с. 647—648, примеч. к с. 367): «Тогда как Эйдзаэмон (т. е. Нарабаяси Эйдзаэмон; см. выше, с. 625, примеч. к с. 326. — Ред.) всегда демонстрировал скромное присутствие манер, Сабуросукэ был наглым и напористым. Первый обнаруживал тонкую любознательность, второй — навязчивое любопытство. Эйдзаэмон всегда был спокойным, вежливым, сдержанным джентльменом, но Сабуросукэ был постоянно суетен, груб и назойлив. Последний беспрестанно совал свое нахальное, бесстыдное лицо в каждую щель и угол, независимо от того, приглашали его или нет, и своими действиями скорее напоминал шпиона, нежели человека, проявляющего любопытство» (Perry. Vol. I. P. 307).
С. 327—328. Во всем прочем это народ ~ довольно развитой, развязный, приятный в обращении... — Ср.: Всеподданнейший отчет. С. 178.
- 628 -
С. 328. ...что этот путь можно сделать недели в три и даже, как говорит английский путешественник Бельчер, в две недели. — О том же (без ссылки на Э. Белчера) говорится в документах, относящихся к переговорам Е. В. Путятина с нагасакскими чиновниками и губернатором, а также в «Рапорте» адмирала великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (см.: наст. т., с. 88, 102, 109). Вопрос о том, за какое время преодолевалось расстояние до Эдо, беспокоил многих посетивших Нагасаки путешественников, поскольку проблемы, выходившие за пределы компетенции губернатора, требовали согласования с Верховным советом. Так, И. Ф. Крузенштерн, ссылаясь на Э. Кемпфера и К. П. Тунберга, писал, что из Эдо «можно получить ответ через 30 дней; случались же примеры, что и в 21 день совершаем был путь туда и обратно. Но они (нагасакские губернаторы) никогда не хотели в том признаться, напротив того, еще уверяли, что для сего оборота требуется по крайней мере три месяца в хорошую погоду...» (Крузенштерн. С. 162). Детальнейшему описанию двух церемониальных путешествий директора голландской фактории из Нагасаки в Эдо (в 1691 и 1692 гг.) Кемпфер посвятил т. 2 «Истории Японии»; здесь, среди прочего, высчитаны расстояния и длительность переездов (дорога в один конец занимала 30 дней; см.: Kaempfer. Vol. 2. P. 404—405; ср.: Зибольд. Т. 1. С. 213—214). Эдвард Белчер (о нем и его экспедиции см. выше, с. 567, примеч. к с. 106) прибыл в Нагасаки на фрегате «Самаранг» в августе 1845 г. для пополнения запасов воды и провизии; сведения о расстоянии до Эдо в тексте главы, посвященной пребыванию в Нагасаки, отсутствуют (см.: Belcher. Vol. 2. P. 1—49).
С. 328. ...курьер помчится, как птица. — Ср.: Отчет. С. 153, а также письмо Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 августа (2 сентября) и его «Рапорт» великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 91, 109). «Почтовое» сообщение между городами в Японии осуществляли скороходы: «Письма упаковывают в клеенку, и скороход, неся этот пак на шесте, бежит, с особенным криком, до ближайшей станции, где мгновенно сменяет его другой почтарь. В случае отправок особенной важности посылают по два таких скорохода, называемых по-японски фи-кияк — буквально „крылатая нога”» (Корш. № 10. С. 59; сведения почерпнуты у Ф.-Ф. Зибольда; ср.: Зибольд. Т. 2. С. 145—146). Э. Кемпфер сообщал также и о бессчетном числе почтовых станций — для смены курьеров — на всех дорогах Японии (см.: Kaempfer. Vol. 2. P. 419—420).
С. 329. ...и завертывали в бумажку то конфекту, то кусочек торта ~ всё спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху... — См. выше, с. 624, примеч. к с. 325.
С. 329. ...раздалось «Grâce, grâce» из «Роберта». — Начальные слова арии Роберта из акта I оперы Дж. Мейербера (1791—1864) «Роберт-дьявол» (1831; либретто Э. Скриба и К. Делавиня). Впервые прозвучавшая на петербургской сцене 2 (14) декабря 1834 г., опера пользовалась исключительной популярностью и к началу 1840-х гг. выдержала более ста представлений (шла под усеченным названием «Роберт» по настоянию митрополита Филарета и с одобрения Николая I; см. об этом: Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. Л., 1959. С. 713—714). См.: наст. изд., т. 1, с. 641.
- 629 -
С. 329. ...картинки ~ в книге Зибольда... — Филипп Франц Зибольд (Siebold; 1796—1866) — немецкий натуралист и исследователь Японии; с 1823 г. состоял на службе в голландской Ост-Индской компании. В 1823—1830 гг. в качестве врача при голландской фактории жил в Нагасаки, преподавал японцам западную медицину; собрал множество материалов, связанных с Японией. При возвращении в Европу у Зибольда были найдены карта Японии и другие вещи, запрещенные к вывозу, что привело к его аресту и изгнанию из страны. Вернувшись в 1831 г. в Голландию, Зибольд издал в Лейдене научные труды: «Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan» (1832—1854; на нем. и гол. языках, с большим количеством иллюстраций), «Bibliotheca Japonica» (1833—1841. Vol. 1—6), «Fauna Japonica» (1833—1851), «Flora Japonica» (1835—1853), «Epitome linguae Japonicae» (1853) и др. Его главный труд вышел во французском переводе: Voyage au Japan exécuté pendant les années 1823 à 1830. Paris, 1838—1840. Vol. 1—5; русское издание (в переводе В. Строева): Зибольд. В 1855 г. в «Морском сборнике» была напечатана статья Зибольда (перевод немецкой брошюры, опубликованной в мае 1854 г. в Бонне) с рассказом о его научной и дипломатической деятельности в Японии и с рядом политических и экономических рекомендаций, адресованных как правительству Нидерландов, так и России. Отмечая победы «немирной» и «эгоистической» американской и английской дипломатии (экспедиция М. К. Перри, по его словам, была «демонстрацией одной из сильнейших морских держав»; английская политика (о ней см. ниже, с. 642, примеч. к с. 352) таила угрозу открытия Японии «китайским», т. е. военным, путем), Зибольд тревожился об утрате Нидерландами былых дипломатических преимуществ и в лице России видел продолжательницу «нравственной» политики в отношении Японии (см.: Зибольд МСб; в приложении к статье опубликована карта Японии, составленная придворным астрономом императора и изданная в Эдо в 1820 г., — Там же. С. 42—43). О себе Зибольд писал: «Как естествоиспытатель познакомился я не только с народом и землею, ее природными сокровищами и произведениями, но и с народным духом, с правилами сьогунского управления, с отношениями и положением его вассалов...» (Там же. С. 18). В 1843 г. Зибольд должен был возглавить посольство Нидерландов в Эдо (см. ниже, с. 641—642, примеч. к с. 352), позднее неоднократно направлял правительству «пожелания» относительно торговли с Японией. Не найдя поддержки у правительства Нидерландов, признавшего его советы «несвоевременными», Зибольд в 1852 г. обратился с «пожеланиями» к правительству России: «Узнавши о намерении русского правительства снарядить экспедицию в Японию, я, для пользы науки и всеобщей торговли, обратился к одному из высших русских сановников и сообщил ему в особой записке (8 ноября 1852 г.) мое мнение об японском вопросе, приложив только что вышедшую „Историю открытий в Японском море” и составленный мною атлас Японии как руководство для предначертанного путешествия. Вследствие того я получил обязательное приглашение в С.-Петербург (25 декабря), в следующих выражениях: „Ваше письмо и приложенный к нему мемуар, по надлежащем их рассмотрении, возбудили здесь желание собрать из ваших уст пояснения и дополнительные сведения о вопросе, известном вам точнее, нежели другому европейцу”» (Там же. С. 30). Зибольд
- 630 -
неофициально посетил Петербург в начале 1853 г., уже после отбытия миссии Е. В. Путятина, приобретя на Западе репутацию русского шпиона (см. об этом: Perry. Vol. 1. P. 88, 89, 100; Walworth. P. 129; Lensen 1953. P. 45; Lensen 1955. P. 128); В. Макоми обнаружил в ряде американских исследований ошибочные указания на то, что Зибольд входил в состав экспедиции Путятина (см.: Morison S. E. «Old Brain» Commodore Matthew Calbraith Perry, 1794—1858. Boston, 1967. P. 267; Wiley P. B. Yankees in the Land of the Gods. New York, 1990. P. 461; McOmie. P. 56). Рекомендации Зибольда нашли отражение в инструкциях, переданных Путятину в 1853 г. на пути его следования в Японию (см. об этом: Кутаков. С. 112; Koichi Yasuda, Siebold and the Russian Government: Introduction from a Newly Discovered Collection of Letters // Siebold’s Florilegium of Japanese Plants. Tokyo, 1994. Vol. 2. P. 35—40, а также: наст. т., с. 90, 91, 129 и выше, с. 603—604, примеч. к с. 302). В 1859—1862 гг. Зибольд вновь побывал в Японии и в качестве консультанта сёгунского правительства жил в Эдо. В настоящее время в Нагасаки есть переулок Зибольда, а рядом с местом, где был его дом, находится музей.
С. 330. Баба́ обещал доставить ~ мытье белья в голландской фактории. — 29 августа (10 сентября) 1853 г. К. Н. Посьет отметил в записной книжке: «Около 5 часов вечера приехал гокейнс Баба под предлогом, что, будучи дежурным, он хотел бы провести вечер у меня в гостях. С ним Нарабайоси. Угощая его чаем и вином, ему показывал атласы, африканские лица, сочинения... Гончаров подарил ему портрет японца, которого он для сего вырвал из книги. Баба весьма обрадовался, увидев соотечественника на бумаге, и в радости взялся за чуб свой, показывая тем особенность портрета. <...> Наконец он приступил к цели своего посещения, сказав, что имеет мне сказать два слова, и спросил, поймут ли бывшие в каюте Гончаров и Гошкевич по-голландски. Когда я успокоил их на этот счет, он начал вполголоса, и об чем же? О мытье нашего белья!» (цит. по: Смирнова И. В. Записные книжки капитан-лейтенанта К. Н. Посьета: (К проблеме изучения истории создания очерков И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада”») // Гончаров. Материалы. С. 312; ср.: Фос. С. 47—48).
С. 331. ...японцы и китайцы близкая родня ~ и те и другие вышли из одной колыбели, Средней Азии, и, конечно, составляли одно племя ~ В языке их, по словам знающих по-китайски, есть некоторое сходство с китайским. — См. выше, с. 615—616, примеч. к с. 317.
С. 331. ...малайцы, которых будто бы японцы, говорит Кемпфер, застали в Нипоне и вытеснили вон. — Э. Кемпфер пересказывает одно из преданий о племени «Они», или «Черных дьяволах», некогда населявших небольшой остров Гэнкаисима к северу от острова Нип-пон и позднее вытесненных японцами. По его предположению, «Черными дьяволами» могли быть малайцы (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 93).
С. 331. ...на Нипоне, Киузиу... — Ниппон (Нихон) — старое название острова Хонсю (Хондо); страна получила название по названию острова; Киузиу — остров Кюсю.
С. 331. Чем это не мнение, скажите на милость? ~ Они сами производят себя от небесных духов... — Здесь Гончаров обыгрывает названия (и содержание) глав 6 и 7 книги Э. Кемпфера — «Мнение автора об истинных корнях и происхождении японцев» и «О происхождении
- 631 -
японцев по их собственному баснословному мнению» (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 81—96, 96—102); в главе 7 речь идет о религии синто (о ней см. ниже, с. 631—632, примеч. к с. 332). Ср. также выше, с. 615—616, примеч. к с. 317.
С. 331. ...соглашаются лучше происходить с севера, от курильцев, лишь не от китайцев. — Эти сведения восходят к «Запискам» В. М. Головнина (см.: Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о японском государстве и народе. СПб., 1816. С. 156—169 (не вошло в издание: Головнин. Записки)). Ср. у Ф.-Ф. Зибольда: «Головнин <...> уверяет, что японцы и курильцы составляли прежде один народ и что происхождение у них одинаковое» (Зибольд. Т. 1. С. 105) — и Е. Ф. Корша: «Японцы считают себя аборигенами, исконными жителями своего края. По уверению Головнина, некоторые из них совсем не прочь от первобытного, доисторического сродства с полудиким племенем айнов, жителей Курильских островов, но все они в один голос гнушаются происхождением от китайцев, на которых смотрят с величайшим презрением и с которыми действительно разнятся, кроме языка, многими отличительными чертами физического и особенно нравственного характера» (Корш. № 9. С. 13). На «уверение» Головнина ссылались и другие авторы (см.: Венюков М. И. Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии. С. 59, 65—66; Позднеев Д. М. Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к материку Азии и России. Иокахима, 1909. Т. 1. С. 82—87). О населявшем японские острова племени айну (эбису), впоследствии вытесненном, см.: Анучин Д. Н. Айны, их тип, вопрос об их происхождении и степени участия в образовании японского народа // Анучин Д. Н. Япония и японцы: Географический, антропологический и этнографический очерк. СПб., 1907. С. 50—56; Штернберг Л. Я. Айнская проблема. Л., 1929; Попов К. М. Япония: Очерки развития национальной культуры и географической мысли. С. 32—34; Конрад Н. И. Избранные труды: История. М., 1974. С. 23—24; Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: Судьбы айнов. М., 1992 и др.). Первое описание курильцев содержится у С. П. Крашенинникова: «Сей народ ростом средний, волосом черен, лицом кругловат и смугл, но гораздо пригоже других народов, бороды у них большие и окладистые, тело мохнатое» (Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.; Л., 1949. С. 468). О «мохнатых курильцах» писали также И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский и др.
С. 331. Ведь Кемпфер выводит же японцев прямо ~ от вавилонского столпотворения! Он ведет их толпой ~ прямо так, как они есть... — Отстаивая собственное «мнение» (см. выше, с. 615—616, примеч. к с. 317) о самостоятельном, независимом от китайцев происхождении японцев, Э. Кемпфер утверждал, что они «произошли от первых поселенцев Вавилона и японский язык — один из тех, о которых сообщает Священное Писание». По Кемпферу, японцы «по воле Божественного Провидения» продвигались из Вавилона, нигде не задерживаясь, таким путем, который мог «безопасно и быстро привести их к восточным окраинам Азии, откуда недалеко и до Японии» (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 86—87).
С. 332. Одна и та же привилегированная, древняя религия синто, или поклонение небесным духам, как и в Китае... — Синтоизм (от яп.
- 632 -
синто, букв.: путь богов) — национальная религия Японии, возникшая из древнего культа одухотворения природы и обожествления умерших предков. Согласно синтоизму, человек ведет происхождение от одного из бесчисленных духов, или богов (ками); душа умершего при определенных обстоятельствах может стать таким ками (ками — также титул; о нем см. ниже, с. 687, примеч. к с. 464). Синтоизм, в отличие от пришедших в Японию из Китая буддизма и конфуцианства, генетически не связан с древнекитайскими культами. Подробный очерк древнейших верований японцев см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 96—102; Зибольд. Т. 2. С. 59—80; Головнин. Записки. С. 310—316; Корш. № 10. С. 60—69; кроме того: Picken D. B. S. Shinto: Japan’s Spiritual Roots. Tokyo, 1980; Светлов Г. М. Путь богов: (Синто в истории Японии). М., 1985 и др. О. Василий Махов, священник на фрегате «Диана» в конце 1854 — начале 1855 г. (см. об этом ниже, с. 787—788, примеч. к с. 733—734), писал: «Обряды вероисповедания у японцев многоразличны: иные веру свою заключают в поклонении духам невидимым, из которых дух света есть главное божество <...> некоторые веруют в переселение душ в скотов, птиц и потому никаких животных не умерщвляют и мясное в пищу не употребляют <...>. <...> Храмов по городам и селениям, часовен по горам и в лесах множество» (Махов. С. 58—59). Привилегированная — здесь, как и в других случаях у Гончарова: узаконенная (ср: наст. изд., т. 1, с. 527, 819).
С. 332. ...далее буддизм. — Буддизм проник в Японию в VI в. из Китая и Кореи и в VIII в. был признан государственной религией; сосуществовал с синтоизмом, что привело к объединению двух пантеонов божеств. А. В. Вышеславцев писал об этом: «Вторая религия — буддизм, распространившийся из Цейлона, через Корею, в 543 году. Буддизм в Японии имеет восемь главных сект, и бонзы их наводняют всю страну. В настоящее время буддизм до такой степени смешался с религией синто, что храмы одних служат часто капищами для сектаторов другой религии, и часто, в одном и том же храме, рядом с изображением древних ками, стоят буддийские идолы» (Вышеславцев. С. 319—320). Ср. также свидетельство другого путешественника: «...храмы той и другой религии чрезвычайно трудно отличить друг от друга, да и самые догматы их так переплелись, что границу, их разделяющую, совершенно невозможно определить. Да к тому же почти никогда японец не довольствуется какой-нибудь одной религией или сектой, но всегда знает их несколько и выбирает из каждой то, что ему покажется лучшим» (Бартошевский Н. Япония: (Очерки из записок путешественника вокруг света). СПб., 1868. С. 58). Буддистский канон подвергся на японской почве значительной трансформации, превратившись к XIV—XV вв. в подлинно японскую разновидность буддизма. Гончаров не упоминает конфуцианства, также заимствованного из Китая в VI—VII вв. и ставшего в Японии основой ряда политических и моральных традиций (см.: Радуль-Затуловский Я. Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.; Л., 1947. С. 189—221; Игнатович А. Н. Буддизм в Японии: Очерки ранней истории. М., 1987; Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма. М., 1987; Чудодеев Ю. В., Каткова З. Д. Китай — Япония: любовь или ненависть? С. 10—24).
- 633 -
С. 332. ...господствует более нравственно-философский, нежели религиозный, дух и совершенное равнодушие ~ к религии. — Вопрос о религиозности японцев интересовал В. М. Головнина, писавшего об этом: «Между японцами, так же как и в Европе, есть вольнодумцы и, может быть, числом не менее, как и у нас. Я не слыхал, чтобы у них были деисты, но безбожников и сомневающихся очень много. <...> За неисполнение правил веры, хотя бы кто и явно нарушал оные, гражданские законы никакому наказанию не подвергают, да и духовенство не взыскивает. Мы знали многих японцев, которые некоторым образом тщеславились тем, что никогда не ходят в церковь, и смеялись насчет духовных своих обрядов. <...> Но число японцев, свободных от предрассудков, в сравнении с целым народом весьма невелико, вообще же японцы не токмо крайне набожны, но даже суеверны. Они верят чародейству и любят рассказывать об оном разные басни <...> Несмотря на различие вер и сект, исповедуемых в Японии, они не причиняют ни правительству, ни в обществе никакого беспокойства. Всякий гражданин имеет право держаться той, которой угодно, и переменять веру столько раз, сколько хочет. А по убеждению ли совести или ради каких-либо выгод он принимает другую веру, до того никому нет дела. В Японии нередко случается, что члены одного семейства принадлежат к разным сектам, и от сего несходства в вере ссор никогда не бывает...» (Головнин. Записки. С. 312—313, 315). Представляет интерес и более позднее свидетельство: «Вообще же, говоря об отношении японца к религии, надо заметить, что среди них царствует индифферентизм: нередко можно встретить такого японца, который сам не знает, исповедует он религию синто или буддизм, и большинство обнаруживает полнейшее незнакомство с сущностью и догматами религии, которую исповедует, а среди интеллигенции чаще всего встречается совершенное неверие» (Вениаминов И. Г. Религия и христианство в Японии. СПб., 1905. С. 20—21).
С. 332. И те и другие подозрительны, недоверчивы... — Э. Кемпфер отмечал различия в национальном характере китайцев и японцев: «Китайцы миролюбивы, честны, большие любители уравновешенного, философско-созерцательного бытия, однако при этом очень склонны к мошенничеству и ростовщичеству. Японцы, напротив, воинственны, нетерпимы к бездеятельной жизни, недоверчивы, амбициозны и помешаны на высоких идеях» (Kaempfer. Vol. 1. P. 86).
С. 332. ...с упрямством Галилея, буду утверждать... — Имеется в виду легендарная фраза итальянского астронома, физика и механика Галилео Галилея (Galilei; 1564—1642), произнесенная им перед судом инквизиции в 1633 г.: «А все-таки она вертится».
С. 333. Вам, может быть, кажется странно, что я вхожу в подробности о деле, которое, в глазах многих, привыкших считать безусловно Китай и Японию за одно, не подлежит сомнению. — См. выше, с. 615—616, примеч. к с. 317.
С. 333. ...японцы оскорбляются, когда иностранцы, по невежеству и варварству, как говорят они...; см. также с. 466: Давно ли все крайневосточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? — Для традиционных представлений японцев (также и китайцев) была характерна оппозиция «центр — периферия», при этом внешнему, «варварскому», миру приписывались
- 634 -
темные начала (агрессивность, жестокость, низость и пр.). В согласии с синтоизмом, утверждавшим божественное происхождение японской нации, в Японии XVI—XIX вв. господствовали идеи национальной исключительности, уникальности государственного строя страны (кокутай) и национального характера (см., в частности: Япония: Идеология, культура, литература. М., 1989. С. 40—47). Согласно замечанию Ёсикадзу Накамура, японцы «верили в свое превосходство над европейцами. В лексике японцев того времени не было нейтрального слова, обозначающего „иностранец”. Следуя китайцам, японцы тоже называли всех чужеземцев „итэки”, то есть варварами. Даже чиновник Кавадзи, хорошо воспитанный и начитанный человек, зовет русских дикарями» (Генис А. Гончаров о японцах и японцы о Гончарове // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 452); о Кавадзи см. ниже, с. 678—679, 684, примеч. к с. 450—451, 456.
С. 333. ...я напал на одну старую книжку в библиотеке моего соседа по каюте ~ и о вине гонения на христиан, сочинения Карона и Гагенара, переведенные чрез Степана Коровина Синбиринина и Ивана Горлщкого. — Гончаров говорит о книге «Описание о Японе, содержащее в себе три части, то есть: известие о Японе и о вине гонения на христиан, историю о гонении христиан в Японе и последование странствования Генрика Гагенара, которое исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено» (1-е изд. СПб., 1734; 2-е изд. СПб., 1768); каждая часть имеет отдельное заглавие; третья часть названа: «Последование странствования Генрика Гагенара в восточную Индию. Сочиненное чрез Франциска Карона». Первая часть переведена «чрез Степана Коровина Синбиренина», остальные две — «чрез Ивана Горлицкого». «Книжка» представляет собой сокращенный перевод Иваном Семеновичем Горлицким (1690—1777) и Степаном Михайловичем Коровиным (ум. 1741) книги французского путешественника Жана Батиста Тавернье (1605—1689) «Le six voyages de Jean Baptiste Tavernier» (Paris, 1676. T. 1—2) и книги французского мореплавателя (род. в Голландии) Франсуа Карона (Caron; 1600—1673) «Beschrijvinghe van het machtigh Konighrigcke Japan» (Amsterdam, 1652), записавшего рассказы члена голландской фактории в Японии Генрика Гагенара (Hagenaer). Книга Карона была издана в немецком (Nurnberg, 1663) и английском (London, 1671) переводах и пользовалась популярностью (см., в частности, об использовании сведений Карона при подготовке посольства Н. П. Резанова: Военский. № 7. С. 134—135). Поскольку в книге «конец страницы с обозначением года издания оторван», первое ли издание имеет в виду Гончаров или второе, неясно. Сосед Гончарова по каюте, скорее всего, — К. Н. Посьет. Книгу «Описание о Японе» Гончаров упоминает также в письме к М. М. Стасюлевичу (июль 1871 г.).
С. 334. ...современница «Телемахиды»! — Под таким названием (СПб., 1766. Т. 1—2) В. К. Тредиаковский опубликовал стихотворный перевод (русским гекзаметром) романа французского писателя Франсуа де Салиньяка де ла Мота Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака» (1699). Гончаров иронизирует по поводу перевода, сделанного в характерной для поэта архаической манере, что затрудняло его понимание. «Телемахида» упоминается также в «Обломове» (наст. изд., т. 4, с. 153); «Похождения Телемака» — в «Обрыве» (часть первая, глава VI) и воспоминаниях «В университете».
- 635 -
С. 334. ...Нарабайоси 2-й (их два брата, двоюродные, иначе гейстра) ~ говорящий немного по-английски... — См. выше, с. 625, примеч. к с. 326.
С. 336. ...привезли ответ губернатора на письма от адмирала и из Петербурга. — См. выше, с. 616, примеч. к с. 318.
С. 336. Готовят какую-то пьесу для театра. — О совместных спектаклях офицеров «Паллады» и корвета «Оливуца» см. ниже, с. 649, примеч. к с. 371.
С. 336. ...унмоглик! невозможно. — Гол. onmogelijk.
С. 337. ...послать транспорт в Китай, за быками и живностью, а шкуну ~ на север, к берегам Сибири. ~ Он ужасно встревожился ~ не за подкреплением ли идут суда ~ Да притом надо было послать бумаги и письма ~ в Европу. — Шхуна «Восток» отбыла в Татарский пролив «с разными поручениями», в том числе и для пополнения запасов каменного угля на Сахалине, 18 (30) августа (см.: Обзор. Т. 1. С. 53); транспорт «Князь Меншиков» был отправлен в Шанхай за провизией 19 (31) августа; на нем курьер В. К. Бодиско (о нем см. выше, с. 603—604, примеч. к с. 302) отправился в Петербург (см.: Всеподданнейший отчет. С. 177—178, а также письмо Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 августа (2 сентября) 1853 г. — наст. т., с. 92, 93). В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 18 августа: «С рассветом я снялся под парами с якоря и двинулся в поход к Сахалину» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 196).
С. 337. ...привезут воды ~ потом фруктов, груш... — О присланной на суда провизии Римский-Корсаков писал: «Привезено для эскадры 50 кур, 50 уток, три свиньи и довольно много зелени и фруктов. Зелень состояла из моркови, редьки и тыквы, а фрукты — арбузы и груши. Арбузы почти что негодны, а груши совсем незрелы и употреблены только в компот. Пресная вода обещана на завтра» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 196).
С. 337. ...какисов, или какофиг; см. также с. 376: ...новый фрукт здешний, по-голландски называемый kakies ~ род фиги или смоквы ~ какофига. — Речь идет о японской хурме (Diospyrus kaki).
С. 338. Фарсёры! — Фарсёр — лицедей, шутник (фр. farceur).
С. 338. ...помощник здешнего обер-гофта, или директора голландской фактории ~ по имени... забыл как. — Речь идет о И. Бассле (Bassle). Во время «посещения» Бассле с Путятиным договорились о поставке голландской факторией провизии на русские суда. См. также: наст. т., с. 90.
С. 338. Самого обер-гофта зовут Донкер Курциус. — Голландский дипломат Ян Хендрик Донкер Курциус (Curtius; 1813—1879) прибыл в Японию в 1852 г. в качестве директора голландской фактории в Нагасаки с инициативой заключения голландско-японского торгового договора (был подписан только в 1856 г.). Находясь в Японии, Курциус изучал язык и историю страны; по возвращении на родину издал книгу: «Proeve eener Japanische spraakkunst» (Leide, 1857), заложил основы японоведения в университете г. Лейдена.
С. 338. ...по возвращении нашего транспорта из Китая, адмирал послал обер-гофту половину быка, как редкость здесь... — В полувегетарианской стране подарок имел значительную цену. Часть быка Курциус передал нагасакским городским старшинам. С директором голландской фактории во все время стоянки «Паллады» в Нагасаки
- 636 -
велась довольно активная переписка; письма от лица адмирала писал Гончаров. Одно из них, от 17 (29) сентября, и сопровождает отправку «части быка» (см.: наст. т., с. 104). Транспорт «Князь Меншиков» вернулся из Шанхая 14 (26) сентября с известиями о готовящемся разрыве России с Турцией, Англией и Францией (см.: Всеподданнейший отчет. С. 183, а также: наст. т., с. 104 и ниже с. 648—649, примеч. к с. 367).
С. 338. ...он благодарил коротенькою записочкой ~ что адмирал понял настоящую причину его мнимой невежливости. — Упоминаемая «записочка» сохранилась. Курциус писал: «Этот подарок Вашего превосходительства тем для меня приятнее, что он в то же время убеждает меня, что причина, по которой я до сего времени не исполнил мое намерение лично свидетельствовать Вам свое почтение, Вам передана надлежащим образом и что Вы не приписываете это упущению с моей стороны...» (АВПР, л. 60). Курциус не получил от нагасакского губернатора разрешения посетить «Палладу». По всей вероятности, губернатор боялся, что визит Курциуса послужит поводом к ответному визиту Е. В. Путятина. Об этом эпизоде см. также: Lensen 1955. P. 12.
С. 338. 2-го сентября, ночью часа в два, задул жесточайший ветер... — Этот шторм описывает в дневнике 2 сентября и о. Аввакум: «...до 6 часов утра сильный от с<(еверо>— з<апада> и з<апада> шторм, или буря, фрегат начало дрейфовать, бросили другой якорь, а потом и третий; чуть было не прибило к Паппенбергу; ветер был так силен, что на юте нельзя было стоять иначе как держась за веревки; брызгами морской воды обдавало всех как песком. Несколько японских лодок опрокинуло; плавали деревянные пушки, а медных две с лодок брошены в воду» (Аввакум. С. 45). См. также в «Рапорте» Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 110).
С. 339. Начинается ученье, тревоги, движение парусами. — См. об этом: Отчет. С. 155.
С. 340. ...зовут его Кичибе. — Ниси Китибэй (1812—1855) представлял одиннадцатое поколение переводчиков с голландского языка из дома Ниси. В 1832 г. принимал участие в составлении самого полного в то время «Голландско-японского словаря» (под редакцией директора голландской фактории в 1809—1817 гг. Хендрика Дёффа (Doeff); о судьбе словаря см.: Япония. С. 22); в 1848 г. стал оппер-толком.
С. 340. А! значит, получен ответ из Едо, хотя они и говорят, что нет... — Указания Верховного совета были получены нагасакским губернатором 2 (14) сентября.
С. 340. Мне поручено составить проект церемониала ~ У меня бумага о церемониале была готова...; см. также с. 341: Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гокейнсы договариваться о церемониале нашего посещения. — Текст «бумаги о церемониале» см.: наст. т., с. 96—98; ср. также: Отчет. С. 153—154; Всеподданнейший отчет. С. 181—182. О. Аввакум записал в дневнике 6, 7 и 8 сентября: «Толки о церемониале свидания с губернатором»; «В 1 час пополудни приехали чиновники японские трактовать о церемониале. Более всего было толку о сиденье и о шлюпке, на чьей должно было послу ехать на берег»; «С нашей стороны написан церемониал и дан им к сведению» (Аввакум. С. 46—47).
- 637 -
С. 340. ...на нашего посланника Резанова... — Николай Петрович Резанов (1764—1807) в составе первой русской кругосветной экспедиции 1803—1806 гг. И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского прибыл в Нагасаки на корабле «Надежда» 14 (26) сентября 1804 г. в качестве полномочного посланника России для переговоров об открытии японских портов и установлении торговых отношений с Японией. Только на 76-й день пребывания в порту Резанов добился разрешения высадиться на берег; ему был отведен небольшой участок, где в доме за двойной бамбуковой изгородью, несмотря на исключительно вежливое обращение, посол находился несколько месяцев на положении почетного пленника (см. также ниже, с. 658, примеч. к с. 392). Переговоры Резанова с представителями японского правительства, начавшиеся только весной 1805 г. закончились неудачей: посланнику, по словам Крузенштерна, были вручены «бумаги, содержащие запрещение, чтобы никакой российский корабль не приходил никогда в Японию. <...> В сем-то состояло окончание посольства, от коего ожидали хороших успехов» (Крузенштерн. С. 170—171; см. полный текст ответа сёгуна российскому правительству: Позднеев Д. М. Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к материку Азии и России. Т. 1. С. 119—120). Резанов умер в Красноярске при возвращении домой через Сибирь. См. о Резанове: Щукин Н. Сношения русских с Япониею // СО. 1848. № 5. Отд. V. С. 31—34; Буйницкий. № 9. С. 80—82; Сгибнев А. С. Попытка русских к заведению торговых сношений с Япониею (в XVIII и начале XIX столетий) // МСб. 1869. № 1. Отд. неофиц. С. 57—59; Военский; Файнберг 1960. С. 71—92; Накамура. С. 127—139; Кутаков. С. 76—85 и др. О постоянных ссылках японцев на пример Резанова см. также в «Рапорте» Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 111).
С. 340. ...что у него было гораздо меньше свиты. — По свидетельству И. Ф. Крузенштерна, при первой аудиенции с полномочным Верховного совета Японии 4 апреля 1804 г. свиту Н. П. Резанова «составляли пять лиц» (Крузенштерн. С. 170; имена всех входивших в немногочисленную свиту посланника кавалеров посольства, ученых, художников и купцов указаны: Там же. С. 40—42; ср.: Военский. № 7. С. 140—141). Вторая аудиенция Резанова была последней.
С. 341. ...о нашем свидании с нагасакским губернатором, как оно записано у меня под 9-м сентября. ~ у Овосавы Бунго-но-ками-сама, нагасакского губернатора; см. также с. 357—358: Овосава — это имя, Бунго-но — нечто вроде фамилии ~«частица «но» ~ грамматическая форма. Коми — почетное название ~ сама — господин... — Должность нагасакского губернатора была учреждена в 1592 г., и с тех пор до реставрации Мэйдзи в 1868 г. ее занимали 125 человек. Одновременно в должности губернатора состояли два человека: один — в Нагасаки, другой — в Эдо; каждый год к сентябрю они сменяли друг друга (см. также ниже, с. 642, примеч. к с. 353). Здесь речь идет о 107-м нагасакском губернаторе (в 1852—1854 гг.) Осава Бунго-но-ками Нориаки; до приезда японских полномочных (см. об этом ниже, с. 676, примеч. к с. 444) он вел переговоры с русской делегацией. Бунго — старое название большей части префектуры Оита; но — частица; ками — титул (о нем см. ниже, с. 687, примеч. к с. 464); сама — господин. Ср. в письме Гончарова
- 638 -
к Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 (27) сентября 1853 г.: «Ками — это намек на небесное происхождение лица, а сама — земной почетный титул». По замечанию В. М. Головнина, «говоря с почтением <...> употребляют слово сама, соответствующее нашему „господин” или „сударь”, которое придается и к фамилии, и к имени без разбора, но всегда ставится после <...>. <...> Сие слово сама весьма много значит у японцев...» (Головнин. Записки. С. 161). О приеме у губернатора Гончаров подробно рассказывал в цитированном выше письме к Евг. П. и Н. А. Майковым.
С. 341. Прожил ли один час из тысячи одной ночи... — «Тысяча и одна ночь» — сборник средневековых арабских сказок; впервые на русском языке (с французского перевода) опубликован в Москве в 1763—1774 гг.
С. 341. ...просидел ли в волшебном балете ~ Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном вкусе... — См. выше, с. 620, примеч. к с. 320.
С. 341. «Где-нибудь на островах, у Излера?» — Имеется в виду популярный загородный сад «Минеральные воды» (в Новой деревне), владельцем которого был Иван Иванович Излер (1811—1877), «забавник и любимец петербургской публики» (Петербургский листок. 1865. 1 июня. № 79); здесь устраивались праздничные гулянья, сопровождавшиеся хитроумными затеями, снискавшими Излеру славу чародея.
С. 341. Вы там в Европе хлопочете ~ быть или не быть... — Гончаров цитирует монолог Гамлета (акт III, сцена 1), имея в виду обстановку в Европе накануне Крымской войны (о ней см. подробнее ниже, с. 660, примеч. к с. 396). Ср. его письма к Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 (27) сентября 1853 г. и А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г.
С. 341. ...сидеть или не сидеть, стоять или не стоять... — Японцы полагали, что не только во время церемонии, но и вообще невежливо говорить с уважаемыми людьми стоя.
С. 341. ...как угощали друг друга Журавль и Лисица; см. также с. 359: Я опять вспомнил угощенье Лисицы и Журавля. — Известный басенный (а также сказочный) сюжет, восходящий к сборникам басен Эзопа, Федра, Бабрия, Лафонтена и др.
С. 341. ...лодка ~ с разрубленной кормой; см. также с. 356: ...открытая корма ~ Кемпфер говорит, что в его время сиогун запретил строить суда иначе, чтоб они не ездили в чужие земли; с. 386: ...отчего у них такие лодки, с этим разрезом на корме ~ Он сослался на закон... — Э. Кемпфер дает подробное описание японских купеческих судов: «Корпус корабля не строится закругленным, как у наших европейских кораблей, но та часть, которая находится над водой, раскалывается почти по прямой к килю. Корма широкая и плоская, с широким отверстием посредине, которое почти достигает дна судна и оставляет открытым все, что внутри, для глаза. Это отверстие изначально предназначалось для облегчения управления рулем, но с тех пор как император принял решение о закрытии своих доминионов для всех иностранцев, были разосланы приказы, чтобы ни одно судно не строилось без такого отверстия, для того чтобы предотвратить попытки бегства его подчиненных в море и вообще путешествия куда-либо» (Kaempfer. Vol. 2. P. 410). Закон, регламентировавший судостроение, был принят в 1639 г.
- 639 -
С. 342. ...воротясь из Едо ~ присутствовать при переговорах с американцами... — О прибытии М. К. Перри в Эдо см. выше, с. 617. примеч. к с. 318, и ниже, с. 647—648, примеч. к с. 367.
С. 342. ...губернатор пойдет к себе отдохнуть ~ По-японски это весьма употребительно... — Ср. «Рапорт» Е. В. Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 111).
С. 343. ...адмирал придерживался ~ кротости, вежливости и твердости... — Ср.: Отчет. С. 158, а также ниже, с. 678, примеч. к с. 450.
С. 344. ...предписано от Горочью... — О Городзю см. выше, с. 616—617, примеч. к с. 318. Родзю (слог «го» придает слову оттенок почтительности) — название высшей должности в правительстве сёгуна (впервые упоминается в 1623 г.; соответствовала должности государственного секретаря). Родзю непосредственно подчинялся сёгуну и управлял императорским двором, удельными князьями и чиновниками. Эту должность поочередно в течение месяца занимали четыре или пять человек из крупных наследственных вассалов дома Токугава (о нем см. выше, с. 614, примеч. к с. 317). «Верховный совет светского императора, — писал В. М. Головнин, — состоит из пяти членов, которые должны быть непременно владетельные князья. Совет сей заведывает и решает все случаи, в общем течении и в обыкновенном порядке дел встречающиеся, не относясь к императору. <...> Совет сей называется Городжи, члены оного занимают первое место в японском адрес-календаре, каковой у них издается ежегодно и где помещаются почти все гражданские чиновники» (Головнин. Записки. С. 320).
С. 344. Рентмейстер (гол. rentmeester) — один из двенадцати чиновников финансового ведомства, подчинявшихся главноуправляющему финансами; должность была установлена в 1664 г.
С. 345. Масака — темно-красный цвет с синим отливом.
С. 346. И они ~ хикали, когда те обращали к ним речь. — См. выше, с. 624, примеч. к с. 325.
С. 346. 9-го сентября. День рождения ~ великого князя Константина Николаевича. — Великий князь Константин Николаевич (1827—1892) — второй сын императора Николая; вступил в командование фрегатом «Паллада» в 1846 г. в чине капитана I ранга и совершил на нем две морские кампании в 1847—1848 гг.; с 1853 г. вице-адмирал, управляющий Морским министерством; с 1855 г. генерал-адмирал, управляющий флотом и Морским министерством на правах министра. Великий князь напутствовал офицеров и команду «Паллады» перед отплытием из Кронштадта 7 (19) октября 1852 г. (см.: Отчет. С. 139).
С. 346. Когда, после молебна, мы стали садиться в шлюпки ~ и ярко запестрели на солнце. — Ср. «Рапорт» Е. В. Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 112), а также: Отчет. С. 154; Всеподданнейший отчет. С. 182.
С. 346. ...с гимном «Боже, царя храни»... — В 1816—1833 гг. в России, по выбору великого князя Константина Павловича, использовался английский гимн «God, save the King» (1740); перевод-вариация его первой строфы был создан В. А. Жуковским («Молитва русских», 1815), следующих двух — А. С. Пушкиным (1816). Указом от 31 декабря 1833 г. был введен новый гимн — «Молитва русского
- 640 -
народа»: на музыку А. Ф. Львова Жуковским был написан новый текст (см.: Бернштейн И. История национальных гимнов. Пг., 1914. С. 1—9, Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 306, 784).
С. 348. ...где же помещается тут до шестидесяти тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг? — О К. П. Тунберге и описании его путешествия по Европе, Азии, Африке и Японии см. выше, с. 591, примеч. к с. 246. В 1775 г. Тунберг в качестве врача при голландской фактории приехал в Нагасаки; провел в Японии год и четыре месяца, в течение которых преподавал японским ученым медицину, естествознание, минералогию, занимался исследованием флоры страны; автор исследования «Flora Japonica» (Leipzig, 1784). Тунберг не сообщал сведений о численности населения Нагасаки, отмечая только, что из деревни он превратился в «густонаселенный и цветущий» город (см.: Thunberg. P. 291). Данные о 60000—70000 жителей сообщал Ф.-Ф. Зибольд (см: Зибольд. Т. 1. С. 179).
С. 348. ...как зовут сиогуна. ~ у них имя государя действительно почти тайна... — См. ниже, с. 652, примеч. к с. 378—379.
С. 348. ...тьмы людей. — См. выше, с. 558, примеч. к с. 49.
С. 349. ...носилки, или «норимоны» по-японски ~ не то что в Китае. — Носилки «норимоно» (другое название — «каго») служили не только средством передвижения, но и символом высокого поста (как и в Китае). Подробнейшее описание способа передвижения в «норимоно» дают как Э. Кемпфер (см.: Kaempfer. Vol. 2. P. 401—403), так и К. П. Тунберг (см.: Thunberg. P. 330—332). В статье «Япония и японцы» Е. Ф. Корш приводит рассказ Тунберга «„Внутренность, — говорит Тунберг, — обита прекрасной шелковой тканью, иногда бархатом. На дне лежит бархатный тюфяк с таким же одеялом. Спина и локти покоятся на продолговатых подушках, а для сиденья назначена круглая, с отверстием посереди. На переднем конце устроена полка или две для помещения чернильницы, книг и других предметов. Окна, снабженные занавесками или сторами, опускаются или подымаются, смотря по надобности. Не знаю экипажа удобнее этого — настоящая подвижная комната! И надобно очень долго в ней оставаться, чтоб почувствовать усталость. Кузов снаружи под лаком и расписан. Его несут на шесте, проходящем поперек над крышкою. Число носильщиков соизмеряется с достоинством путешественника: их бывает не менее шести, а иногда и более двенадцати; одна половина сменяет другую...”» (Корш. № 10. С. 37). См. также подробное описание «норимоно»: Зибольд. Т. 1. С. 209—212.
С. 349. ...простительно и слона не заметить. — Перифраз из басни И. А. Крылова «Любопытный» (1814): «Слона-то я и не приметил».
С. 349—350. Ужели это солдаты? ~ одни чехлы без ружей. — О японских солдатах, которые «видом своим и одеждою возбуждали в моряках наших смех и сожаление», см.: Отчет. С. 154; ср. также: наст. т., с. 112 («Рапорт» Е. В. Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г.), и ниже, с. 682, примеч. к с. 455.
С. 350—351. ...вот они решили, лет двести слишком назад, что европейцы вредны и что с ними никакого дела иметь нельзя... — Указы о «закрытии» Японии 1633—1639 гг. предписывали запрет христианства, изгнание из страны всех иностранцев, запрет на выезд из
- 641 -
страны японцев и закрытие портов (см., например, текст указа 1839 г.: Военский. № 7. С. 130; подробнее: Файнберг 1959. С. 58—63). Только одна японская купеческая компания в Нагасаки сохранила право на торговлю с Китаем и Нидерландами; о голландской фактории в Нагасаки см. выше, с. 614—615, примеч. к с. 317.
С. 351. Известно, что этот микадо (настоящий, законный государь, отодвинутый узурпаторами-наместниками, или сиогунами, на задний план) не может ни надеть два раза одного платья, ни дважды обедать на одной посуде. ~ сиогун аккуратно поставляет ему обновки, непростые, подешевле. — См. выше, с. 621—622, примеч. к с. 322.
С. 352. Давно ли сарказмом отвечали японцы на совет голландского короля отворить ворота европейцам? — В 1844 г. голландская миссия доставила в Нагасаки послание сёгуну от короля Вильгельма II с предложением об открытии страны. Проект послания принадлежал Ф.-Ф. Зибольду (о нем см. выше, с. 629—630, примеч. к с. 329), который вспоминал об этом в 1854 г.: «Нидерландский король первый обратился ко двору в Иедо с предложением в пользу всего торгующего мира и ко благу самого японского народа. Письмо Вильгельма II к сьогуну (так называемому светскому императору) от 15 февраля 1844 года имело в виду, кроме поддержки спокойствия и мира, только всеобщий торговый интерес и отличалось таким бескорыстием, какого едва ли можно ожидать от главы торгового народа. Письмо указывало на опасность, которой правительство подвергает народ и государство упрямым соблюдением старых законов, не дозволяющих сношений с иностранцами» (Зибольд МСб. С. 4). В письме Вильгельма, врученном Зибольду, по собственному его признанию, «доверием короля» и десять лет им «верно хранимом», говорилось: «Мы надеемся, что мудрое японское правительство убедится в том, что мир может быть сохранен только дружелюбными отношениями, а эти последние порождаются одною торговлею» (Там же. С. 5; см. также: Зибольд. Т. 2. С. 201—202; Lensen 1959. P. 309—310). Король предупреждал японское правительство и о возможности открытия страны немирным путем. «Эти проникнутые благородством слова повелителя, — сообщал Зибольд, — испытанного в преданности и верности народу, произвели глубокое впечатление на сьогуна. 4 июля 1845 года последовал ответ: „Письмо короля содержит верные и откровенные советы, слова глубокой важности и благоволения беспримерного. Государь (Ниппона) искренне тронут побудительными причинами этих слов; но что таится в глубине его сердца, того он не смеет даже открыть”» (Зибольд МСб. С. 5). Ответное послание сёгуна цитировалось Зибольдом в другой публикации, оно гласило: «Я внимательно следил за событиями, которые произвели основную перемену в политике Китайской империи. Эти-то события, на которые опираются ваши советы, служат мне самым ясным доказательством, что государство может наслаждаться продолжительным миром только при строжайшем исключении всех иностранцев. Если б Китай не дозволил в прежнее время поселиться множеству англичан в Кантоне и укорениться там, то не произошло бы ссор, которые повели к войне, или англичане, по слабости своей, погибли бы в неравной борьбе <...> легче удержать плотину в целости, чем чинить проломы, которые в ней сделают. Я дал моим чиновникам приказания, сообразные с такою моею волею;
- 642 -
будущее покажет вам, что наша политика гораздо мудрее китайской» (Зибольд. Т. 2. С. 203—204; ср.: Буйницкий. № 9. С. 81). См. также: Green D. C. Correspondence between Willhelm II of Holland and the Shogun of Japan. A. D. 1844 // Transactions of the Asiatic Society of Japan. 1907. Ser. 1. Vol. 34. Part 4. P. 99—132. Ср. письмо Гончарова к А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г.: «Давно ли с сарказмом отвечали они на письмо голландского короля, который увещевал их сблизиться с европейцами, приводя в пример наказанное упорство китайцев, допускавших европейцев только в один порт? Японцы отвечали (через два года после получения письма), что китайцы не испытали бы горькой участи, если б не пускали никого и в один порт».
С. 352. Им приводили в пример китайцев ~ открытие пяти портов... — См. об этом ниже, с. 669, примеч. к с. 431.
С. 352. А вот теперь иностранцы постучались в их заветные ворота с двух сторон; см. также с. 353: Тут хитрые, неугомонные промышленники, американцы; здесь горсть русских... — Гончаров имеет в виду экспедицию коммодора М. К. Перри (о ней см. выше, с. 567—568, примеч. к с. 106, и ниже, с. 647—648, примеч. к с. 367). Русская дипломатия в данном случае опередила английскую: английская эскадра под командованием Джеймса Стирлинга прибыла в Нагасаки только в сентябре 1854 г.; англо-японский договор о торговле (Нагасакский) был подписан 2 (14) октября 1854 г. См. подробнее: Beasly W. G. Great Britain and the Opening of Japan. 1834—1858. London, 1951.
С. 352. ...а это все равно для японцев, что быть или не быть. — См. выше, с. 638, примеч. к с. 341.
С. 353. ...он отслужил свой год ~ готовился отправиться сам в Едо, домой, к семейству, которое удерживается там правительством и служит порукой за мужа и отца... — О смене чиновников в должности губернатора см. выше, с. 637—638, примеч. к с. 341. Частью отношений вассалитета в Японии была система заложничества (санкин-котай), заключавшаяся в том, что как чиновники сёгуна, так и даймё (князья) обязаны были через каждый год приезжать из своих владений в столицу и жить там от шести до двенадцати месяцев, тогда как их семьи постоянно находились в Эдо. Как писал В. М. Головнин, «ни один губернатор не имеет права брать с собой в губернию ни жены, ни детей — они должны оставаться в столице заложниками его верности. То же самое наблюдается и в рассуждении владетельных князей: жены и дети их всегда живут в столице, а сами князья погодно — один год живут со своей семьей, а другой — в княжестве своем» (Головнин. Записки. С. 179; ср.: Thunberg. P. 289; Зибольд. T. 1. С. 365).
С. 353. ...хикает и перед губернатором, и перед нами. — См. выше, с. 624, примеч. к с. 325.
С. 353. ...русский штык ~ сверкнул уже при лучах японского солнца... — Здесь возможна перекличка с заключительными строками второй части «Кавказского пленника» А. С. Пушкина:
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И откликались на курганах
Сторожевые казаки.
- 643 -
С. 354. ...мой ученый источник... — Т. е. книга «Описание о Японе» (см. выше, с. 634, примеч. к с. 333).
С. 354—355. ...в приезд Резанова, в их Верховном совете только двое ~ подали голос в пользу сношений с европейцами, а теперь только два голоса говорят против этого. — Ср.: Всеподданнейший отчет. С. 180. О посольстве Н. П. Резанова см. выше, с. 637, примеч. к с. 340.
С. 356. ...пролитую кровь христиан ~ когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест... — Распространение христианства в Японии относится к середине XVI в., времени появления в стране испанских и португальских миссионеров; к концу XVI в. в стране насчитывалось от 150 000 до 300 000 христиан (см. подробнее: Boxer. P. 111—113; 320—321; Файнберг 1959. С. 44; Искендеров. С. 159—192). Эдиктами 1587 и 1597 гг. христианство и его проповедь были запрещены, миссионеры изгнаны из страны или казнены. В 1614 г. вышел указ о полном запрещении христианства; принадлежность к христианской религии была объявлена государственным преступлением. В 1633—1639 гг. окончательно определилась политика «закрытия» страны. О христианских мучениках в Японии, и в частности их общий мартиролог за 1614—1650 гг., см.: Boxer. P. 326—361, 448. Биограф И. С. Унковского, рассказывая о спасенном Е. В. Путятиным японце-христианине (в Симода, в декабре 1854 г. — Ред.), писал: «В 1854 году христианство в Японии еще преследовалось с неумолимою беспощадностью. После поголовного избиения христиан в начале XVII столетия, вызванного корыстными и безнравственными поступками миссионеров-иезуитов, Япония окончательно замкнулась и правительство Микадо установило закон, по которому переход в христианство наказывался смертной казнью. Через двести с лишком лет этот закон оставался в полной силе» (Истомин. С. 61—62). См., кроме того: Вениаминов И. Г. Религия и христианство в Японии. С. 32—40, а также ниже, с. 644, примеч. к с. 361.
С. 356. ...открытая корма ~ Кемпфер говорит, что в его время сиогун запретил строить суда иначе, чтоб они не ездили в чужие земли. — См. выше, с. 638, примеч. к с. 341.
С. 357. Ни бровь, ни глаз не шевелились. ~ живые ли они, наконец? — Этика феодального периода запрещала японцам выражать в подобных случаях какие-либо чувства.
С. 357—358. Овосава — это имя, Бунго-но — нечто вроде фамилии ~ частица «но» ~ грамматическая форма. Ками — почетное название ~ сама — господин... — См. выше, с. 637—638, примеч. к с. 341.
С. 359. Я опять вспомнил угощенье Лисицы и Журавля. — См. выше, с. 638, примеч. к с. 341.
С. 360. ...сели на ~ кресла, а губернатор на маленькое возвышение... — Для губернатора были сложены два «татами» (встреча состоялась в зале с 12 «татами»). Как пояснял В. А. Римский-Корсаков, «японский этикет требует главнее всего, чтоб разговаривающие, равные саном, имели головы на одной высоте» (Римский-Корсаков. С. 250).
С. 361. В бумаге заключалось согласие Горечью принять письмо. — Сохранился текст ответа «чрез устный перевод старшего переводчика для Десимы, Кичибе», датированный 9 (21) сентября 1853 г. Он гласит: «При этом случае вами доставлено в Нагасаки письмо от
- 644 -
российского правительства. В прежние годы дано знать, что правительство японское желает, чтоб русские суда не приходили более в Японию: и потому не следовало бы теперь принимать упомянутое письмо. Но в настоящее время имеется причина необходимости; почему я писал об этом в Иеддо, для получения приказаний. Полученный мною на это ответ заключает в себе, чтобы привезенное вашим превосходительством письмо я принял и отправил бы в Иеддо» (АВПР, л. 28). Под ответом подписи Кичибе и Льоды.
С. 361. В этой второй бумаге сказано было, что «письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может». — В «бумаге» за подписью Кичибе и Льоды говорилось: «Ответ на принятое теперь письмо не может быть получен из Иеддо в скором времени. Ибо до прочтения его содержания ничего нельзя будет сказать о нем, это мне сообщено уже из Иеддо. Поэтому я полагаю, что весьма будет трудно получить ответ в скором времени» (там же, л. 29).
С. 361. Португальские миссионеры привезли им религию ~ Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки... — В португальской и испанской колониальной экспансии в Китае и Японии (с середины XVI в.) важнейшую роль играли католические миссионеры: доминиканцы, францисканцы, августинцы, иезуиты (о последних см. выше, с. 625, примеч. к с. 325). В частности, в Японии в 1549—1551 гг. активную проповедь вел Франциск Ксавье, ближайший ученик и сподвижник Игнатия Лойолы, а также другие посланцы ордена; по подсчетам Чарльза Боксера, к 1590-м гг. число иезуитов, обслуживавших храмы, школы, семинарии, миссионерскую прессу, достигало 600 человек (см.: Boxer. P. 36—40, 92—93, 137—247, а также: Буйницкий. № 9. С. 463—466; Steinmetz. P. 367—372; Файнберг 1959. С. 25—40; Искендеров. С. 161—168 и др.). Как писал В. М. Головнин, католические священники в Японии «произвели самую ужасную междоусобную войну» и «более заботились о собрании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы». Главной причиной гонения на христиан, по словам Головнина, были «нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов. Те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства <...>. <...> Бесчестные поступки и алчность вышеупомянутых католических проповедников и португальских купцов возродили в японском правительстве столь великую ненависть к христианской религии и ко всем христианам, что гонения на них сопровождаемы были ужаснейшими мучениями...» (Головнин. Записки. С. 222, 301—302). Ср.: Владимир, еп. Недобрые деяния иезуитов в японской империи в 16-м и 17-м вв. и до настоящего времени. Воронеж, 1892.
С. 361. ...любовь к ~ превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах... — См. выше, с. 608—609, примеч. к с. 314.
С. 361. ...варфоломеевские ночи... — Название пошло от массового истребления гугенотов католиками, начавшегося в Париже в ночь под праздник Св. Варфоломея 24 августа 1572 г.
С. 362. ...как фигуры воскового кабинета... — В 1840—1850-х гг. в Петербурге выставлялся рассчитанный на невзыскательную публику «Кабинет восковых фигур» Шульца (Шульта, Шульдца), в разные годы помещавшийся по разным адресам (подробнее см.: Боград В. Э.
- 645 -
«Кабинет восковых фигур»: (Неизвестные стихи молодого Некрасова) // Некрасовский сборник. М.; Л., 1956. Т. 2. С. 397—400). В 1852 г. «Кабинет механических автоматов и восковых фигур» Шульца располагался на Большой Морской улице и предлагал посетителям, согласно газетным объявлениям, «сто с лишком автоматов и восковых фигур», среди которых особо отмечался «так называемый говорящий автомат, который на всякий вопрос делает удовлетворительные ответы, смеется, кашляет, поет и тушит свечу» (см.: СПбВед. 1852. 1 дек. № 270 и др.).
С. 362. Еще мне понравилось ~ отсутствие ярких и резких красок. ~ нежные, смягченные тоны... — Ср. впечатление В. А. Римского-Корсакова: «Ежели японский костюм нельзя назвать ни ловким и ни изящным по покрою, то можно отдать полную справедливость их вкусу в выборе халатных материй. Ни одного из них не встречалось такого, чтобы бросался в глаза своей яркостью или пестротою красок: все были неопределенных темноватых или бледных цветов, названий которых так много на французском языке и которых нельзя передать на нашем <...>. И вместе с тем я не заметил и двух японцев в одинаковых халатах, так что эти оттенки своим разнообразием придавали группам японцев приятный глазу колорит. В сравнении с этими одеждами — неловкими, но полными и [не] сжимающими человека будто в прессе, — куда как общипаны и облизаны казались наши хвостатые мундиры, невзирая на украшающее их золотое шитье. А между тем нельзя сказать, что японцы были одеты пышно. Напротив, в такой костюм можно нарядить монаха, но по этому умению щеголять простотой можно судить, что они имеют образцовый вкус» (Римский-Корсаков С. 246—247).
С. 362. ...в кабинете натуральной истории. — О музее натуральной истории см. выше, с. 588, примеч. к с. 226.
С. 363. ...цвета Adelaïde... — В литературе 1840—1850-х гг. этот цвет, обычно светло-сиреневый, фигурировал очень часто (например, у Тургенева («Контора»), Достоевского («Село Степанчиково и его обитатели»), Панаева («Кошелек»)), но затем, по замечанию М. П. Алексеева, он был забыт (см.: Тургеневский сборник. Л., 1967. Т. 3. С. 169—170).
С. 365. Губернатор просил отложить их ~ Он раскланялся и скрылся. — Оценку первого визита Е. В. Путятина к губернатору дал в дневнике В. А. Римский-Корсаков, писавший: «Хотя адмирал и съехал на берег довольно парадно, в сопровождении большого штаба офицеров, с 25 человеками почетного караула из матрос в полном вооружении и с музыкою, на 5-ти катерах, но все-таки, по общему отзыву и особенно по подробностям, сообщенным мне Назимовым, я вижу, что при этом свидании японцы выказали и более такта, и более достоинства, нежели с нашей стороны. Об аудиенции этой были предварительные переговоры на фрегате. Японцы требовали сначала тех же церемоний, или, лучше сказать, тех же унижений, каких они привыкли требовать от европейцев, т. е. чтобы перед губернатором не садиться, входить в комнаты без обуви, ехать на японских лодках и тому подобное, но, разумеется, им в этом было отказано: и адмирал, и командиры судов, и еще Гончаров, Посьет и Крюднер сидели, для чего и стулья были взяты с фрегата. Обувь не была снята, но, правда, желательно было, чтобы адмирал не надевал на сапоги парусинных башмаков. Посольство пристало в самом
- 646 -
городе, встречено было теми же чиновниками (которые приезжали на фрегат для переговоров о церемонии) и парадом, между двух шеренг японских солдат, дошло пешком до дома недалеко от пристани, где помещалась канцелярия губернатора и где очищены были комнаты для свидания, ибо японцы хотели, чтобы иностранцы как можно менее рассмотрели город, и, вероятно, для того же все дома той улицы, по которой наши проходили, были завешены бумажными полотнищами. Свидание было очень непродолжительно и ограничилось только передачею письма. Губернатор встретил адмирала у столика, стоявшего посредине большой комнаты, устланной циновками, без всякой мебели, кругом которой сидело на корточках неподвижно во все время свидания человек двадцать японских чиновников. Офицеры, сопровождавшие адмирала, стояли позади его. После передачи письма адмирала приглашали пообедать, но так как он соглашался на это не иначе как при условии, чтобы губернатор составил ему компанию, то обед и не состоялся, но, проходя в другую, дальнейшую комнату, в которую губернатор приглашал их отдохнуть, они видели стол, накрытый и сервированный по-европейски. Условлено было, что губернатор обязан встретить адмирала у дверей, но этого не было — губернатор и адмирал в одно время вошли в комнату из разных дверей, а после, когда пригласили его в комнату отдохновения, то он нашел губернатора (вышедшего из аудиенц-зала прежде) уже сидевшим, и на поклон адмирала при входе губернатор отвечал только наклонением головы, а следовательно, японцы на этот раз остались на ветре. Притом хотя обедать адмирал не согласился, но все же допустил, чтобы ему подали чашку чаю в комнате, предшествовавшей последней, в которой они сидели ¼ часа в компании баниосов и переводчиков — без губернатора. Вообще видно было, что японцы во всей этой церемонии строго следовали заранее обдуманному плану, тогда как наш адмирал действовал по обстоятельствам и, как видно — нерешительно» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 168—169).
С. 365. ...у них многоженство не запрещено. — В ч. 3 «Записок» В. М. Головнин замечал об этом: «Японцы имеют по одной, так сказать, законной, или настоящей, жене, которая в высшем классе людей должна быть одного состояния с мужем и бывает с ним венчана в храме с большою церемониею. Но, кроме сей, они могут иметь сколько кому угодно наложниц, которых некоторым образом также можно назвать женами, ибо содержание их не почитается предосудительным ни их чести, ни чести любовников их. Они живут явно в одном с ним доме и бывают все вместе» (Головнин. Записки. С. 329). Согласно сведениям Е. Ф. Корша, в Японии «муж имеет право держать у себя в доме неограниченное число наложниц, и нередко у них заведено свое особое хозяйство, так что они не в зависимости от законной жены. Разумеется, это бывает только у людей достаточных; в низших же классах примеры многоженства довольно редки. Обыкновенно наложницы подчинены жене, и, в знак униженного, хотя и не обесславленного их состояния, им запрещено брить или выщипывать себе брови, что делает всякая японка по выходе замуж или рождении первого дитяти...» (Корш. № 9. С. 19).
С. 366—367. 15 и 16 сентября. ~ Я спал и не видал никого. — Ср. записи в дневнике о. Аввакума в те же дни: «День весь ясный и
- 647 -
теплый. В 8 часов потребовали переводчиков, а через них потом баниосов. Объяснена претензия, зачем японские лодки ночью стоят слишком близко к фрегату, и что днем мы будем кататься, не обращая внимания на близость их. Еще переводчик приезжал с требованием записки, где был „Меншиков” и пр<очее> для отсылки известия в Иеддо. После обеда капитан и офицеры катались под парусами. Японцам было неприятно. Ночь светлая»; «В 3 часа приехали японцы с новым переводчиком (oppertolk), прибывшим из Иеддо. Сказали, что в Нагасаки приехал новый губернатор, что посланного в Иеддо с нашею бумагою баниоса Бабу Городзаймо<на> они встретили за 30 миль отсюда. Предлагали нам передвинуться на внутренний рейд» (Аввакум. С. 48).
С. 367. Нового зовут Мизно Чикого-но-ками-сама. — Второй губернатор (об их смене см. выше, с. 637—638, примеч. к с. 341) Мидзуно Тикуго-но-ками Таданори (1810—1868) (Тикуго — старое название юго-западной части префектуры Фукуока) прибыл из Эдо в Нагасаки 15 (27) сентября. В 1853—1855 гг. Мидзуно был 107-м нагасакским губернатором, а в 1857—1858 гг. — 111-м. Он являлся полномочным во время переговоров о заключении англо-японского (см. выше, с. 642, примеч. к с. 352) и французско-японского договоров о торговле (последний заключен 9 октября 1858 г.).
С. 367. ...переводчик Эйноске. — Имеется в виду Морияма Эйно-сукэ (1820—1871), переводчик с голландского, владевший также английским языком (позднее участвовал в составлении «Англо-японского словаря»); один из ведущих переводчиков в дипломатических переговорах в последние годы правления сёгуната. В 1862—1863 гг. Эйносукэ посетил Англию, Голландию, Германию, Россию, Португалию и Францию в качестве переводчика японской делегации, направленной в Европу для переговоров об отсрочке открытия японских городов и портов (о нем см. также: Lensen 1955. P. 170). Яркий портрет Эйносукэ оставил В. А. Римский-Корсаков: «Один из переводчиков, Эйноскэ по имени, был очень презентабельный джентльмен, говорил немножко по-английски, хорошо писал по-голландски и, видимо, вкусил европейского просвещения настолько, что ему тягостным казалось подчиняться смешным условиям японского церемониала. С любопытством он расспрашивал нас о Европе, но, к сожалению, он и в этом не имел много свободы: по системе взаимного шпионства он, конечно, из товарищей или баниосов, которых он сопровождал, нашел бы одного благоприятеля, который мог бы донести против него, что он с русскими много разговаривает на неизвестном языке и, следовательно, может быть изменником. Прийти к кому-нибудь в каюту без какого-либо товарища, который мог быть свидетелем ему, он решался не больше как на полминуты» (Римский-Корсаков. С. 237—238).
С. 367. ...что американцы были у них в Едо. — Прибыв в Эдосский залив 26 июня (8 июля) 1853 г., М. К. Перри 2 (14) июля с вооруженным отрядом в 300 матросов высадился на берег в селении Урага, произведя панику среди населения: распространились слухи о вторжении в страну иностранцев, многие бежали из столицы в провинцию. Правительство сёгуна было принуждено принять доставленное Перри послание президента США Милларда Филмора и гарантировать его рассмотрение. Эскадра покинула
- 648 -
залив 5 (17) июля с намерением возвратиться за ответом в апреле-мае следующего года (см.: Perry. Vol. 1. P. 267—319, Walworth. P. 70—113; Lensen 1953. P. 43; Lensen 1959. P. 311—322). Перри вновь прибыл в Эдосский залив 31 января (12 февраля) 1854 г. во главе эскадры, состоявшей из 9 судов с 220 «бомбическими пушками», как писал Ф.-Ф. Зибольд (см.: Зибольд МСб. С. 27), и высадился с десантом в 500 человек в Канагава (вблизи Эдо), угрожая привести эскадру в столицу. Это встретило со стороны японцев, как сообщалось в одном из донесений Перри, «большое сопротивление, они были будто громом поражены от одной мысли видеть наши колесно-огненные суда под стенами императорского дворца <...> некоторые из японцев объявили, что минута отдачи якоря возле дворца будет сигналом для них распороть себе живот» (Письмо из Японии // МСб. 1854. № 10. Отд. III. С. 209; см. также: Lensen 1953. P. 44). Американо-японский договор о мире и дружбе и установлении торговых отношений (Канагавский), открывавший для американских судов порты Хакодате и Симода, был подписан 19 (31) марта 1854 г. (его полный текст см.: Perry. Vol. 1. P. 440—442, Lensen 1955. P. 158—160); 8 (20) апреля 1854 г. эскадра Перри покинула Японию. См. также ниже, с. 653—654, примеч. к с. 385.
С. 367. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать: война или мир в Европе? ~ 17-го. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург... — О начале Крымской войны см. ниже, с. 660, примеч. к с. 396; «бумаги в Петербург» — это, в частности, письмо Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину и его «Рапорт» великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (см.: наст, т., с. 104—115); кроме того, письмо Гончарова к А. С. Норову от того же числа. О. Аввакум записал в дневнике 17 сентября: «Адмирал готовил депеши в Россию. Весь день толковали о том, что делать нам, если открылась у нас война с турками: куда деваться от англичан» (Аввакум. С. 50). «Легко себе представить, — писал Б. М. Энгельгардт, — в каком положении оказалась экспедиция, и в особенности Путятин, страстный англоман, все свои расчеты строивший на английской поддержке, когда в Гонконге после всяческих любезностей англичан в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды он натолкнулся не только на глухое противодействие в его кантонских переговорах, но и на целый ряд мелких затруднений при ремонте фрегата и пополнении запасов. В связи с газетными известиями о русско-турецком конфликте все это приобретало характер весьма зловещих симптомов.
Положение „Паллады” с выходом в Тихий океан становилось прямо отчаянным. Было совершенно очевидно, что в случае начала военных действий английская эскадра, занимавшая ближайшие китайские порта, узнает об этом раньше „Паллады” и, будучи в подробностях осведомлена о маршрутных предположениях экспедиции, легко захватит ее в том или ином месте» (Энгельгардт. С. 236—237). Е. В. Путятин принял решение направить эскадру из Нагасаки в более безопасный, нейтральный порт Сан-Франциско (см.: Всеподданнейший отчет. С. 183; письмо Путятина к Л. Г. Сенявину и его «Рапорт» великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г., а также письмо Гончарова к А. С. Норову от того же числа). Транспорт «Князь Меншиков» 21 сентября (3 октября)
- 649 -
был вновь отправлен в Шанхай «для собрания сведений о политических делах в Европе» (Отчет. С. 156; Обзор. Т. 1. С. 39; см. также ниже, примеч. к с. 369).
С. 369. 21-го. ~ не сделали бы ничего. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума: «Утром тихо. В 6 часов снялся с якоря <«Меншиков»> и поднял паруса. Наши 2 катера пошли буксировать его: присоединилось множество яп<онских> лодок, и вместе вывели транспорт до открытого моря. Подул юго-западный ветер, и он сам пошел под парусами. Во весь день японцы к нам не приезжали После полудня ветер усилился. Полагали, что для транспорта он не был противен» (Аввакум. С. 51).
С. 369. 24-го. ~ а может быть, и за холодный прием. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума от того же числа: «По требованию приезжали японцы для объяснений, и, между прочим, чтобы не довезенную по счету свинью на неделе привезли, также чтобы привозили коз и живой рыбы» (Аввакум. С. 52).
С. 369. 25-го сентября — ровно год, как на «Палладе» подняли флаг ~ молебен и большой обед. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума от того же числа: «Сегодня исполнился год, как „Паллада” вышла из гавани на Кронштадский рейд. Благод<арственный> молебен. Утро прохладное. Реом<юр> +15° во весь день. В час и потом в 3 часа приезжали японцы по требованию адмирала. Сказали, что дня через два отведут нам место на берегу. Обед в кают-компании с музыкою и песнями. Матросы веселились целый день, пели песни, танцевали и плясали. В 4 часа дождь и сделалось тепло. Луна молодая показалась сквозь облака» (Аввакум. С. 53). См. также ниже, с. 651, примеч. к с. 376.
С. 369. ...приехал Хагивари-Матаса... — Более точная транскрипция этого имени — Хагивара Матасаку.
С. 371. Наши и корветные офицеры играли «Женитьбу» Гоголя и «Тяжбу». — Премьера гоголевской «Женитьбы» (1842) на сцене петербургского Александрийского театра состоялась 9 декабря 1842 г. «Тяжба» (1842) — сцена из неоконченной сатирической комедии Гоголя «Владимир 3-й степени», над которой писатель работал в 1833 г.; впервые поставлена в Александрийском театре 27 сентября 1844 г. Очевидно, на «Палладе» имелись «Сочинения Николая Гоголя» (СПб., 1842. Т. 1—4), в т. 4 которых обе эти пьесы были напечатаны впервые.
С. 371. ...мичман Зеленый ~ насмотрелся на лучших наших комических актеров. — В обеих названных пьесах Гоголя были заняты «лучшие наши комические актеры»: в Александрийском театре — А. Е. Мартынов и И. И. Сосницкий; в московском Большом театре в «Женитьбе» (премьера — 5 февраля 1843 г.) — М. С. Щепкин и В. И. Живокини.
С. 371. Смешон Лосев свахой. — К. И. Лосев играл в «Женитьбе» сваху Феклу Ивановну. В этот же день о. Аввакум записал в дневнике: «В 7 часов вечера спектакль на корвете. Играли „Женитьбу”, соч<инение> Гоголя, и „Тяжбу”, соч<инение> его же» (Аввакум. С. 53). Ставились спектакли и на шхуне «Восток». Командир шхуны писал: «Вечера обыкновенно заканчиваем спектаклями, доморощенными или фельдфебельского производства, а иногда импровизируем сценки <...> я поощряю эти спектакли, насколько можно <...> и деньгами...» (Римский-Корсаков. С. 59).
- 650 -
С. 371. Я вспомнил картины Айвазовского. — Иван Константинович Айвазовский (1817—1900) к 1840-м гг. уже был прославленным художником-маринистом; с 1843 г. — академик живописи; с 1847 г. — профессор Петербургской Академии художеств.
С. 371—372. 28 и 29-го. ~ по ночам холодно. — Ср. записи в дневнике о. Аввакума: «Поутру тихо. Японцы привезли по требованию в первый раз четыре<х>угольных раков, небольших омаров, больших шримсов и весьма хорошей свежей рыбы разного сорта. Один сорт походил на лососину с белым мясом (очень вкусная и нежная рыба), другой сорт такой же, который на мыс<е> Д<оброй> Н<адежды> называют готтентотом, с красною кожею, третий походит на окуней. По ночам Реом<юр> +12° на палубе»; «Японцы приезжали сказать, что середину лодочной цепи у внутреннего рейда, прежде открытую, они хотят заставить лодками, а вместо того оставят промежуток, для проезда на корвет, у самого берега. Адмирал рассердился и сказал, что эту цепь он прикажет разорвать. Они тотчас уехали. Ночью они поставили на средине только одну лодку в прибавок. Ночь холодная» (Аввакум. С. 53—54).
С. 372. ... morgen, morgen, nur nicht heute... — См. выше, с. 564, примеч. к с. 87.
С. 372. 30-го. ~ Вечером была всенощная... — Ср. запись в дневнике о. Аввакума: «В 10 часов потребованы баниосы, которым хотели сказать, чтобы слишком близкие к нам лодки, составляющие внешнюю цепь, были отведены к берегам, иначе мы прогоним их сами. Привезли рыбы и раков, также разной зелени и плодов Dios-pyros, совершенно зрелых. Нам они казались довольно вкусными, а адмирал предпочитал их даже плодам мангу, которые ели в Хон-Гоне. Баниосы не приезжали. В 6 ¾ час<а> всенощна<я>. Ночь ясная, небо без облаков» (Аввакум. С. 54)
С. 372. ...накануне Покрова. — Т. е. накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, приходящегося на 1 октября.
С. 374. Н. Назимов (бывший у нас)... — Николай Николаевич Назимов (1822—1867) — командир (с 1852 г.) корвета «Оливуца», присоединившегося к экспедиции Е. В. Путятина на островах Бонин (см. выше, с. 603—604, примеч. к с. 302); с 1866 г. контр-адмирал (см. некролог: Контр-адмирал в отставке Н. Н. Назимов // МСб. 1867. № 6. Морская хроника. С. 36—38).
С. 374—375. 2-го и 3-го. ~ Вчера, второго сентября ~ Не знаем, привезут ли. — У Гончарова ошибка в дате: «сентября» вместо «октября». Ср. записи в дневнике о. Аввакума за те же дни: «В 9 часов потребованы переводчики; им передана записка с вопросом, почему на двукратный призыв баниосов они не являются на фрегат. В 1 час пополудни японцы привезли пронсов (больших шримсов), гомаров и разной крупной рыбы. При переводчиках приказано отвести две японские лодки далее от фрегата, что нашими офицерами и исполнено. В 9 часов ночи приезжали переводчики сказать, что баниосы будут завтра в 12 часов»; «К 10 часам наехало множество японск<их> лодок, больших и малых. В первом часу уехали. Баниосам высказаны наши неудовольствия на грубиянство окружающих нас лодочников, на близость некот<орых> лодок к фрегату и на препятствия при катании на шлюпках. Вечером привезли провизию. Всенощна<я> в моей каюте» (Аввакум. С. 55).
- 651 -
С. 374. ...князя Физенского... — Т. е. князя земли Хидзэн (см. выше, с. 617, примеч. к с. 319); на самом деле это был князь земли Симабара (название полуострова в префектуре Нагасаки). См. также ниже, с. 696, примеч. к с. 479.
С. 375. ...и Сьоза. — Имеется в виду Мотоки Сёдзо (1824—1875), представлявший шестое поколение переводчиков с голландского языка из дома Мотоки; в 1853 г. стал ондер-толком. В 1853—1854 гг. Сёдзо был переводчиком во время переговоров с М. К. Перри (см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367) и с Е. В. Путятиным в Нагасаки и Симода, а в селении Хеда принимал участие в сооружении русской шхуны (см. ниже, с. 792—793, примеч. к с. 737). Позже Сёдзо основал железоделательный завод в Нагасаки и в 1868 г. там же построил первый в Японии железнодорожный мост. Он является также основателем шрифтового печатания в Японии.
С. 375. 4-го. ~ и долго колыхалась на одном месте. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума: «Ночь светлая; весь день прекрасный. Обедня в свое время. В 12 ч<асов> японцы привезли рыбы. В 8 часов серенада с корвета, данная певчими камчатскими на катере» (Аввакум. С. 55).
С. 375—376. 5-го. ~ и таскать с собой. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума: «Утро пасмурное, но теплое. В каюте Реом<юр> +16°. Секретарь князя Физена, приехавший ночью 1-го окт<ября> попировать на счет голландцев, возвратился домой; в 10 часов яп<онцы> привезли рыбу. После полудня дождь мелкий, но спорый. Назимов рассказывал о зимних поездках священника Удского острога на две тунгусские ярмарки, где он обыкновенно исповедует их и приобщает, а затем не видит их во весь год. Весь день пасмурный, но теплый» (Аввакум. С. 56).
С. 376. ...новый фрукт здешний, по-голландски называемый kakies ~ род фиги или смоквы ~ какофига. — См. выше, с. 635, примеч. к с. 337.
С. 376. 7-го октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. — О выходе «Паллады» из Кронштадта см.: Отчет. С. 139; Обзор. Т. 1. С. 21. Ср. в дневнике о. Аввакума: «Исполнился год нашему путешествию. Обедня и благодарственный молебен» (Аввакум. С. 56).
С. 376. Говорят, они нескромно ведут себя — не знаю, не видал и не хочу чернить репутации японских женщин. — О. Аввакум в дневнике неоднократно писал о «нескромности» японок: «В 8 часов на проходящей яп<онской> лодке видна была женщина в халате и юбке, но с открытою грудью нараспашку, очень здоровая и молодая» (3 сентября); «Днем проезжали мимо фрегата яп<онские> лодки с народом. Женщины нарочно распахивались и показывали свои большие груди и трясли их руками. Ужаснейшее бесстыдство!» (24 октября; Аввакум. С. 45, 62).
С. 376. ...все некрасивые, чернозубые... — См. ниже, с. 688, примеч. к с. 465.
С. 376—377. ...9-го октября, после обеда, сказали, что едут гокейнсы. ~ они желают поговорить с адмиралом. — Об этом визите о. Аввакум рассказывает в дневнике 6 октября: «Вечером в 6 часу приехали баниосы с старшими переводчиками и адресовались прямо к адмиралу. Усевшись по местам, несколько помолчали; один повесил голову и наконец сказал: „Мы приехали сообщить Вам неприятное известие. Государь наш скончался; это было 7-й луны 22-го числа
- 652 -
(14-го августа); а потому ответа на ваши бумаги нельзя ожидать скоро”» (Аввакум. С. 56).
С. 377. Есть еще Ясиро... — Вероятно, Ниси Ясиро.
С. 377. У них наследственные должности: сын по большей части занимает место отца. — См. выше, с. 614—615, примеч. к с. 317.
С. 378—379. ...объявил, что сиогун ~ умер! ~ получить скоро ответ ~ унмоглик, невозможно!» ~ сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. ~ они, может быть, и от своих скрывают такой случай, по крайней мере, долго. — Токугава Иэёси (1793—1853), 12-й сёгун (с 1837 г.) династии Токугава, скончался 15 (27) июля, а Путятину было сообщено о его смерти только 6 (18) октября (дата — по дневнику о. Аввакума; см. выше, с. 651—652, примеч. к с. 376—377), т. е. через два месяца после прибытия русской эскадры в Нагасаки. Правительство опасалось, что иностранные державы воспользуются безвластием в Японии, а собственный народ будет потрясен кончиной правителя, поэтому внутри страны об этом событии оповестили только месяц спустя, 14 (26) августа. 8 (20) октября Путятин передал японцам официальное соболезнование (см.: наст. т., с. 116—117; Файнберг 1969. С. 81). Ср. записи в дневнике о. Аввакума от 7, 8 и 9 октября: «Адмирал приказал приготовить бумагу для японцев с изъявлением участия в постигшей их скорби и другую с объяснением, что так как государь умер до получения известия о нашем прибытии в Нагасаки и, однако ж, бумагу нашего министра в Верховный совет приняли, то значит, что и рассуждать о делах наших в совете могут беспрепятственно, а потому мы все-таки будем ожидать ответа и без того не поедем. Ожидали известия об отводе нам места на берегу»; «В 10 часов я<понцы> привезли рыбу. Тотчас прибыли и баниосы с переводчиками объявить, чтобы об отводе места на берегу мы и не думали, потому что на это нужно разрешение из Иедо, а этого разрешения, равно как и ответа на наши бумаги, за множеством хлопот по случаю смерти государя, нельзя получить скоро»; «Баниосы и переводчики приезжали для получения изготовленных <...> бумаг, из коих в одной выражалось принятие участия в смерти государя, в другой объяснено было, что ни в каком случае без решительного ответа мы не поедем от берегов Японии» (Аввакум. С. 56—57). О смерти сёгуна см. также: Отчет. С. 156; Всеподданнейший отчет. С. 184. Новым, 13-м сёгуном стал Иэсада, 4-й сын Иэёси.
С. 380. ...они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко ~ чтоб это скорее изменилось»... — Ср. в дневнике о. Аввакума запись от 12 октября: «Приезжавший баниос-старик просил, чтобы, катаясь на шлюпках, не проходили далеко в море, потому что это противно их законам. Ему сказали, что эти законы скоро переменятся» (Аввакум. С. 58).
С. 381—382. 13-го октября. ~ за планетой. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума: «Я переводил на китайский язык обширнейшее объяснение от адмирала в верховный японский совет. Много лодок подъезжало к фрегату посмотреть на него вблизи. Матросы, быстро взлезавшие по вантам на марс и на салинги, чрезвычайно занимали всех. Между зрителями были в лодках и женщины; некоторые с грудными детьми. К вечеру было довольно холодно» (Аввакум. С. 59).
С. 382. ...а шкуна? Вот уж два месяца, как ушла... — См. выше, с. 635, примеч. к с. 337.
- 653 -
С. 382. ...поедет князь Чикузен или Цикузен ~ князя будут сопровождать до ста лодок... — Речь идет о Курода Нагахиро (1811—1887); Тикудзэн — старое название части префектуры Фукуока на острове Кюсю), представлявшем одиннадцатое поколение князей земли Фукуока. Он был близким знакомым Ф.-Ф. Зибольда и одним из тех, кто настаивал на открытии страны во время прибытия М. К. Перри. Курода с энтузиазмом воспринимал европейское образование, направлял своих подданных в голландскую факторию в Нагасаки для изучения медицины и военного дела, вел военную подготовку по западной системе. В 1853 г. Курода отвечал за безопасность порта Нагасаки. Ср. в дневнике о. Аввакума записи от 18 и 19 октября: «Баниосы просили отвести несколько корвет назад, чтобы дать место для проезда князя Чикузен<а>», «Ночью адмирал приказал корвету выйти вон из внутреннего рейда, подозревая японцев в злоумышлении, но, кажется, напрасно. Утром в 8 часов объявлено об этом переводчикам. В 9 часов корвет стал на прежнее место на среднем рейде. <...> Князь Чикузен действительно осматривал крепости, но предполагаемой многочисленности лодок вовсе не было. Множество японцев ездило около фрегата. Одной военной лодке приказано отодвинуться далее к берегу» (Аввакум. С. 60—61).
С. 382. Надворный советник — гражданский чин 7-го класса по Табели о рангах.
С. 383. Недаром Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. — Э. Кемпфер рассказывал о грозах в главе, посвященной климату Японии (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 102); о частых грозах и тифонах писал также Ф.-Ф. Зибольд (см.: Зибольд. Т. 1. С. 94); В. М. Головнин же лишь вскользь упоминал о «сильных громах» (см.: Головнин. Записки. С. 133). О японских грозах Гончаров вспоминает также в очерке «На родине» (глава I).
С. 383. Наконец, 23-го утром, запалили японские пушки ~ это наш транспорт из Шанхая с письмами, газетами и провизией. — О. Аввакум сообщал в дневнике о возвращении «Князя Меншикова» 21 октября: «В 9 часов выстрелы из пушек на мысе Номе, на крепостях, ближайших к морю, и в городе дали знать, что приближается иностранное судно; это был наш транспорт „Кн<язь> Меншиков”. Адмирал, капитан и пр<очие> поехали на двух катерах навстречу, но, не видав его, воротились. В 1 час увидели его с марса. Опять поехали буксировать его. В 6 часов он стал на якорь» (Аввакум. С. 61).
С. 383. 21-го приехали Ойе-Саброски с Кичибе и Эйноске. ~ наконец получен ответ из Едо! — Судя по записи в дневнике о. Аввакума, гокейнсы прибыли на «Палладу» 23 октября; ср.: «В 1 ½ часа приехали японские чиновники и переводчики и объявили адмиралу, что из Иедо получено известие, что бумаги наши там получены» (Аввакум. С. 62).
С. 384. 29. — У Гончарова отсутствуют записи от 30 и 31 октября. Между тем именно в эти дни между ним и о. Аввакумом произошло столкновение, о чем свидетельствуют следующие слова в дневнике последнего (запись от 30 октября): «Перед обедом Гончаров рассердил меня защищением своей бестолковой бумаги, которую я переводил» (Аввакум. С. 64).
С. 385. ...японские казенные лодки ~ с тех пор, как мы отбуксировали их прочь... — Об этом В. А. Римский-Корсаков писал в дневнике:
- 654 -
«Шлюпки наши разъезжают теперь свободно по всем рейдам, кроме внутреннего, и выезжают беспрепятственно кататься в море. Это начали мы делать с тех пор, как узнали из газет о смелых действиях американского коммодора Перри. С тех пор начали мы и отгонять караульные лодки, так что теперь никто уже нас не стережет» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 169; о «смелых действиях» М. К. Перри см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367, а также в «Рапорте» Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) — наст. т., с. 114). В связи с этим Римский-Корсаков размышлял о «всем ничтожестве японской силы»: «Кажется, в сношениях с иностранцами японцы выбрали себе за правило стараться improser (внушать уважение — фр.) какими бы ни было средствами, но далее этого рода сопротивления ничего себе не позволят. Так же точно, когда впоследствии мы начали посылать свои шлюпки, чтоб отвадить их караульные лодки, когда они вздумали было их ставить, то караульные сложа руки смотрели, как наши матросы входили к ним на лодку, как поднимали их якорь и как потом, взяв их на буксир, уводили к ближайшему берегу» (Римский-Корсаков. С. 235).
С. 386. Немудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов... — См. выше, с. 619, примеч. к с. 320.
С. 386. ...отчего у них такие лодки, с этим разрезом на корме ~ Он сослался на закон... — См. выше, с. 638, примеч. к с. 341.
С. 386. ...я вспомнил Гонконг и особенно торговое заведение Джердина и Матисона ~ как бы жил в Англии, где-нибудь на острове Байте. — См. выше, с. 601, примеч. к с. 292, а также с. 547, примеч. к с. 34.
С. 387. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К. И. Лосев! ~ мешает углу обстрела и т. п. — К. И. Лосев в уже упоминавшейся статье (см. выше, с. 618, примеч. к с. 319) писал по поводу «домиков»: «Испытывая, конечно, довольно часто, что орудия, из которых палят фитилем, во время сырой или дождливой погоды не стреляют, японцы затруднялись, как поступать в таком случае; они расспрашивали об этом и у нас. Но видя наши ударные трубки и не зная, как они делаются, они прибегли к более простому средству: над каждым орудием выстроили по небольшому домику, закрытому с трех сторон и сверху. Это поистине доставило им возможность стрелять и в дождь; но они не подозревают, в какое они поставили себя затруднение, которое обнаруживается с первого взгляда всякому, кто имеет хоть малейшее понятие о военном искусстве. Эти домики, представляя огромную цель, делают огонь противника более метким, осколки от дерева бьют прислугу; сверх того, домики занимают много места и, что всего важнее, лишают орудия больших горизонтальных углов обстрела» (<Лосев К.> О нагасакских укреплениях. С. 305). См. также замечание о «жалком состоянии» японской артиллерии в «Рапорте» Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст. т., с. 110).
С. 387. Когда в Нагасаки будет издаваться «Иллюстрация», непременно нарисуют эти каменья. — «Иллюстрация» — петербургский иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в 1845—1849 гг. под редакцией Н. В. Кукольника; неоднократно публиковал описания различных достопримечательных мест с их изображениями.
- 655 -
С. 387. ...с Паппенберга некогда бросали католических, папских монахов, отчего и назван так остров. — См. выше, с. 619—620, примеч. к с. 320.
С. 387. На Крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. — Крысий остров (Нэдзумисима), по описанию А. Пещурова, — «небольшой плоский островок, покрытый густым лесом», расположенный в бухте Кибати, в северной части среднего рейда (см.: <Пещуров А.> Описание Нагасакского порта. С. 206); в настоящее время соединен с островом Кюсю. Повествуя о гонениях на португальцев, развернувшихся в Японии в связи с запретом христианства, Кемпфер рассказывал и о взорванном (по приказу капитана) близ острова Нэдзумисима испанском корабле, пришедшем с Филиппин. На нем жившие в Нагасаки португальцы пытались покинуть страну и вывезти накопленные богатства (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 320—322). По другим сведениям, взорванный в Нагасаки в январе 1610 г. корабль «Madre de Deus» принадлежал не испанцам, а португальцам (подробнее см.: Файнберг 1959. С. 47).
С. 388. ...голландское купеческое судно ~ в Батавию ~ чтоб мы не ездили на судно! — Ср. записи в дневнике о. Аввакума 1 и 3 ноября: «Японцы известили, что голландское судно выйдет в среду и салютовать нам не будет, в чем и просили извинить оное. Забавно!»; «Вечером переводчики от имени губернатора просили не ездить на голландское судно при выходе его из гавани и не передавать ему писем в Россию. Отвечено, что не послушаем их, и посмотрим, что японцы с нами сделают» (Аввакум. С. 65—66). В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 4 ноября: «Рано утром, при ясной погоде, ушло отсюда голландское судно. Накануне было много переговоров, клонившихся к тому, чтобы не допустить нас передать на это судно наши письма. На это мы согласились только вследствие просьбы голландского оппер-гофта (т. е. начальника фактории в Десиме). Шлюпки наши, впрочем, провожали до выхода. Проходя мимо эскадры, оно перед каждым судном трижды спускало флаг вместо салюта, причем команда махала шляпами. Это было единственное дозволенное ему приветствие» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 169).
С. 388. ...шкуна пришла! Сегодня, 3-го числа, палят японские пушки. ~ Сколько новостей! — Ср. запись в дневнике о. Аввакума от 3 ноября: «Утром тихо и пасмурно. В 8 часу начали палить с крепостей из пушек: вероятно, показалось иностранное судно. После чего приехали просить, чтобы наши не ездили в море; сказано, что уже давно отправлена шлюпка. Потом сам адмирал с Посьетом отправился также в море. Дождик. В 12 часов наша шкуна „Восток” под парами прекрасно вошла на рейд и стала неподалеку от „Меншикова”. Лодки окружили ее с любопытством» (Аввакум. С. 65). Командир шхуны В. А. Римский-Корсаков писал в дневнике также 3 ноября: «У Ивосима встретил нас на гичке адмирал с Посьетом и тотчас же пристал к шкуне. Новости наши чрезвычайно его порадовали <...>. <...> Приход шкуны, кроме того, освободил его от тяжелого беспокойства, потому что он уже почти перестал надеяться на наше возвращение» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 167—168; ср.: Римский-Корсаков. С. 234—235).
С. 389. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги ~ воды и провизии. — 5 (17) ноября 1853 г. Гончаровым было написано
- 656 -
официальное письмо следующего содержания: «Так как русская эскадра оставляет на днях Нагасаки, то адмирал желает видеть г-д гокейнсов завтра в 12 ч<асов> утра, дабы передать им некоторые объяснительные бумаги для отсылки в Верховный совет. Адмирал просит также г-д губернаторов прислать завтра за подарками, которые он желает оставить им и некоторым из г-д гокейнсов и переводчиков, нас посещавших. Адмирал надеется тоже, что г-да губернаторы употребят зависящие от них средства для доставления к четвергу на суда означенной в заказе провизии, воды, дров и проч.» (АВПР, л. 60 об.). Ср. запись в дневнике о. Аввакума 5 ноября: «Потребованы переводчики; объявлено намерение отправиться из Нагасаки, но куда, неизвестно. Написан реестр всякой провизии, необходимой в дорогу, и дан переводчикам, чтобы к субботе все было приготовлено» (Аввакум. С. 66).
С. 389. Губернаторы оба в тревоге. — В. А. Римский-Корсаков писал: «...когда адмирал объявил, что он не может дожидаться полномочных, обещанных из Иеддо, [и] уходит в Шанхай, то японское начальство сильно засуетилось и начало упрашивать адмирала, чтобы он остался. Причиной суеты было то, что вместе с объяснением об уходе адмирал передал письмо для пересылки в Иеддо и губернатор очень боялся, что в письме этом не заключалось бы жалобы на него, потому что действительно за все пребывание фрегата в Нагасаки он очень стеснял доставку свежей провизии и тому подобных припасов и с умыслом затягивал в церемонных переговорах самые пустячные дела» (Римский-Корсаков. С. 235).
С. 389. ...зер спудиг»... — Т. е. очень скоро (гол. zeer spōedig).
С. 390—391. 7-го. Комедия с этими японцами ~ «Четверо полномочных ~ едут из Едо для свидания и переговоров с адмиралом». — Ср. запись от 7 ноября в дневнике о. Аввакума: «Комедия сыграна была японцами, чтобы не заставить нас идти в Иедо. Принесли бумагу, в которой председатель совета извещал губернатора о назначении 4-х вельмож для переговоров с адмиралом. Обещали отвести и место на берегу для устройства бани и для поверки хронометра» (Аввакум. С. 67). О «комедии» подробно рассказывает и В. А. Римский-Корсаков в дневниковой записи под тем же числом: «Сегодня хотел адмирал сняться с якоря, как вдруг явившиеся баниосы объявили, что едут полномочные из Иеддо, и сообщили список имен четырех особ, назначенных для переговоров с нами от Городжу, или Верховного совета. Это была комедия, давно подготовленная для удержания нас, но только ее берегли, чтобы выиграть время, а главное — чтобы выведать наши намерения. Дело в том, что адмирал перед отправлением вручил баниосам конверт, адресованный в Иеддо, и губернатор, опасаясь, чтобы в этом пакете не заключалось какой-либо на него жалобы, желал нас удержать и выведать, что в пакете заключается. Адмирал объявил им об этом, и они так заметно обрадовались, что мы ясно это видели. От этого, однако, мы потеряли. Адмирал соглашался остаться и ждать полномочных, если они прибудут не позже как через 7 дней и с условием, чтобы было отведено на берегу место для мастерских, для обсерваций, для бани и тому подобных надобностей. <...> Также не хотят назначить даже и приближенно срок, через который можно ожидать полномочных. Нет ничего мудреного, что эти полномочные — их собственное изобретение,
- 657 -
или по крайней мере близкий срок их прибытия есть губернаторская уловка для того, чтобы удержать нас» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 169—170). Ср. также в письмах Римского-Корсакова: «...в восьмом часу, когда мы уже были совсем готовы тронуться, как лодка с чиновниками пристала к фрегату. Началось с того, что они опять стали упрашивать адмирала подождать хотя [бы] один день. Пока их угощали чаем и пока адмирал придумывал средства, как бы поскорее от них избавиться, потому что они теперь [нас] решительно задерживали, пристала к фрегату еще лодка. С нею вынесли старшему из баниосов письмо. Баниос прочел его всем остальным своим собратьям, и у всех вдруг лица просияли. „Едут, едут!” — повторили они в голос, как бы вне себя от радости. Невзирая, однако, на все искусство японцев притворяться, в этот раз нельзя было не заметить, что вся эта кампания подготовлена заранее и что им давно уже известно о выезде полномочных. „Скоро ли они будут сюда?” — спросили их. „Дня через три”. — „Наверное?” — „Нет, как можно наверное? Такие почтенные вельможи... так они скоро не ездят. У них и свита огромная, и отдыхать им часто нужно. Впрочем, в письме об этом ничего не сказано. Если бы адмирал подождал еще часов пять или шесть, то мы узнали бы об этом наверное, тем более ветр сейчас тихий и вам трудно будет выходить”.
Действительно, ветр стих. Уходить было неудобно, и адмирал велел сказать им, что может подождать до трех часов пополудни.
„Адмиралу, может быть, не угодно ли будет, вследствие этой новости, переменить что-нибудь в своем письме в Иеддо?” — „Нет, я не нахожу никакой нужды там что-нибудь менять”.
Я был тогда в адмиральской каюте вместе с Гончаровым и с Унковским. Мы тотчас же поняли, что японцы боятся, нет ли в письме какой-нибудь жалобы. Хорошо было бы этим воспользоваться, чтобы выжать из них положительное известие о том, где именно находятся полномочные. Баниосы отправили тотчас же одну лодку якобы к губернатору узнать о полномочных, но, вернее, затем только, чтобы она подождала за каким-нибудь мысом и воротилась немного погодя, как будто привезя известие от губернатора, а сами принялись выпытывать у адмирала содержание письма. Я не упомню хорошенько всего разговора в подробностях, да и долог он слишком для передачи в письме, но могу сказать, что я дивился при этом такту, терпению и тонкости, с какими эти японские дипломаты низшего разряда принялись за такое трудное дело, как выведать то, чего нет нужды и охоты им сказать. Видно было, что в течение трех месяцев они и характер адмирала хорошо узнали. Вопросами и предложениями разного рода, чрезвычайно ловко сделанными, они добились-таки своего, и адмирал объявил им, что его письмо в Иеддо заключает в себе простое уведомление о том, что он идет в Шанхай и что, придя через полтора месяца, надеется полномочных застать в Нагасаки, а что в противном случае он прямо пойдет в Иеддо. Как только нетерпеливый адмирал наш проговорился, у баниосов физиономии просияли, лодка, посланная к губернатору, вероятно, по какому-то масонскому сигналу, воротилась с известием, что ничего о полномочных неизвестно. С тем мы и ушли из Нагасаки.
Впрочем, едва ли удалось бы нам что-нибудь выпытать от японцев» (Римский-Корсаков. С. 236—237). О полномочных см. ниже,
- 658 -
с. 683—685, примеч. к с. 455, 456. Нагасакский губернатор получил известие о командировке полномочных 4 (16) ноября, за три дня до посещения баниосами «Паллады».
С. 391. Абе-Исен-о-ками-сама. — Имеется в виду Абэ Исэ-но-ками Масахиро (1819—1857; Исэ — старое название большей части префектуры Миэ), занимавший должность «родзю» (см. выше, с. 639, примеч. к с. 344) в 1843—1857 гг. Когда коммодор Перри прибыл в Японию, Абэ, пропагандировавший западное военное искусство и культуру, выступил сторонником политики «открытия» страны; в 1854 г. участвовал в заключении американо-японского договора (см. об этом выше, с. 647—648, примеч. к с. 367; также: Lensen 1953. P. 45; Lensen 1959. P. 317—319; Biographical Dictionary of Japan History. New York; Tokyo, 1978. P. 161—162).
С. 392. ...не хотим ли мы взять бухту Кибач, которую занимал прежде посланник наш, Резанов. ~ что указанное нами принадлежит князю Омуре... — О Н. П. Резанове см. выше, с. 637, примеч. к с. 340. Об отведенном для его «резиденции» месте И. Ф. Крузенштерн писал: «Место сие находилось на самом краю берега. Оное огородили они с береговой стороны высоким забором из морского тростника. Вся длина его превосходила немногим сто шагов, ширина же не более сорока шагов составляла. С двух сторон стража наблюдала строгое хранение пределов. Все украшение сего места состояло в одном дереве. Никакая травка не зеленела на голых камнях целого пространства» (Крузенштерн. С. 153; об унизительных условиях пребывания посланника в отведенном ему «жилище» см.: Там же. С. 154—156; также: Военский. № 10. С. 227—228). Е. В. Путятин отказался от предложенного ему места в бухте Кибати; выбранный же им участок принадлежал князю земли Омура (старое название части префектуры Нагасаки), а не нагасакскому губернатору, вследствие чего этот вопрос не мог быть решен без участия Верховного совета. В. А. Римский-Корсаков писал: «Место обещали и действительно отвели два, но такие, на которые нельзя было согласиться: одно в Кибаче — то же самое, что отведено было и для Крузенштерна, а другое почти рядом и почти такое же скверное...» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 170). Ср. запись в дневнике о. Аввакума от 10 ноября: «С утра японцы на одном берегу измеряли веревкою место для отвода нам, почему несколько лодок стояло у берега. Никакой провизии не было заказано, а потому ничего не привозили. В 2 часа пополудни приехали баниосы с переводчиками толковать снова о месте. О времени прибытия чиновников из Иедо ничего определенного сказать не могли. Между прочим, спрашивали: водится ли у нас, чтобы послы уходили из государства, когда уже назначены чиновники для переговоров?» (Аввакум. С. 68).
С. 393. Адмирал просил их передать бумаги полномочным ~ При этом приложена записочка к губернатору ~ он немедленно пойдет в Едо». — В одном из документов с датой «11/23 ноября, 1853» говорится: «Оставляя Японию по объявленным их превосходительствам г-дам нагасакским губернаторам причинам, российский уполномоченный препровождает пакет с покорнейшею просьбою передать оный посланным из Иеддо для переговоров <...>. Уполномоченный присовокупляет, что на обратном пути, при следовании в Иеддо, он зайдет в Нагасаки и, если к тому времени не найдет здесь отправленные
- 659 -
из Иеддо лица и готовые ответы на предложения российского правительства, то немедленно будет продолжать путь в Иеддо» (АВПР, л. 62; см. также: Всеподданнейший отчет. С. 184). В. А. Римский-Корсаков в письмах и дневнике по-иному описывает эту ситуацию: «Накануне нашего ухода поутру адмирал отослал письмо свое губернатору и другое для отсылки в Иеддо. Письмо губернатору было довольно жесткое: адмирал писал в том духе, что он идет в Шанхай, потому что ему надоели все губернаторские прижимки и недоброжелательства и что месяца через полтора по возвращении из Шанхая он надеется встретить в Нагасаки полномочных и через то быть избавленным от неприятной обязанности иметь дело с губернатором! Жесткость выражений японцу нипочем. По-видимому, у них больше, чем у какого-либо народа, верят в пословицу, что „брань на вороту не виснет”. Губернатор Нагасаки нисколько не сердился за письмо к нему...» (Римский-Корсаков. С. 235—236); ср. также запись в его дневнике от 11 ноября: «Адмирал сегодня решительно объявил, что уходит. Приехали баниосы и, приняв от адмирала пакеты на имя губернатора и полномочных, старались выведать — что в них заключается. Ясно было, что они боятся все более, чтобы мы не пошли в Иеддо и что готовы удержать нас от этого какою бы то ни было ценою. Адмирал никак не хотел этого понять и пренаивно объявил в письме губернатору, что он через полтора месяца возвратится в Нагасаки за ответом от полномочных и потом уже пойдет в Иеддо. Им, вероятно, того и нужно было, чтобы выиграть время, что составляет, как кажется, одну из главных хитростей японской политики. Даже если бы адмирал, написав такое письмо губернатору, не стал ждать, пока баниосы его передадут, и немедленно снялся бы с якоря, то, я уверен, они немедленно уступили бы какое угодно место, но адмирал снялся через четыре часа после отъезда баниосов с фрегата, и никто не думал его удерживать» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 2. С. 170).
С. 393. ...11 ноября ушли. — Эскадра покинула Нагасаки 11 (23) ноября 1853 г., направляясь к Шанхаю для пополнения запасов провизии; 14 (26) ноября она встала на рейде у Седельных островов (см.: Отчет. С. 156; Всеподданнейший отчет. С. 184; Обзор. Т. 1. С. 39, 54).
II
ШАНХАЙ
С. 395. ...«Ослиные уши». — Название двум островкам у мыса Гото дано И. Ф. Крузенштерном. В. А. Римский-Корсаков писал о них: «Нельзя себе представить ничего пустыннее, печальнее и угрюмее этой кучки скалистых островков, которые страшилищем стоят в уединении среди моря. Глядя на них и подумаешь, что в темную ненастную ночь можно на них налететь, так мороз по коже подирает от одного помышления о том, как судно должно истерзаться и исковеркаться на их острых зубьях. Ни кусточка, ни травки не видно на этих каменных торчках, которые беспрестанно омываются морем» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 185). В дневнике о. Аввакума от 12 ноября сообщается: «Утро пасмурное. В 8 часов были против острова Ослиных ушей» (Аввакум. С. 68).
- 660 -
С. 395. ...Столовая гора похожа на стол, а Львиная — на льва... — См. выше, с. 570, примеч. к с. 127.
С. 395. А вон, правее, еще три камня ~ Они не показаны на карте, и вот у нас отмечают их положение. — Об открытии отрядом генерал-адъютанта Е. В. Путятина трех отдельных камней, «не назначенных ни на каких картах», сообщалось в «Морском сборнике»: «Для безопасности плавающих в этих морях известие об этом открытии <...> сообщено в издаваемую в Шангае газету „North China Herald”, откуда перешло уже в европейские газеты» (Отряд генерал-адъютанта Путятина // МСб. 1854. № 3. Ч. I. С. 151); о. Аввакум 12 ноября записал в дневнике: «В 11 часов были против группы пустых каменных островов, на карте не показанных. По фигуре своей она походит на группу остр<овов> Ослиных ушей <...> мы прошли от Нагасаки 80 миль, т. е. 140 верст, затем до островков Sadie осталось 290 миль» (Аввакум. С. 68—69; см. также: Отчет. С. 156).
С. 395. ...командир нашего транспорта, капитан Фуругельм... — Юган Халтусович (Иван Васильевич) Фуругельм (1821—1909) — капитан-лейтенант, командир транспорта «Князь Меншиков». В 1859—1863 гг. — губернатор Аляски. См. его биографию: Pierse R. A. Iohan Hampus Furuhjelm: Alaska’s Russian Governors // Alaska Journal. 1972. Vol. 2. № 4. P. 21—24.
С. 396. ...теньеровские картины... — Т. е. бытовые сцены. Подробнее см. выше, с. 584, примеч. к с. 189, а также: наст. изд., т. 1, с. 761, примеч. к с. 218.
С. 396. Saddle-Islands — английское название островов Маанледао в Восточно-Китайском море.
С. 396. ...не наткнуться ~ на англичан, если у нас с ними война. — Сведения о начале Крымской войны доходили до экспедиции с большим опозданием. «Первые известия об ожидаемом разрыве с Турцией, Францией и Англией» были получены 14 (26) сентября 1853 г. в Нагасаки (см.: Всеподданнейший отчет. С. 183). Разрыв дипломатических отношений между Россией и Турцией последовал в мае 1853 г.; война была официально объявлена 4 (16) октября. Путятин узнал об этом из гонконгских газет 7 (19) или 8 (20) декабря, находясь в Шанхае (см.: Извлечение. С. 323; Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 182—183; Аввакум. С. 75; ср. также ниже, с. 675, примеч. к с. 441). Известие о Синопской битве 18 (30) ноября 1853 г. было получено в Маниле в конце февраля 1854 г. (см.: Всеподданнейший отчет. С. 192). О том, что англо-французский флот вошел в Черное море 23 декабря 1853 г. (4 января 1854 г.) и что Россия 9 (21) февраля 1854 г. объявила войну Англии и Франции, на «Палладе» узнали только в Татарском проливе 17 (29) мая 1855 г. (см.: Всеподданнейший отчет. С. 196; Обзор. Т. 1. С. 45, 58).
С. 396. ...река Янсекиян... — Т. е. Янцзы (Янцзыцзян). В Китае это название принято для нижнего течения реки.
С. 396. ...от бара, или устья, Янсекияна... — Бар — мель у входа в устье реки или в бухту. Ср. очерк «Два случая из морской жизни»: «...она <река Амур> образует при устье так называемый бар (barre), или порог, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны» (наст. т., с. 22).
С. 396. ... потом речкой Восунг... — Здесь и далее Гончаров, как и другие участники экспедиции (см.: Римский-Корсаков. С. 127, 156; Извлечение. С. 320; Всеподданнейший отчет. С. 185), называет Восунгом,
- 661 -
Вусуном или Усуном реку Хуанпу (Вангпу). Усун — приток, который впадает в Хуанпу в районе селения Усун, а также одно из названий речки Сычоу, впадающей в Хуанпу в районе Шанхая. На некоторых европейских картах XIX в. Восунгом назывался участок Хуанпу от впадения в нее Сычоу до Янцзы. Путаница также могла произойти из-за испорченной карты: «Пробовал я рассмотреть на карте, но там кроме чертежа островов были какие-то посторонние пятна, покрывающие оба берега» (наст. изд., т. 2, с. 404).
С. 396. Во время китайской войны... — Т. е. первой «опиумной» (1839—1842). См. также ниже, с. 669, 690—691, примеч. к с. 431, 472.
С. 398. Говорят, есть деревня тут: да где же?..; см. также ниже: Наши съезжали сегодня на здешний берег, были в деревне у китайцев ~ Наши ~ ездят на скалы гулять. — О. Аввакум записал 16 ноября: «После обеда ездили с капитаном и Лосевым на восточный остров в большое селение; начиная с кумирни, обошли кругом селение, осмотрели ручей, удобен ли он для мытья белья и можно ли в нем наливаться водою. Потом переехали на западный остров, там в северной бухте жителей немного и воды мало. Затем переехали в южную бухту того же острова» (Аввакум. С. 70).
С. 398. 16-го. Вчера наши уехали на шкуне в Шанхай. — Ср. запись в дневнике о. Аввакума от 15 ноября: «В 8 ½ ч<асов> адмирал отправился на шкуне в Шанхай» (Аввакум. С. 69). См. также: Отчет. С. 156.
С. 398. ...в европейской фактории... — Иностранное поселение в Шанхае в это время состояло из английского и американского сеттльментов и французской концессии.
С. 398. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг... — Инсургент — участник восстания (лат. insurgent). Речь идет о Шанхайском восстании «Общества малых мечей» («Сяо дао хуэй»), которое началось в сентябре 1853 г. Мятежники выступили с традиционными для китайских тайных обществ (о них см. подробнее: Тайные общества в старом Китае. М., 1970. С. 4) лозунгами, требовали восстановления китайской династии Мин и устранения правящей маньчжурской династии Цин. Предводитель мятежников Лю Лючуань заявил о солидарности с тайпинами (о них см. ниже, с. 662, 670, 671—672, примеч. к с. 400, 434, 435). Общество «Сяо дао хуэй», известное также под названиями «Сань хэ» («Триада»), «Тянь ди хуэй» («Общество неба и земли») и «Хун мынь» («Братство последователей великого учения») (см.: Хуа Гаи. История революционной войны Тайпинского государства. М., 1952. С. 239), объединяло несколько тысяч ремесленников, матросов, торговцев и чернорабочих. Повстанцы без потерь овладели Шанхаем и арестовали таотая У Цзянчжана (о нем см. ниже, с. 663, примеч. к с. 410), освобожденного через несколько дней благодаря вмешательству американцев. Но уже в сентябре цинская (правительственная) армия (у Гончарова: «империалисты») выбила мятежников из окрестностей Шанхая и осадила город. Осада Шанхая длилась более 17 месяцев. Восстание было подавлено в феврале 1855 г. (подробнее см: Кузес. С. 3—155; Илюшечкин. С. 183—186). О событиях в Шанхае в начале 1854 г. Гончаров пишет в главе «От Манилы до берегов Сибири» (см.: наст. изд., т. 2, с. 605; наст. т., с. 740, примеч. к с. 605).
С. 398. ...попробовать птичьих гнезд. — Ласточкины гнезда — атрибут китайской кулинарной экзотики, упоминаемый многими
- 662 -
путешественниками. «Первое место среди лакомых блюд китайцев занимают <...> ласточкины гнезда», они «настолько дороги, что ими лакомятся только очень богатые люди. <...> Гнезда эти добываются на Зондских островах, особенно на Яве <...> в один Кантон их ежегодно ввозится свыше восьми миллионов штук <...>. Ценятся эти гнезда так высоко <...> потому, что блюду этому приписываются особые возбудительные свойства <...>. Ласточкины гнезда бывают величиною с дамскую руку и состоят главным образом из слюны ласточек, волокон морской травы и перышек, которые надо тщательно удалять» (Гессе-Вартег Э. Китай и китайцы: Жизнь, нравы и обычаи современного Китая. СПб., 1900. С. 89—90). Этот же автор сообщает и рецепт приготовления гнезд, извлеченный из китайской поваренной книги: «Тщательно удалите все перышки. Варите гнезда в супе или в воде до тех пор, пока они не размягчатся и приобретут цвет нефрита (беловато-прозрачный). Положите их на подстилку из голубиных яиц, покройте ломтиками ветчины и сварите еще раз. Кто любит их сладкими, пусть прибавит толченого леденцового сахару. Готовьте их тщательно и без масла. Проваривайте хорошенько» (Там же. С. 90). См. также: Бурбулон. С. 258.
С. 399. ...с 5-го августа, то есть со дня прихода в Японию, мы не были на берегу... — 4 (16) августа 1853 г. фрегат ушел из порта Ллойд, в Японию прибыл 9 (21) августа. См. выше, с. 607, 608, примеч. к с. 309, 313.
С. 400. В Китае мятеж... — Имеется в виду Тайпинское восстание 1850—1864 гг., которое началось на юге Китая под предводительством Хун Сюцюана (о нем см. ниже, с. 670, 671, примеч. к с. 434, 435), создателя легального религиозного общества «Бай шанди хуэй» («Общества поклонения Богу»). Целью восставших было свержение маньчжуров и создание Тайпин тяньго (Небесного государства великого благоденствия). В 1852—1853 гг. тайпины совершили поход в северные районы Китая. В это же время в Китае происходило несколько восстаний тайных обществ, в том числе в Шанхае (см. выше, с. 661, примеч. к с. 398).
С. 400. ...в России готовятся к войне с Турцией. — См. выше, с. 660, примеч. к с. 396.
С. 400. ...если точка, то математическая. — Точка — одно из основных понятий математики, физики — место, не имеющее измерения.
С. 402. ...островок Гуцлав, названный так в честь знаменитого миссионера Гуилава. — Карл Фридрих Август Гуцлав (Gützlaff; 1803—1851) — немецкий протестантский миссионер. С 1826 г. изучал китайский язык на Яве, в 1828 г. переехал в Сингапур, а затем в Бангкок, где переводил Библию на сиамский. С 1831 г. жил в Макао и Гонконге, перевел Библию на китайский, выпускал ежемесячный журнал, написал по-китайски несколько книг. В 1834 г. опубликовал в Лондоне «Journal of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832 and 1833». А в 1835 г. Гуцлав, прекрасно знавший китайский язык, культуру и обычаи, был приглашен на должность секретаря при Английской комиссии и оказал неоценимые услуги англичанам во время первой «опиумной» войны и в ходе последующих мирных переговоров. В 1844 г. основал институт, готовивший миссионеров-китайцев; его именем
- 663 -
был назван остров в Восточно-Китайском море (ныне остров Дацзиньшань). См. также: Bille. S. 99—100.
С. 402. Поставец — посудный шкафчик.
С. 404. «Янсекиян?» — «Да, „Сын океана” по-китайски». — Янцзыкиян (Янцзыцзян) по-китайски — Голубая река.
С. 405. ...как при огненном столпе израильтян... — Библейский образ (см.: Исход. 13: 20, 21; ср. также: Числа. 14: 14; Неемия. 9: 12, 19; 2 Ездра. 1: 4).
С. 406. Это А. Е. Кроун... — О нем см.: наст. т., с. 407, и выше, с. 603—604, примеч. к с. 302.
С. 408. Выручил В. А. Корсаков: он из дока заметил нас и тотчас же приехал. — Шхуна «Восток», которой командовал В. А. Римский-Корсаков, была отправлена в Шанхай раньше и находилась на ремонте. О прибытии в Шанхай шхуны «Spec», на которой находился Гончаров, Римский-Корсаков сообщает в дневнике 26 ноября (см.: Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 179).
С. 408—409. ...во вчерашнем сражении две джонки взорваны на воздух. — Более подробно об этом сражении см.: Римский-Корсаков. С. 164—165; Извлечение. С. 321—322.
С. 409. Китайцы действуют ~ так называемыми вонючими горшками (stinkpots). ~ Вырывающиеся из горшков газы так удушливы, что люди ни минуты не могут выдержать и бросаются за борт. — Горшки с «чрезвычайно горючим и невыносимо вонючим составом, приготовление которого — <...> секрет», упоминает и спутник Гончарова (см: Римский-Корсаков. С. 164; ср. также: Извлечение. С. 321). Судя по сообщению другого очевидца событий, никакого секрета не было, а чрезвычайно едкий дым получался оттого, что китайцы начиняли самодельные зажигательные бомбы слишком плохим порохом, который сгорал лишь частично (см.: Lochart W. The Medical Missionary in China. London, 1861. P. 360).
С. 410. ...о правителе шанхайского округа, таутае Самква... — Таотай или даотай — высший цинский чиновник в Шанхае и ряде других городов, ведавший гражданскими, административными, военными и таможенными делами. После открытия портов (см. об этом ниже, с. 669, примеч. к с. 431) шанхайский таотай также вел дела с иностранными консулами. Самква — прозвище шанхайского таотая У Цзянчжана, уроженца Кантона, принадлежавшего к могущественному хонгу (купеческое сообщество) Самква; стал таотаем в 1851 г. Марксистская китайская историография характеризует его не иначе как «злобную собаку» (цит. по: Asian Studies. P. 54); английский историк Д. Фэрбэнк считает, что это был «проницательный и практичный человек, разнообразно одаренный и по-своему весьма искушенный в житейских делах» (Fairbank. P. 397). У Цзянчжан стоял во главе правительственных войск, но продавал оружие обеим воюющим сторонам, пользуясь связями с американской компанией «Russel & С°». Был смещен в 1854 г. по обвинению «в попустительстве восставшим и предательстве интересов Китая» (Asian Studies. P. 56). См. также: Eminent Chinese of the Ch’ing Period (1644—1912). Washington, 1944. Vol. 2. P. 867; Кузес. С. 29—34; Римский-Корсаков. С. 163—166; Asian Studies. P. 53—56.
С. 410. На другой день, 28 ноября (10 декабря)... — 27 декабря, согласно дневнику В. А. Римского-Корсакова.
- 664 -
С. 410. Мы называем «хорошим» нежные, душистые цветочные чаи; см. также с. 411: Англичане пьют свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы. — Цветы для приготовления чая не используются. Цветочными в России называли высшие сорта черного чая: «В сортах чаю название цветочный принято у нас совершенно неправильно, потому что при сборе ни одного цветочка не срывается; но, вероятно, белый пушок высушенных листочков высших сортов чаю присвоил ему название цветочного» (Ржанов И. Китайский чай. М., 1856 С. 23).
С. 411. Кажется, отец Иоакинф тоже говорит о подобной противозаконной подмеси... — О. Иакинф (в миру — Никита Яковлевич Бичурин; 1777—1853) — архимандрит, известный исследователь Китая. В 1807—1822 гг. возглавлял девятую российскую духовную миссию в Пекине. По возвращении из Китая был предан духовному суду за «расстройство миссии», лишен сана архимандрита и сослан в Валаамский монастырь. В 1826 г. возвратился в Петербург, был определен на службу в Министерство иностранных дел переводчиком китайского языка; в этом же году началась его активная литературная деятельность; с 1828 г. — член-корреспондент Академии наук. Автор книг и статей о Средней Азии и Китае (см. также ниже, с. 740, примеч. к с. 605). Гончаров заимствовал у о. Иакинфа ряд исторических и этнографических сведений (см. ниже, с. 666, 672—674, 744—747, примеч. к с. 422, 435, 440, 620—621, 621, 622), высоко оценив характерную для его сочинений занимательность изложения «...уж он ли не весело пишет?» (письмо к А. А. Краевскому от сентября 1854 г.). Об ароматизации чая см.: Иакинф 1842. Т. 2. С. 179—180; Ковалевский. № 4. С. 101.
С. 411. Кяхта — город в Бурятии, на границе с Китаем. С 1727 г., когда были заключены договоры о русско-китайской границе и о порядке русско-китайской торговли (Буринский и Кяхтин-ский), по 1903 г. (открытие КВЖД) был центром русской торговли с Китаем.
С. 412. Редко встретишь европейца; они все наперечет здесь. — По данным «Shanghai Almanac» за 1854 г., в Шанхае числилось 270 иностранцев-мужчин, из которых около 40 имели семьи (см.: Fairbank. P. 422).
С. 412. ...кучками ходят парси, или фарси, с Индийского полуострова или из Тибета. ~ Они сильно напоминают армян. — См. выше, с. 593, примеч. к с. 263—264.
С. 413. ...купец, обритый донельзя, с тщательно заплетенной косой... — Обычай брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать в косу существовал во время правления династии Цин (1644—1911) и символизировал маньчжурское владычество в Китае. В связи с этим восстания тайных обществ против цинского правления сопровождались изменением прически. О. Иакинф сообщал, что китайцы «голову бреют, оставляя волосы только на теме, а заплетают их с подкоском, дабы коса, заплетенная, простиралась ниже крестца. Длина эта придает косе большую красу» (Иакинф 1848. Ч. 4. С. 156). См. также ниже, с. 668, примеч. к с. 429.
С. 413. ...чернорабочий ~ обвивший, за недосугом чесаться, косу дважды около вовсе «нелилейного чела». — Характерное для Гончарова «снижение» цитаты. У Пушкина: «Вокруг лилейного чела / Ты косу дважды обвила» («Бахчисарайский фонтан», 1821—1823).
- 665 -
С. 414. ...американского консула Каннингама, который в то же время и представитель здесь знаменитого американского торгового дома Россель и Кº...; см. также с. 470: ...американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах, миль за восемьдесят от моря; с. 471: В другой раз к этому же консулу пристал губернатор... — Эдвард Каннингем (Cunningham) — американский вице-консул (см.: Smith W. B. America’s diplomats and consuls of 1776—1865. Washington, 1985); исполнял обязанности консула Д. Гризуодда (Griswold) (см: Asian Studies. P. 54), который, вероятно, в это время отсутствовал. Новый американский консул Р. Мерфи (Murphy) прибыл в Шанхай в апреле 1854 г. (см.: Diplomacy. P. 157). Каннингем действительно был представителем американской фирмы «Russel & С°» и осенью 1853 г. продал повстанцам крупную партию оружия и пороха (см.: Maybon. P. 81), что стало причиной обращения цинских властей к иностранным консулам с требованием запретить их согражданам торговые операции с мятежниками (см.: North China Herald. 1853. 22 oct.). Об этой компании упоминает и В. А. Римский-Корсаков: «...американский дом „Россель и комп.”, имеющий конторы и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Калькутте, и в Маниле, и в Капштате, — дом, конечно, известный всему торговому миру, — имеет целых два опиумных судна <...> и ввозит ежегодно не менее 800 тонн зелья, и представители его там нисколько не менее пользуются тем же самым уважением и доверием, как если бы они наживались самыми честными средствами. Во всякой другой стране, например любой европейской, где есть и таможни, и правильные сборы пошлин, эти господа были бы сочтены контрабандистами и сообразно тому их бы и трактовали и осуждали, а в Китае, где некому их пугнуть, они честные и достойные люди» (Римский-Корсаков. С. 157).
С. 416. Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке... — «Китайские дома, рынки, базары, лавки, говор, крик, харчевни — все это так напоминает мне — знаете что? — наш простонародный русский быт!» — признавался Гончаров Е. А. и М. А. Языковым в письме от 15 (27) декабря 1853 г.
С. 418. ...черная похлебка, едва ли лучше спартанской... — «Ежедневное блюдо <воинов-спартанцев> составлял известный черный кровяной суп из свиного мяса, варенного в крови, с уксусом и солью» (Штолль Г. В. Герои Греции в войне и мире: История Греции в биографиях. СПб., 1868. С. 15).
С. 418. Боже мой, чего не ест человек! Конечно, я не скажу вам, что, видел я, ел один китаец на рынке, всенародно... — По свидетельству о. Иакинфа, в Китае «беднейший класс, при полном недостатке всех средств к пропитанию, ест все без разбора, верблюжину, коневину, ослятину, собак, кошек, жесткокрылых насекомых, разных зверьков и птиц нечистых, даже самоиздохших» (Иакинф 1848. Ч. 4. С. 138).
С. 418. Пачули — духи с резким запахом.
С. 418. ...четыре разбойника... — Имеется в виду уксус четырех воров (фр. vinaigre de quatre voleurs) — средство с резким запахом, которое носили на себе для предохранения от заразы.
С. 418. ...исполинские лимоны-апельсины, которые англичане называют пампль-мусс. — Гончаров приводит французское наименование грейпфрута (pamplemousse).
- 666 -
С. 419. ...вышли ~ к магазину американца Фога. Там всё есть: готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. — В дневнике от 30 ноября о. Аввакум также сообщает о посещении магазина: «После чаю ходили к Фогу в магазин, заказывали и покупали некоторые вещи. Нашел у него карту Китая на китайском языке, изданную англичанами по образцу карт европейских, с отдельными планами 5-ти портов: Шанхая, Нинпо, Фучжоу, Амоя и Кантона» (Аввакум. С. 73).
С. 420. ...несколько кашей (мелких медных монет)..., см. также с. 518: Он вынул из-за пазухи каш (маленькую медную китайскую монету) ~ Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе тысяча четыреста. — Мелкая медная монета в Китае называлась вэнь (цянь, фэнь) или чох. Гончаров использует английское название «cash», употребительное в открытых портах (см.: Shanghai: A handbook for travellers and residents. Shanghai, 1920. P. V).
С. 422. ...английского консула... — В 1846—1855 гг. английским консулом в Шанхае был Р. Алкок (Alcock; 1809—1897).
С. 422. ...стояли кадки с навозом для удобрения полей. Некуда было деться от запаха; см. также: с. 519: Удобрение это состоит из всякого рода нечистот, которые сливаются в особые места ~ как я видел в Китае. — «Страсть у китайцев к удобрению, — сообщала французская путешественница, — проявляется в существовании на самых пустынных дорогах маленьких кабинетов из земли и соломы <...> в которые приглашают прохожих в самых трогательных и умоляющих выражениях. Нет ни одного земледельца, который не воздвигнул бы хотя одного такого полезного монумента для своей личной пользы. На больших дорогах конкуренции еще больше: одно из обычных занятий детей и бедного класса — розыски навоза: нет ничего интереснее усердия и жадности, с которыми дети бегут за путешественниками, едущими верхом, карауля со вниманием движения их лошадей. Китайцы приписывают так много цены человеческому удобрению, что в семействе землевладельца не считают бесполезными даже разбитых немощных стариков <...>. Эта благоразумная, но неопрятная страсть делает то, что, приближаясь к ферме, вместо того чтобы вдыхать в себя сильный и здоровый запах, свойственный коровникам, ваше обоняние поражено неопределенным, но удушающим испарением. Фермер усердно собирает гнилых животных и рыб, остатки разлагающихся растений, всевозможные отбросы, даже до обрезанных ногтей и волос, которые покупают от цирюльников». (Бурбулон. С. 297—298).
С. 422. ...рука богдыхана касается однажды в год плуга... — Богдыхан, или богдохан, — титул маньчжурского императора. Речь идет о древнейшем китайском ритуале, символизирующем начало сельскохозяйственного года (см.: Фицджералъд. С. 38). По-видимому, Гончаров почерпнул сведения о нем в книге: Иакинф 1848. В главе «Церемониал землепашества, совершаемый китайским государем» сообщается, что этот обряд посвящен изобретателю землепашества и, начиная с XVII столетия, ежегодно совершается императором, «в апрельской луне, в счастливый день под названием хай» (Иакинф 1848. Ч. 4. С. 34). См. также: Ковалевский. № 3. С. 16—17.
С. 423. ...лагерь империалистов... — Т. е. правительственных войск, присланных для подавления восстания.
- 667 -
С. 423. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед ~ Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание... — Наблюдавший английских амазонок в Гайд-парке Д. А. Милютин сообщал: «Дамы и девицы английские (особенно девицы) бойчее и развязнее мужчин; они ездят верхом, как гусары» (Милютин. С. 200).
С. 423. ...камзол и панталоны империалиста с вышитым кружком или буквой на спине. — В китайском официальном костюме знаки, обозначавшие ранг владельца, нашивались или вышивались на кофте (гуацза), которая надевалась поверх халата (паоцза). Титулованные лица носили на груди и на спине изображения драконов, вписанные в круг; гражданские и военные чиновники — квадратные нашивки или вышивки (буфаны) с изображениями птиц или зверей — знаки различия девяти рангов. Подробнее см.: Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм: Символика; История; Трактовка в литературе и искусстве. М., 1975. С. 64—65. Гончаров, вероятно, видел рядового воина: «Солдаты носят <...> короткую куртку <...> украшенную спереди и сзади двумя белыми полотняными кругами, указывающими нумера батальонов, на которых написано слово пинг, что значит солдат» (Бурбулон. С. 226).
С. 423. Мы ~ подошли к валу ~ и стали смотреть на лагерь. — Более подробно лагерь описывает В. А. Римский-Корсаков: «Императорские войска расположены в укрепленном лагере позади европейских факторий, в расстоянии сажен восьмисот, т. е. за пределами дальнего пушечного выстрела от городской стены. Палатки расположены правильными рядами посреди квадратного укрепления, устроенного из мешков с землею и песком, образующих стену сажени в полторы вышиною <...>. В лагерь меня не пустили, но позволили только заглянуть в ворота. Это немного прибавило к моим сведениям, потому что, кроме множества китайцев в синих балахонах, множества разноцветных палаток и множества развешанного для просушки платья, мне ничего не удалось увидеть. От табора несло вонью китайской кухни и тем особенным запахом неопрятного ношеного тряпья, о котором Гоголь так удачно выразился где-то, что „жилым крепко пахнет”. Толпа ратников высыпала из ворот поглазеть на иноземца, и моя особа была осмотрена и ощупана с головы до ног. Часы, пуговицы и эполеты занимали их, как детей или совершенно дикарей. Все это был народ ледащий, малорослый и тщедушный, так что, кажется, махнуть бы рукой — так тут и улица бы свалилася, как у Ильи Муромца. <...> В ясный солнечный день, когда ветерок раздувает разноцветные значки и флаги, выставленные над каждой палаткой, а солнце играет на вычищенных медных шишках и иглах древков, тогда этот китайский лагерь имеет очень праздничный, веселый вид, но вот, кажется, и все его достоинство, потому что можно поручиться, что человек двадцать европейских солдат в несколько минут взяли бы его приступом, разгромили до основания и разогнали бы весь этот семитысячный гарнизон» (Римский-Корсаков. С. 162).
С. 424. ...европейцы сохраняют строгий нейтралитет... — Другие очевидцы событий сообщали, что иностранные матросы с торговых и военных судов служили и у «империалистов», и у «инсургентов» (см.: Scarth J. Twelve Years in China. Edinburgh, 1860. P. 191—192, 206).
- 668 -
С. 424. ...империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову как признак возмущения. — Отличительным признаком «инсургентов» были красные тюрбаны или красные головные повязки. «Эти красные знаки подчеркивали принадлежность к „Триаде”, благодаря близости звучания китайских иероглифов „хун” — красный и „хун” — первый знак одного из названий „Триады” — „Хунмынь”» (Кузес. С. 67).
С. 424—425. ...инсургенты предали их тем ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны. — Широкое употребление изощренных пыток в Китае не только во время войн, но и в качестве наказания за грехи ужаснуло несколько позже г-жу де Бурбулон, супругу французского полномочного (о нем см. ниже, с. 670—671, примеч. к с. 434). Она описывает пагоду пыток в Тянцзине со скульптурными изображениями пыток за грехи: за отцеубийство перепиливали вдоль, за прелюбодеяние вырывали внутренности и заменяли их раскаленными углями, за ложь прокалывали язык, за измену сдирали кожу, отравителей погружали в кипящее масло, поджигателей давили каменным прессом и т. п. Подробнее см.: Бурбулон. С. 30—31.
С. 429. У этих и костюм другой: лба уже они не бреют, как унизительного, введенного маньчжурами обычая. — «В официальных бумагах Китая и вообще в китайских сочинениях инсургентов этих именуют презрительно Чан-мао-цзей, т. е. „длинноволосыми разбойниками”, ввиду того что они отвергли введенный маньчжурами обычай брить часть головы и носить косу и отпускали длинные волосы, как то было в моде при Минской династии (1368—1644)» (Позднеев Д. М. Тайпинское восстание в Китае. СПб., 1898. С. 3). «Главное отступление их от общенародного китайского наряда состоит в том, что они не бреют голов и не носят кос: волосы отпущены во всю длину, обвиты вокруг лба и маковки и поддерживаются повязкою вроде чалмы из куска красной или синей ткани. Широкие балахоны заменены коротенькими обтяжными камзолами, перевязанными широким красным кушаком. Словом, они настоящие bonnet rouge <красные колпаки — фр.>» (Римский-Корсаков. С. 161). См. также выше, с. 664, примеч. к с. 413.
С. 430. ...нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских... — Описывая Шанхай, С. Билль сообщал: «Нельзя было не заметить разницы между здешним населением и населением Кантона. Всякий, кого мы встречали, приветствовал нас с дружелюбным и в то же время хитрым выражением лица <...> и уже издали кричал нам свое „Чин-чин”; также не было здесь и речи о том, чтобы толпиться с навязчивым любопытством вокруг европейских дам: они так же мирно гуляли здесь по берегу, как наши копенгагенские дамы <...> летним вечером» (Bille. S. 124). О буйстве жителей Кантона сообщали русские исследователи: «По заявлению европейцев, кантонцы известны своим буйством и ненавистью в отношении к иностранцам, и европейские фактории не раз были атакуемы разъяренной чернью» (Георгиевский С. Принципы жизни Китая. СПб., 1888. С. 490). Стойкая неприязнь к европейцам у жителей Кантона, возможно, объясняется большим, чем в других портах, знанием европейских нравов — в Кантон иностранные суда стали заходить значительно раньше.
- 669 -
С. 431. ...одного из пяти открытых англичанам портов...; см. также с. 470: ...согласно Нанкинскому трактату ~ Всего десять лет прошло с открытия пяти портов в Китае... — По Нанкинскому мирному договору 1842 г., которым завершилась англо-китайская война 1839—1842 гг., предусматривалось открытие для английской торговли пяти китайских портов: Сямыня (Амой), Фучжоу, Нинбо, Шанхая и Гуанчжоу (Кантон), в которых англичане могли учреждать консульства, вести неограниченную торговлю, получили право на свободу поселений. Китай также уступил англичанам остров Сянган (Гонконг). Фактически условия договора соблюдались в четырех портах. Гуанчжоу из-за сопротивления местного населения не был открыт до второй «опиумной» войны 1856—1860 гг.
С. 431. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством... — Ввоз опиума в Китай был запрещен в 1796 г. Активную борьбу против опиумной торговли китайские власти вели с конца 1830-х гг. Весной 1839 г. в специальном послании английской королеве сообщалось о запрещении торговли опиумом в Китае. В июне 1836 г. было конфисковано и уничтожено более 1188 т опиума, что стало поводом для начала первой «опиумной» войны.
С. 432. ...правительство, которое участвует в святом союзе против торга неграми! — См. выше, с. 577, примеч. к с. 157.
С. 432. Не будь у кафров ружей... — См. выше, с. 573, примеч. к с. 137.
С. 432. Тридцать пять лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около пятнадцати миллионов серебром. ~ А теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. — Ср. статистические данные о ввозе опиума в Китай: Ковалевский. № 4. С. 83.
С. 432. ...Нингпо и Фу-Чу-Фу... — Т. е. Нинбо и Фучжоу.
С. 433. Один из новых путешественников, именно г-н Нопич ~ издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест; см. также с. 578: Зри «Kaufmännische Berichte, gessammelt auf einer Reise um die Welt von W. H. Nopitsch». — Вильгельм Герман Нопич (Nopitsch; род. 1818) — немецкий коммерсант, член экспедиции С. Билля (о нем см. выше, с. 595, примеч. к с. 271). Имеется в виду сочинение Нопича: Kaufmannische Berichte, gesammelt auf einer Reise um die Welt mil Kriegs-Corvette «Galathea», in den Jahren 1845, 46 und 47 von W.-H. Nopitsch... / Ein Handbuch fur Handels- und Geverds-Statistik, und für den praktischen deutschen Fabrikanten und Schiffsrheder. Hamburg, 1849. Этой книгой Гончаров пользовался во время плавания, сохранив ее в своей библиотеке (см.: Библиотека. С. 114—115).
С. 434. Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, кризис в полном разгаре. — Панику в торговых кругах Шанхая вызвало взятие в марте 1853 г. южной столицы империи — Нанкина. В течение нескольких последующих недель торговля практически прекратилась. Весной 1853 г. французский консул в Шанхае сообщал: «...английские и американские купцы жалуются, что уже несколько недель они не могут продать ни куска хлопчатобумажной ткани или шерсти, даже опиум не имеет больше сбыта и упал в цене с 560 до 400—390 долларов за ящик» (цит. по: Кузес. С. 88). К апрелю 1853 г. на складах Шанхая скопилось товара на 20 млн. фунтов стерлингов (см.: Там же. С. 88).
- 670 -
С. 434. Таутай ~ протестовал против явного нарушения таможенном правил и отнесся к английскому консулу — Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. — В сентябре 1853 г., после ареста мятежниками шанхайского таотая (о нем см. выше, с. 663, примеч. к с. 410), английский и американский консулы издали распоряжение, согласно которому таможенные пошлины должны были собираться консульствами этих стран для последующей передачи цинскому правительству. Такой порядок сохранялся и после освобождения таотая до середины 1854 г. Отказался же от уплаты пошлин французский консул Б. Эдан (Edan). В его послании к У Цзянчжану, опубликованном в местной газете «North China Herald», говорилось: «...поскольку я не вижу в Шанхае какой-либо твердой и всеми признанной постоянной власти, которая была бы в состоянии гарантировать соблюдение статей договора, существующего между нашими двумя великими империями, — статей, касающихся защиты торговли, собственности и личности моих соотечественников, я считаю возможным предоставить кораблям под французским национальным флагом входить в порт и выходить из него свободно от всяких сборов» (цит. по: Кузес. С. 91). Послание французского консула было широко известно, потому что после его публикации судовладельцы прекратили уплату всех сборов. Очевидно, именно этот документ с чьих-то слов и пересказывает Гончаров. См. также: Римский-Корсаков. С. 160.
С. 434. В Нанкине ~ теперь главный пункт инсургентов. — Нанкин был взят восставшими в марте 1853 г., переименован в Тяньцзин (Небесная столица) и провозглашен столицей Тайпинского государства.
С. 434. ...главный начальник их ~ Тайпин-ван. — Тайпин-ван — распространенное среди иностранцев прозвище предводителя тайпинского восстания; правильно: Тянь-ван (небесный князь) — верховный титул у тайпинов (см: Тайпинское восстание 1850—1864: Сб. документов. М., 1960. С. 321). Вождь тайпинского восстания Хун Сюцюань (1814—1864) провозгласил себя Тянь-ваном в феврале 1851 г.
С. 434. Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепления. — В действительности, Шанхай был важнейшим «пунктом», так как его захват открывал доступ к огромным финансовым ресурсам — таможенным сборам. Среди причин, по которым тайпины не пришли на помощь обществу «Сяо дао хуэй», историки называют недостаток военных сил, а также идеологические разногласия: тайпины считали себя христианами и не стремились к восстановлению династии Мин. Подробнее см.: Кузес. С. 48—53.
С. 434. Французский полномочный Бурбулон ездил, со свитою, на пароходе в Нанкин: Тайпин-ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю. — Бурбулон (de Bourboulon), полномочный министр Франции в Китае в 1851—1863 гг., прибыл в Нанкин 28 ноября (10 декабря) 1853 г. и был принят одним из министров (см.: Maybon. P. 77). Очевидец события сообщает, что церемония приема и обстановка переговоров показались французскому министру не соответствующими его рангу; претензии Бурбулона были учтены, и переговоры состоялись (подробнее см.: Maybon. P. 77—78). Ср. запись
- 671 -
в дневнике о. Аввакума от 7 декабря: «Рассказ о приеме французского полномочного в Нанкине. Тайпин-ван поручил своему чиновнику, а этот обращался с ним так надменно, как нельзя вообразить хуже» (Аввакум. С. 75). О визите Бурбулона в Нанкин по материалам газеты «North China Herald» сообщает Е. В. Путятин в письме к Л. Г. Сенявину от 10 (22) декабря 1853 г. из Шанхая (см.: наст. т., с. 119—121). См. также: Всеподданнейший отчет. С. 186.
С. 435. Вся эта восставшая сволочь объявляет себя христианами. Христианство это водворено протестантами или пробравшимися с востока несторианами и смешалось с буддизмом. — Наставником Хун Сюцюаня был американский протестантский миссионер Роберте (см.: Илюшечкин. С. 50, а также: Римский-Корсаков. С. 169). Христианство тайпинов в основе было протестантским, но весьма своеобразно истолковывалось идеологом и вождем движения Хун Сюцюанем. В вопросах нравственности тайпины строго следовали нормам традиционной конфуцианской морали. Хун Сюцюань учил строить отношения между людьми на основе послушания младших старшим и попечения старших о младших. «Добродетель христианского смирения» игнорировалась в тайпинских книгах (см.: Boardman E. P. Christian influence upon the ideology of taiping rebellion. Madison, 1952. P. 109). «Модернизация» христианства тайпинами заключалась, в частности, в том, что Новый завет назывался Прежним заветом, а «Книга манифестов небесной воли», в которую вошли сочинения идеологов движения: Хун Сюшоаня, Ян Сюцина и Сяо Чаогуя, называлась Последним заветом. В «Разъяснениях к высочайше утвержденному священному писанию Ветхого и Прежнего заветов» Хун Сюцюань называл себя и Ян Сюцина братьями Иисуса Христа, рожденными одной и той же небесной матерью, супругой Бога Иеговы. Фрагмент «Разъяснений...» дает некоторое представление о «христианстве» тайпинов: «Великий старший брат, сам я и Восточный князь до начала неба и земли были рождены из чрева супруги Бога, небесной матери и пребывали в Боге-отце. Позднее Бог-отец послал Великого старшего брата искупить грехи рода человеческого и войти в лоно Марии, чтобы стать человеком. Затем я узнал, что Бог-отец направит и меня на землю в качестве повелителя, и я возжелал, чтобы для этого представился подходящий случай. Потом я получил приказ Всевышнего отца войти в лоно матери, чтобы явиться в мир. В то время я узнал, что дьявол-змий, демон Яньмо, станет вредить мне, и потому просил у отца защиты, чтобы избежать вреда от проклятого. Позднее Бог-отец приказал мне родиться из чрева другой матери, чтобы войти в мир. Помню также, что, когда я вошел в лоно этой матери, Бог-отец сделал знамение: окутал ее солнечными лучами, чтобы показать, что в ее чреве — солнце» (цит. по: Илюшечкин. С. 75). См. также: Фицджеральд. С. 415—426.
Несториане — христианская секта, ведущая происхождение от патриарха Нестория, низложенного 3-м Вселенским собором в 431 г. Его последователи бежали из Византии в Персию, откуда распространились по всей Азии. В Китай несториане проникли в 636 г. при могущественной династии Тан, когда императоры не боялись иностранного влияния и осуществляли открытую внешнюю политику (см.: Ядринцев Н. Несторианство в Азии // Восточное обозрение. 1886. № 14. С. 11; Цветков П. Несторианский памятник
- 672 -
VII в. // ТРДМ. Т. 3. С. 205—212). В VIII в. несторианская церковь пользовалась покровительством высоких китайских сановников и имела храмы во всех областях страны. Конец распространению несторианства и других инородных религий был положен в 845 г. императором У-цзуном, ревностным даосом, разрушившим 4600 несторианских, буддистских и манихейских храмов (см: Фицджеральд. С. 248—251). Источником сведений для Гончарова могла быть как устная информация синологов (о. Аввакума и О. А. Гошкевича), так и книга С. Билля, в которой по поводу сходства буддистских и католических догматов и обрядов говорилось: «... вероятно, что это сходство возникло под влиянием несторианской церкви, которая уже 1200 лет тому назад переступила китайскую границу» (Bille. S. 79). Сведения о непосредственном влиянии несториан на тайпинов, вероятно, следует отнести к числу «ипотез чересчур смелых», об избытке которых в «китайской» главе Гончаров сообщал в письме к А. А. Краевскому (сентябрь 1854 г.).
С. 435. Учение Конфуция — не религия, а просто обиходная нравственность, практическая философия, не мешающая никакой религии. — Конфуций (Кун-цзы; 551—479 гг. до н. э.) — китайский мыслитель, политический деятель и педагог. Конфуцианство — этико-политическая система, распространенная в Китае с древних времен до середины XX в. Согласно конфуцианскому учению, общественный порядок сохраняется при строгом соблюдении традиций древней культуры и следовании культу предков. Главная конфуцианская добродетель жэнь (гуманность) — закон жизни людей в семье и обществе, основана на любви и уважении к старшим по возрасту и общественному положению. Постижение жэнь возможно при строгом соблюдении ли (этикета), т. е. норм общественного поведения, обычаев, ритуалов. Конфуцианство допускало существование традиционного китайского божества шанди (верховный владыка) или тянь (небо). Сведения о статусе конфуцианства в Китае были общеизвестны. Ср. у С. Билля: «Учение Кон-фу-цзе, китайская государственная религия на протяжении вот уже 2400 лет, представляет собой просто морально-философскую или, вернее, политическую систему, которая даже не удостаивает упоминанием замогильное бытие, но указывает человеку лишь на наш земной шар, — систему, которая ставит пользу превыше всего и оттого рассматривает послушание как первый закон жизни» (Bille. S. 76).
С. 435. Есть у них ~ поклонение небесным духам ~ не только не вменяется в долг народной массе, но составляет ~ привилегию и обязанность только богдыхана; см. также с. 603: Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. — Гончаров имеет в виду связанные с культом неба ритуалы, которые составляли привилегию императора. «То, что мы назвали здесь <в Пекине> жертвенниками, — писал русский путешественник, — не есть место, посвященное общественной молитве и поклонению, нет, оно недоступно для народа. <...> Одному императору предоставлено оно: и только сын неба может приносить здесь жертву по определенному церемониалу...» (Ковалевский. № 3. С. 14). У Иакинфа в главе «Шаманские обряды» сообщается, что шаманство, казавшееся прежде «...грубым обманом в кочевых шарлатанах, составляет религию, господствующую ныне при китайском дворе и в Маньчжурии. Древние обряды ее, изложенные
- 673 -
в упомянутом уставе, представляют стройную систему, основанную на понятиях чисто религиозных <...>. В Маньчжурии нет ни храмов для шаманского служения, ни дней, определенных для сего. Шаманов призывают в дом во всякое время, когда нужно их религиозное содействие по какому-либо случаю. Один Богда-хан, по преимуществу, пользуется правом иметь храмы и жрецов для шаманского служения. <...> Шаманское служение состоит в жертвоприношении Небу и Онготам. По вероучению шаманов, под „Небом” разумеется сила, управляющая миром, — Бог, под „Онготами” — души людей, которые в жизни сей делали добро людям да и по смерти продолжают благотворить им» (Иакинф 1848. Ч. 4. С. 56—59).
С. 435. Медгорст — один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае. — Уолтер Генри Медхерст (Medhurst; 1796—1857) — английский протестантский миссионер: с 1816 г. занимался миссионерской деятельностью в странах Дальнего Востока; в 1842 г. после открытия китайских портов переехал в Шанхай, где работал в течение 14 лет. Автор китайско-английского словаря. Во время восстания в Шанхае Медхерст был посредником между предводителем мятежников Лю Лючуанем (о нем см. выше, с. 661, примеч. к с. 398) и иностранными консулами (см.: Кузес. С. 82). О миссионерах см также: Римский-Корсаков. С. 166—169.
С. 436. Наши синологи были у него и приобрели много изданных им книг, довольно редких в Европе. Некоторые он им подарил. — Синологи — о. Аввакум и О. А. Гошкевич (о них см. выше, с. 433—435). Об этом визите Аввакум сообщает в дневнике (запись от 28 ноября): «После завтрака ходили с Фуругельмом, Кроуном и Гошкевичем к английским миссионерам, Медгурсту и прочим. Набрали книг, изданных ими на английском и китайском языках. Были у Медгурста в комнате. Он занимался с китайцем поправкою Н<ового> завета, им переведенного» (Аввакум. С. 72—73).
С. 437. Всё навыворот: у фруктов едят кожу, а внутренность бросают! — Возможно, имеется в виду кумкват, разновидность китайских апельсинов с очень сладкой кожурой.
С. 438. ...русскую, пятишаровую партию... — Русская, или московская, пятишаровая партия относится к разряду смешанных, в которых очки даются и за попадание в лузу («деланье шаров»), и за карамболь, т. е. за удар, после которого «битка» рикошетом касается двух и более шаров (подробнее см.: Бильярд: Практическое пособие для правильного изучения теории и техники бильярдной игры. СПб., 1890. С. 112—113).
С. 439. Док принадлежит частному человеку, англичанину кажется. — О хозяине дока, американце, капитане Поттере, типичном представителе «спекулянтов, которым стоит только здесь показаться, чтоб собирать пригоршнями доллары», подробно пишет В. А. Римский-Корсаков: «Ему лет под сорок. Восемь лет тому назад он был не больше как <...> ничтожным помощником шкипера какого-то купеческого суденышка. Шанхайский порт открыли для европейской торговли, с каждым годом возрастало число приходящих судов <...>. Малый он не промах и тотчас же смекнул, что вход в Янцзыцзян и в Вусонг узкий, усеянный отмелями, и нет ни одного европейца там лоцманом, тогда как, разумеется, каждое судно гораздо охотнее возьмет европейца, нежели китайца. Остался мистер Поттер в Шанхае и начал вводить и выводить суда <...> и таким образом в весьма
- 674 -
короткое время сколотил себе капитал тысяч в пятнадцать или двадцать. <...> С таким капиталом капитану Поттеру не хотелось уже мыкаться по морям, его расчетливый ум мигом смекнул, что в Шанхае, при необыкновенной дешевизне китайских мастеровых, очень выгодно завести док для починки судов, и с 20 000 долларов он мигом состряпал себе и док, и мастерские с людьми, столь же мало сведущими в кораблестроении, как и он сам; но за неимением лучшего всякий и этому рад, и капитан Поттер кладет себе в карман по тысяче долларов за каждое судно, которому есть нужда в починке...» (Римский-Корсаков. С. 157—158).
С. 439. ...неизвестные нам фрукты или овощи, темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. — Возможно, кинкан. Об этом плоде упоминает и В. А. Римский-Корсаков: «Его едят сушеным, и его мучнистая внутренность одета в тонкую коричневую шкурку с шестью рожками в виде лапок и имеет вкус гороха» (Римский-Корсаков. С. 171).
С. 439. В. А. Корсаков, который способен есть всё не морщась ~ пробует всё с редким самоотвержением и не нахвалится. — Ср. дневниковую запись В. А. Римского-Корсакова: «...брали с лотков по дороге разную дрянь, например китайские конфекты из орехов, слепленных на яичном желтке; водяные груши, похожие видом на каштан, а вкусом на капустную кочерыжку; стручки особенного рода, заключающие в себе орешки вроде кедровых, слегка поджаренные и довольно вкусные» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 181—182).
С. 440. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, и потом уже хоронят. — Сведения об особенностях погребения у китайцев Гончаров почерпнул у Иакинфа: «Покойников погребают в течение седьми седьмиц или ста дней. Но если в продолжение сего времени не найдут удобного места для похорон, то строят на избранном месте хижину, и в ней ставят гроб. Это называется на время поставлять. <...> Иногда сыновья, не желая скоро расстаться с прахом родителей, по исполнении седьми седьмиц еще ставят гроб вне зала и ограждают стенками. Ежедневно здесь утром и вечером предлагают им пищу и чай; а если случится третной праздник, то возливают вино и производят плач. Когда же исполнится трехгодичный траур, то избирают место для погребения. Если после погребения случится какое-либо несчастье в доме, то некоторые переносят гроб на другое место и снова похороняют» (Иакинф 1848. Ч. 4. С. 95—96). См. также: Ковалевский. № 4. С. 71—79; Цветков П. Домашние обряды у китайцев // ТРДМ. Т. 3. С. 261—380; Бурбулон. С. 213.
С. 440. Книга была — Конфуций. — Вероятно, одна из 13 канонических книг конфуцианства. Наиболее значимы и распространены Сышу — четырехкнижие и Уцзин — пятикнижие.
С. 441. ...остановились посмотреть на прелюбопытную машину... — Более подробно описывает машину В. А. Римский-Корсаков: «Китайская помпа состоит из деревянного желоба с двумя поперечными валами с обоих концов. Кругом валов обнесена деревянная цепочка с деревянными дощечками, которые, проходя по желобу, становятся вертикально и гребут по дну его. Если нижний конец желоба вставить в воду, то дощечки, переваливаясь через нижний вал, зачерпывают воду и провожают по желобу доверху. Это нечто вроде нашей
- 675 -
так называемой кетенс, или цепной, помпы, только в нее не входит ни куска железа и ею управляет один человек, как бы кофейною мельницею» (Римский-Корсаков. С. 171—172).
С. 441. Мы скучно и беспечно жили до 15-го декабря, как вдруг получены были с почтой известия о близком разрыве с западными державами. ~ Командиру шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться к Saddle Islands... — Согласно дневнику В. А. Римского-Корсакова, 10 декабря на рассвете шхуна «Восток» вышла из Шанхая, чтобы присоединиться к остальным кораблям эскадры, стоящим на рейде у островов Saddle (см.: Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 182—183). Ср. запись в дневнике о. Аввакума от 8 декабря: «В 10 часов адмирал пришел в гостиницу и решительно сказал нам, что, не ожидая худших известий (о войне нашей с турками), нам следует поскорее убираться из Шанхая, чтобы англичане не взяли нашу шкуну и транспорт в плен» (Аввакум. С. 75); он же сообщает, что шхуна «Восток» вышла из Шанхая 9 декабря (Там же. С. 76).
III
РУССКИЕ В ЯПОНИИ
С. 443. Опять Нагасакский рейд. ~ японец приезжал уж с бумагой ~ является на каждое иностранное судно. — Эскадра Е. В. Путятина прибыла в Нагасаки 22 декабря 1853 г. (3 января 1854 г.) (см.: Отчет. С. 157; Всеподданнейший отчет. С. 188; Обзор. Т. 1. С. 40). Ср. запись в дневнике о. Аввакума от 22 декабря: «В 7 часов подошли к мысу Ному: вскоре с одного островка сделано было 3 пушечных выстрела, чем дано знать в Нагасаки о прибытии нашем. На внешнем рейде подъехала к нам лодка с обыкновенными вопросами: кто, откуда, прежние ли это суда или новые? В 8 часов мы вошли уже на средний рейд, а шкуна под парами пошла на внутренний. В 9 часов стали на якорь» (Аввакум. С. 78—79). О формальностях при прибытии иностранных судов в Нагасаки см. выше, с. 610—611, 612—613, примеч. к с. 315, 316. Ср. также записи В. А. Римского-Корсакова: «...мы подошли ко входу в бухту перед рассветом, когда еще было темно <...>. <...>) Фрегат опять стал на среднем рейде, а мне адмирал приказал бросить якорь во внутренней бухте. Это место было интереснее прежнего, потому что теснее берега, ближе сходятся между собой, стоишь, как в реке. К самому городу не велено было мне подходить, а стать посередине бухты, имеющей в длину 4 мили. Это приходилось милях в двух от голландской фактории, и в трубу очень хорошо видны были городские здания» (Римский-Корсаков. С. 238).
С. 444. ...деревянные кумирни, а не храмы... — См. выше, с. 619, примеч. к с. 320.
С. 444. ...вместо вина — саки... — О сакэ, японском рисовом напитке (рисовом пиве, как его называли путешественники прошлого века), см.: наст. изд., т. 2, с. 463; наст. т., с. 687, примеч. к с. 463.
С. 444. Вот и японцы едут ~ с ними Сьоза. ~ Ойе-Саброски... — В дневнике о. Аввакума под 22 декабря записано: «Обедня в 11 часов, потому что приехали 4 баниоса и несколько переводчиков на 10 или более лодках. После обеда приезжал баниос с переводчиком
- 676 -
известить, что из полномочных один приедет через три дня, а прочие после него» (Аввакум. С. 80).
С. 444. Полномочные, может быть, уж здесь...; см. также с. 445: ...что полномочных нет и что они будут не чрез три дня ~ а чрез пять... — Японских полномочных в это время еще не было в Нагасаки; Кавадзи Тосиакира, Цуцуи Масанори, Арао Сигэмаса и Кога Кинъитиро (о них см. ниже, с. 683—685, примеч. к с. 455, 456) прибыли 25, 26 и 27 декабря (6, 7 и 8 января). «Сказали нам, что полномочных еще нет, — писал В. А. Римский-Корсаков, — но что они прибудут дней через пять, что они уже близко от Нагасаки. Без сомнения, они уже были в городе, но японская гордость не позволяла себе признаваться в том, что японские вельможи ждут русского адмирала. Мы же пришли в Нагасаки, помнится, 23-го. Наступили праздники, и очень кстати было дня четыре отдохнуть» (Римский-Корсаков. С. 238).
С. 445. Баниосы привезли с собой много живности, овощей, фруктов ~ уж раз было отказано в принятии подарка...; см. также с. 447: К вечеру пришло от губернатора согласие принять подарки. ~ и тем дано было по халату и по какой-нибудь вещице. — О. Аввакум в записях от 23 и 24 декабря своего дневника рассказывает об этих сложностях и церемониях: «В 10 ч<асов> приехали японцы, привезли от губернатора в подарок плодов, свиней, зелени, конфетов и пр<очего>. Сперва это не было принято, по той причине, что прежде он не принял наших подарков, но когда приехали известить, что губернатор изъявил согласие принять подарки и от нас, равно как разрешает это баниосам и переводчикам, тогда и адмирал согласился принять все, что было прислано. Тотчас изготовлены были часы столовые (украшенные малахитом) и две хрустальные вазы, также половина убитого быка, несколько голов сахару, и отосланы ему» (Аввакум. С. 80). В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 26 декабря: «Губернатору подарены малахитовые с бронзою столовые часы, столовое зеркало и граненый графин. Всем прочим баниосам и переводчикам подарки назначаются по чинам и важности их участия в переговорах и состоят почти исключительно из разных размеров зеркал, купленных, как видно, в гостином дворе и, следовательно, довольно лубочных. Два-три коврика, штук пять карманных часов и каждому по халату из шерстяных материй, предпочтенных шелку на том-де основании, что у японцев шелк нипочем и что шерсть должна быть для них ценнее. После обеда все эти драгоценности были выставлены в батарейной палубе и вся японская здешняя знать, кроме губернатора, их рассматривала» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 186—187).
С. 446. ...войну инсургентов с империалистами». — См. выше, с. 661, 667, примеч. к с. 398, 423.
С. 446. «Коммодора Перри...» ~ «Не видали, а видели капитана американского корвета „Саратога”!» ~ Всё это знакомые японцам имена судов, бывших в Едо. «Где ж Перри? ~ «А может быть, и в Гонконге»... — Эскадра М. К. Перри покинула залив Эдо 5 (17) июля 1853 г. (см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367) и в сентябре-декабре находилась в Кантоне, затем в Макао и Гонконге (см.: Walviorth. P. 122—127). Корвет «Саратога» (капитан У. Уолкер), входивший в состав эскадры, был направлен из Эдо в Шанхай, где
- 677 -
пробыл до января 1854 г. (см.: Люджер А. Отчет секретаря флота Соединенных Штатов, представленный президенту, за 1853 год // МСб. 1854. № 3. Ч. II. С. 276—277; Perry. Vol. 2. P. 410; Walworth. P. 113, 130).
С. 447. Баниосы сказали, что полномочные ~ едут медленно и не все четверо вдруг, а по одному. — Ср. пояснения нагасакского губернатора, что «по обычаям их страны, значительные лица путешествуют медленно» (Отчет. С. 157). «Чем знатнее японец, — сообщал Е. Ф. Корш, — тем более он связан этикетом а своих официальных выездах и путешествиях, которые приходится ему совершать довольно часто. Есть тысячи мелочных правил для его собственной одежды, для распределения и наряда свиты, его сопровождающей, для клади, какую он с собой везет, для малейших подробностей его маршрута, его дорожного стола, ночлегов, роздыхов и так далее» (Корш. № 10. С. 37); информация восходит к Э. Кемпферу, посвятившему описанию этикета путешествий десятки страниц (см.: Kaempfer. Vol. 2. P. 393—403, 405—456; ср.: Зибольд. Т. 1. С. 203—243). Четверо полномочных отправились из Эдо 18 (30) ноября в разное время, и каждый со свитой совершал самостоятельное путешествие. См. также ниже, с. 678—679, примеч. к с. 450—451.
С. 447. ...в списке у нас они значились под именами: косого, тощего, рябого, колченогого... — Японцы запоминали русских по тем же приметам. Гончаров описывает Льода как «толстого и рябого», Кога называет Гошкевича «рябым иностранцем» (см.: Кога. С. 246; Кавадзи. С. 53).
С. 448. Синоуара Томотаро. — Речь идет о старшем чиновнике Синохара Томотаро.
С. 448. ...прибыли, в одно время, экспедиции от двух государств. — Гончаров имеет в виду экспедицию М. К. Перри; о ее прибытии в Японию см. выше, с. 617, 647—648, примеч. к с. 318, 367.
С. 449. «Там есть кумирня ~ Кроме того, есть дом или два... — Имеется в виду буддистский храм Госин-дзи (основан в 1598 г.) в деревне Инаса. В дневнике о. Аввакума под 27 декабря записано: «В 1½ часа японцы приехали, чтобы показать дом при кумирне, назначенный для адмирала. Отправились осматривать его Посьет, Лосев, Пещуров и Фуругельм с транспорта. Они нашли, что дом, хотя не обширный, но в хорошем состоянии на прекрасном месте, окружен разными деревами; японцы обещались, если угодно, выстроить и баню. Вечером наши возвратились на фрегат. За ними вслед приехали и японцы узнать: согласится ли адмирал пользоваться этим домом. Когда изъявлено было согласие, то они, от имени губернатора, просили, чтобы завтра он сам осмотрел этот дом; на это также изъявлено согласие» (Аввакум. С. 82).
С. 449. Сегодня, 26-го, чиновники приезжали опять благодарить за подарки ~ Рождество у нас прошло, как будто мы были в России. ~ потом обедали у адмирала. — Ср. записи в дневнике о. Аввакума от 25 и 26 декабря: «В 8 часов обедня и молебен. Вскоре японцы приезжали за подарочными вещами. По расписанию, кому что назначено, они приняли вещи и уклали в один огромный сундук, привезенный на лодке. Большие вещи повезли отдельно. В 2½ часа обед, к которому были приглашены командиры прочих судов. В 6 часов всенощна<я> в каюте адмирала. После чаю сидели весь
- 678 -
вечер у капитана»; «В 6½ часов обедня и молебен. Адмирал именинник. В 11½ ч<асов> приехали японцы. Дождь. Пасмурно. <...> В 12 часов с корвета прислали шлюпку за мною. Командир Назимов просил меня служить там обедницу и вместе отобедать. По случаю адмиральских именин отложено все до завтра. Японцы до 2-х часов выгружали привезенную провизию и дрова. Вечером снова приехали и привезли планы домов, назначенных для приезда или для квартиры адмирала; один из них назначен был в буддийском монастыре. В 7 часов всенощна<я>. Ночью выпадала снеговая крупа при порывах ветра» (Аввакум. С. 83).
С. 449. Хотя с ними избегали говорить о христианской религии ~ Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда слово Божие и водрузится крест... — О запрете христианства в Японии см. выше, с. 643, 644, примеч. к с. 356, 361.
С. 450. Нарушить это ~ ничем другим нельзя, как только силой. ~ Угроза со стороны европейцев и желание мира со стороны японцев помогут выторговать у них отмену некоторых стеснений. — Ср. неоднократно провозглашенные в официальных документах принципы дипломатии Е. В. Путятина — «кротость, вежливость и твердость», «кротость и вежливость» (см.: Отчет. С. 156). Эти далеко не «кроткие» суждения отражают впечатления Гончарова (и не его одного) от побед «силовой» дипломатии М. К. Перри. Известная двойственность заявленной позиции присутствует (как и в данном случае у Гончарова) в официальном рапорте Путятина великому князю Константину Николаевичу от 20 сентября (2 октября) 1853 г., где, с одной стороны, подтверждается намерение действовать соответственно принятой «системе кротости и умеренности», с другой — замечено, что «одни логические доводы и путь мирных и кротких переговоров, не подкрепленных угрозами, не могли бы повести к никаким благоприятным последствиям» (наст. т., с. 114). См. сопоставление принципов американской и русской дипломатии: Lensen 1955. P. 127—134.
С. 450—451. Сегодня, 28-го декабря ~ полномочные прибыли. ~ просят к себе, говоря, что устали с дороги. — О времени прибытия полномочных см. выше, с. 676, примеч к с. 444. В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 27 декабря: «Сегодня японцы подарили нас известием, что полномочные прибыли наконец в Нагасаки, но что пожилые персоны их просят отдыха по крайней мере на три дня после сделанного ими путешествия. Почти нет сомнения, что эти господа давно уже сюда прибыли и что не показываются только оттого, что мы, варвары, можем, пожалуй, хвастать тем, что мы заставили таких важных господ ждать нашего прихода. <...> Адмирал согласился ждать до четверга, с тем чтобы свидание уже далее не откладывалось, и объявил, что он согласился на то, чтобы первое свидание было на берегу и чтобы вслед за тем полномочные не замедлили отдать ему визит» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 187). Ср. записи в дневнике о. Аввакума 28, 29 и 30 декабря: «В 11 часов приехали японцы провожать адмирала на берег. Простудившись ночью, он чувствовал себя нездоровым, а потому вместо себя просил съездить туда капитана <...> На берег наши не успели поехать, как прибыли переводчики в белых чулках и шелковых юбках с выражением на лице какой-то таинственности. На вопросы: что это значит? — они отвечали, что сейчас приедут баниосы и объяснят»;
- 679 -
«Баниосы приехали и объявили, что полномочные из Иедо, узнавши о нашем приходе, поторопились и приехали все вместе; затем просили дать им дня два на отдых, после чего воспоследует и свидание с адмиралом. Для большего удобства при переезде с фрегата на берег адмирал объявил, что фрегат надобно перевести из среднего рейда на внутренний поближе к дому, который ему назначен. Дело на том и остановилось. <...> Объявлено японцам, что адмирал намерен видеться с полномочными 31-го декабря, с тем чтобы на следующий день они приехали на фрегат отплатить визит. Написаны условия свидания и весь церемониал»; «Вечером японцы привезли ответ, что полномочные согласны на весь церемониал, но прибыть на фрегат не ранее могут как через два дня после свидания с адмиралом, а касательно салюта им пришлют известие заблаговременно» (Аввакум. С. 82—84). Полномочные (в том числе и Кубота Мосуй (1817—1877), сопровождавший Кога) были утомлены переходом в 1500 км, совершенным за 40 дней (см.: Кавадзи. С. 88, 105; Кубота. С. 49, 87, 112). Кавадзи, имевший склонность к литературе, автор дневников (неоднократно публиковались в Японии; см. ниже, с. 684, примеч. к с. 456), сочинил в пути, как пишет современный исследователь, «более двадцати танка — так называемых пятистиший — и десять канси — стихотворений на китайском языке», в том числе и следующее:
Нарочные один за другим извещали о прибытии варварского корабля,
А я, улыбаясь, заснул и храпел как гром.
Что поделаешь с мнениями надоедливых политиков?
Я встал с зарей и спешу в красный город Нагасаки, —из которого «видно, что он имел такое же необоснованное сознание превосходства над варварами, иностранцами вообще, какое было у всех его соотечественников того времени» (Накамура Ёсикадзу. И. А. Гончаров у японцев // Литература и искусство в системе культуры / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. М., 1988. С. 417). «Только когда мы осознаем, — писал Дж. А. Ленсен, изучивший путевые записи в дневнике Кога, — что полномочные двигались большую часть пути пешком, останавливаясь в каждом живописном месте, любуясь каждым симпатичным растением и каждым известным храмом и посещая многочисленные банкеты, мы окончательно поймем, почему их прибытие так долго откладывалось» (Lensen 1955. P. 40). «В распоряжении четверых полномочных было всего три лошади. Но даже если бы их было четыре, они не смогли бы перемещаться быстрее, поскольку их свита шла пешком» (Ibid. P. 173).
С. 451. Главные условия свидания состояли ~ на девяти шлюпках... — В. А. Римский-Корсаков писал: «На другой день прибыл на фрегат секретарь полномочного, чтобы условиться об этом церемониале, и тут же решено было, что свидание произойдет на берегу, где для этого определен особый дом. Условлено было, что адмирал по уведомлении о готовности съедет на берег с почетным караулом, в сопровождении всех офицеров отряда и без всяких японских конвоев, что на пристани его встретит один из секретарей и проводит к дому, что у дверей дома встретит его один из младших полномочных и что, наконец, остальные полномочные встретят его в аудиенц-зале или конференц-зале и, разумеется, не
- 680 -
сидя, а стоя. С японцами необходимо оговаривать все эти мелочи, потому что они, со своим чванством, воспользуются каждым промахом, чтоб, хотя [и] не наружно, показать свое величие и унизить достоинство чужеземца» (Римский-Корсаков. С. 238).
С. 451. ...и, между прочим, будем салютовать пущенными выстрелами...; см. также с. 453: ...на их батареях люди не предупреждены о салюте, и оттого выйдет недоразумение...; с. 466—467: объясниться насчет салюта. ~ Они стали просить не палить больше. — Эти выстрелы нарушали законы Японии. По свидетельству Кубота, они вызвали возмущение японских караулов, намеревавшихся сжечь русские корабли; конфликт был остановлен губернатором (см.: Кубота. С. 96). «Это обычай варваров, — писал в дневнике о салюте Кога, — но наши законы не разрешают этого. Они не должны стрелять из пушек» (Кога. С. 240; см. также: Lensen 1955. P. 41). Как сказано в официальном документе («Записка о процедуре приема русского посольства»), «русские принесли извинения за свою оплошность и обещали впредь не стрелять» (Сборник древних актов Японии: Документы о внешних сношениях в последние годы правительства сёгуна. Токио, 1911. Т. 3. С. 326). П. И. Рикорд, прибывший в Хакодате в 1813 г. (см. об этом выше, с. 625—626, примеч. к с. 326), отмечал: «Отъезжая со шлюпа, я <...> поручил, коль скоро отвалим от берега, на шлюпе сделать рассвещение флагами без всякой пальбы, которая, как известно, вообще всем японцам чрезвычайно не нравится. Они говорят: „Какое в Европе странное обыкновение: делать почести стрельбою из пушек, которых назначение убивать!”» (Записки флота капитана Рикорда о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах и о сношениях с японцами // Головнин. Записки. С. 435).
С. 452. ...верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день. — Описание дня приема 31 декабря (12 января) дано в письме Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 января (2 февраля) 1854 г. (наст. т., с. 127); см, кроме того: Отчет. С. 157—158; Всеподданнейший отчет. С. 188—189. Ср. также запись от 31 декабря в дневнике о. Аввакума: «День с утра до вечера сухой и ясный. Часов с 8-ми начали подъезжать японские лодки с переводчиками и баниосами частию для получения известия о готовности нашей ехать на берег, частию для церемониального провожания до берега. Много собралось и посторонних лодок с народом, которые стали поодаль от фрегата, чтобы посмотреть на церемонию. В 10-м часу отправили на японской лодке потребное число стульев в дом, назначенный для свидания; потому что у японцев никакой мебели нет. Вскоре приехал главный казначей города (по чину равный губернатору) для приглашения адмирала на берег, где губернаторы и полномочные уже готовы принять его со всею свитою. Казначея и офицеров, приехавших с ним, потчевали чаем и вином. Затем объявлено им, что к отъезду в город у нас все готово и что при отправке адмирала от фрегата будет сделан ему по уставу салют как с фрегата, так и с корвета, который также стоял на среднем рейде. Казначей тотчас отправил с этим известием к губернаторам, которые не были об этом предуведомлены, и просил, чтобы не торопились салютовать, пока губернаторы не получат об этом известия. Вскоре потом отправился и сам казначей. Когда он был уже близок к берегу, вся команда вызвана на верхнюю палубу;
- 681 -
гребцы уселись по шлюпкам, затем начали садиться вооруженные матросы (до 50 человек), составляющие почетный караул, музыканты и барабанщики (до 20 ч<е>л<ове>к), далее офицеры со всех четырех судов (кроме оставшихся на вахте). Скомандовано расцветить фрегат флагами и вымпелами, а марсовым матросам стать по реям. Старшие офицеры стали спускаться в адмиральскую шлюпку, а за ними и сам адмирал. Когда начали отваливать, на передней шлюпке заиграла музыка, марсовые на реях прокричали три раза „ура”; то же повторилось и на корвете. Затем последовал и салют (по 15 выстрелов из пушек) с фрегата и корвета — одинаково. Японские лодки с чиновниками, иные шли впереди, иные с боков, иные позади наших шлюпок. Эхо от выстрелов отлично раздавалось в восточных горах. Звуки музыки смешивались с криком японских гребцов и издалека доходили до фрегата; все это придавало поезду изумительную торжественность. К сожалению, наши шлюпки издали не имели почти никакого вида: большие японские лодки как будто поглощали их. Отправившийся вперед нагасакский казначей встретил адмирала на берегу. Церемониальное шествие наших до губернаторского правления происходило в том же порядке, как и 9 сентября. При входе в дом один из полномочных встретил очень вежливо. Затем свидание с прочими и обед. Наши офицеры (младшие) угощаемы были в особой комнате. Поезд возвратился в пятом часу пополудни. Дома все снова пообедали. Тотчас приехали японские чиновники благодарить за визит и привезли конфекты и рыбу, бывшие за столом. В 7 часов всенощна<я>. В 12 часов офицеры в кают-компании кричали „ура” и поздравляли друг друга с Н<овым> годом» (Аввакум. С. 84—86). Подробнейший рассказ о первом свидании русской делегации с японскими полномочными содержится также в письмах В. А. Римского-Корсакова (см.: Римский-Корсаков. С. 246—253) и его дневнике (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 188—192), а также в письмах офицеров Зарубина, Пещурова и Болтина (см.: Извлечение. С. 325—329).
С. 452. Назначено было отвалить нам от фрегата в одиннадцать часов утра. — Ср. запись В. А. Римского-Корсакова: «...31 декабря 1853 года часов в одиннадцать утра подъехало к фрегату множество лодок, разукрашенных флагами, бунчуками из орлиных хвостов. Из лодок вылезло около сотни японцев, разодетых по-праздничному или по-церемониальному. Наряд [этот] отличается главнейше от будничного тем, что поверх обычного черного широкого полукафтанья с висячими рукавами, из-под которого выглядывают полы шелкового халата, надета была форменная у всех одноцветная пелеринка из серой кисеи. <...> Вот мы немедленно уселись на катера и при звуках музыки, посаженной на особый катер впереди, отвалили от фрегата. Нужда была также показать японцам важность адмиральского сана, а потому, как только адмиральский катер отвалил, на всех судах послали по реям, расцветили флагами, салютовали [и] кричали „ура”» (Римский-Корсаков. С. 246—247).
С. 453. Музыка заиграла народный гимн. — О «народном гимне» см. с. 639—640, примеч. к с. 346.
С. 453. ...старший после губернатора в городе чиновник... — Имеется в виду Сугимото Кинрокуро.
- 682 -
С. 455. Потом пошло всё по-прежнему ~ те же солдаты, с ~ quasi-ружьями в чехлах... — Ср. выше, с. 640, примеч. к с. 349—350; о солдатах, «не имеющих по наружному виду ничего общего с тем, что мы привыкли понимать под этим именем», см.: Всеподданнейший отчет. С. 188. Ср. также рассказ В. А. Римского-Корсакова: «Через полчаса мы были у пристани возле островка голландской фактории. Тут встретил нас младший полномочный. Почетный караул из матросов, высаженных заблаговременно, отдал честь с барабанным боем и с музыкой, и мы вышли на берег — на небольшую площадь, выложенную камнем. Но строения, окружающие эту площадь, остались и до сих пор для нас загадкой: так тщательно завешаны они были растянутыми на жердях полотнищами белой ткани с широкими синими полосами по краям. Вдоль этого обвеса поставлены были в один ряд в дистанции солдаты, вооруженные копьями, алебардами и ружьями, — последние, впрочем, видно, самые безобидные, едва ли когда-нибудь вынимались из чехлов, тогда как за обвесом, видимо, кишела и теснилась толпа народа, привлекаемая любопытством, потому что обвес волновался и местами сквозь швы его проглядывали то концы пальцев, разжимавшие прореху, то черный глаз, неподвижно и внимательно следивший за пришельцами. Однако ж не только никакого шума или говора, но топоту не было слышно, что, конечно, свидетельствует о строгости полиции» (Римский-Корсаков. С. 247). В дневнике Римский-Корсаков записал: «В одном навесе сидели фигуры с каким-то оружием, похожим на коротенькие ружья и спрятанным в красные кожаные чехлы; в других — фигуры с луками; в третьих — с пиками. Все эти фигуры (вероятно, солдаты) имели синие с серым короткие полукафтаны при синих (в обтяжку) бумажных штанах, с лакированными шапками в виде широких круглых лоханей на головах» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 189).
С. 455. Японцы, подобрав халаты ~ чтоб поспеть к дому прежде нас. — Это тот самый «правительственный дом» (здание Ниси), где 9 (21) сентября 1853 г. состоялась встреча русской делегации с нагасакским губернатором; здесь же в 1804 г. японцы принимали посольство Н. П. Резанова (о Резанове см. выше, с. 637, примеч. к с. 340). В. А. Римский-Корсаков писал: «Пройдя площадь и еще один короткий переулок, мы вошли в дом аудиенции. Как вам описать это здание, похожее на европейское разве только формою крыши да и тем, что оно повинуется пословице: „Без четырех углов дом не строится”? Снаружи не то навес, внутри не то сени, не то комната. Ничего нет похожего на размещение в наших домах. Никакой мебели, кроме мягких, прекрасно сделанных циновок на полу, застилающих комнаты сплошным ковром, мягким и толстым, как тюфяк, и до того опрятным, что совестно ступить на него в наших сапогах. Японцы, входя в комнаты, всегда снимают свои соломенные туфли и ходят в чулках. Нам это было известно, и потому мы запаслись холстинными башмаками, которые надели сверху на сапоги.
Стены и переборки все из толстых гладких досок, обшивающих горизонтально толстые деревянные стойки, служащие или связью, или основой. Все это сработано из простого соснового или кедрового дерева, но до того гладко выстругано и хорошо сплочено, что едва заметны швы досок. Гвоздей очень мало, и то только в больших
- 683 -
местах, где нужна капитальная связь, и те своими точеными, полированными головками так галантерейно смотрятся, что украшают, а не портят стены. Окна вроде сплошных мелкостекольчатых рам наших летних павильонов или дачных террас, затянутые очень аккуратно и опрятно полупрозрачною бумагою вместо стекла. Все внутренние переборки обшиты прекрасными большими, с серебряными отблесками, обоями, и снизу вокруг всех комнат обои эти заставлены ширмами из золоченой бумаги в рамках под черным лаком, чтобы человечество не пачкало стен спинами. Никакой мебели, потому что японцы сидят обыкновенно на корточках. Все, наконец, очень просто, но щеголевато, а главное — донельзя приятно. Никакого запаха, никаких курений не слышно, но воздух повсюду такой, как будто бы в свежее осеннее утро.
Дом этот, вероятно, как и все дома в Нагасаки, строен наиболее против летних жаров и летнего солнца. И, наконец, в дополнение к описанию его, равно и к тому, чтобы показать, как упорно японцы держатся старины и как даже в самых мелочах стараются ее придерживаться, — дом этот тот самый, в котором принимали японцы в 1804 году посольство Резанова» (Римский-Корсаков. С. 247—248).
С. 455. ...на крыльце стоял ~ младший из полномочных... — Речь идет о Кога Тикуго-но-ками Кинъитиро (1816—1884; Тикуго — старое название юго-западной части префектуры Фукуока), ученом-конфуцианце. Кога был командирован в Нагасаки и позднее в Симода, где принимал участие в приеме иностранных послов. Среди четырех полномочных Кога занимал самую низшую должность — консультанта; им был подготовлен проект ответа сёгуната на официальное послание К. В. Нессельроде (о письме Нессельроде в Верховный совет Японии см. выше, с. 616—617, примеч. к с. 318). Роль Кога близка роли Гончарова в русской делегации. Назначенный в 1855 г. на должность директора Института европейских наук, Кога принимал постоянное участие в просветительской деятельности правительства сёгуна. В новом правительстве эпохи Мэйдзи он не служил и на склоне лет занимался исследованием классических книг. В своем «Дневнике командировки на Запад» (опубликован в Токио в 1913 г.) он писал о церемониале: «Мы словно отворяем ворота и принимаем воров» (Кога. С. 240); о ксенофобии Кога, достаточно ощутимой в его «Дневнике», см.: Lensen 1955. P. 149.
С. 456. ...выдвинулись медленно ~ все полномочные. — «Полномочные встретили нас в аудиенц-зале, — писал В. А. Римский-Корсаков, — в небольшой комнате, занимавшей один из углов здания. Они стояли рядом лицом ко входу, когда мы вошли, и первые приветствия обменены были стоя. Потом все расселись <...>. <...> Переводчики японские выслушивали полномочных на коленях, припав челом к земле, и не вставали с колен, а только приподнимали головы, когда им нужно было передавать высоковельможные речи нашему переводчику Посьету» (Римский-Корсаков. С. 250). Ср. его дневник: «Справа стояли два нагасакские губернатора — старый и новый; слева — двое младших полномочных и два секретаря. Позади этой публики, стоявшей таким образом к нам лицом в виде буквы „П”, сидели на корточках люди их свиты, державшие их сабли» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 190).
С. 456. Показался несколько согбенный старик...; см. также с. 457—458: ...старик очаровал нас с первого раза ~ манеры, обличающие
- 684 -
порядочное воспитание. — Имеется в виду глава полномочных Цуцуи Хидзэн-но-ками Масанори (1778—1859), известный ученый, занимавший в 1821—1841 гг. должность городского префекта Эдо. Когда русское посольство во главе с Е. В. Путятиным вернулось в Японию в конце 1854 г., Цуцуи принял его в Симода и приложил усилия к заключению русско-японского договора о дружбе (см. ниже, с. 784, примеч. к с. 731). Он также участвовал в военных и дипломатических акциях во второй половине 1850-х гг. (о нем см.: Lensen 1955. P. 173—174). Ср. впечатление о Цуцуи В. А. Римского-Корсакова: «Нам особенно понравился первый — старичок лет семидесяти, очень напоминавший собою тех старичков, остатков прошлого века, воспитанных в школе самой обходительной и неизменной учтивости» (Римский-Корсаков. С. 251). По его же дневниковой записи, Цуцуи имел «одну из тех почтенных добрых физиономий, которая особенно свойственна старикам, сохраняющим до конца всю свежесть умственных способностей» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 190).
С. 456. ...другой, лет сорока пяти ~ с умным и бойким лицом. — Речь идет о Кавадзи Саэмон-но-дзё Тосиакира (1801—1868; Саэмон-но-дзё — название титула). Родившийся в семье мелкого чиновника, он, благодаря природным дарованиям и большому трудолюбию, быстро поднимался по служебной лестнице и в 1852 г. занял высокий пост главноуправляющего финансами (кандзё бугё; соответствует посту министра иностранных дел и финансов). Хотя Кавадзи был вторым лицом среди полномочных, при 75-летнем Цуцуи он фактически возглавлял японскую делегацию, русско-японский договор о дружбе был заключен в Симода им и Е. В. Путятиным (см. ниже, с. 784, примеч. к с. 731). В «Нагасакском дневнике» (впервые опубликован в Японии в 1913 г., переиздан в 1968 г.), составленном в форме писем к домашним и подданным, Кавадзи делился впечатлениями от пребывания в Нагасаки. В частности, он отметил, что Гончаров носил платье суконное или бархатное, что в русской делегации сидели на стульях Путятин, Посьет, Унковский и Гончаров, что приборы, поскольку русские не могли пользоваться палочками, были взяты из голландской фактории (см: Кавадзи. С. 53—54). В 1854 г. Кавадзи принимал участие в создании Института европейских наук. Застрелился в 1868 г. при падении правительства сёгуна, которому оставался верен (он был парализован и не мог совершить харакири, как предписывал долг). В 1934 г. в Токио были изданы восемь томов его сочинений. Ср. отзыв о «бойком здравом уме и искусной диалектике» Кавадзи (Всеподданнейший отчет. С. 189) и впечатление В. А. Римского-Корсакова: «Кавадзи — человек лет за пятьдесят от роду, был наружностью посуровей, но и в нем, точно так же как и в Цуцуе, заметен был тот неописываемый air de distinction <дух благовоспитанности — фр.>, который, без сомнения, составляет аристократическую черту всего человечества, а не одной какой-либо нации. Прочие полномочные — их всего было шестеро — и губернаторы имели самые обыкновенные физиономии» (Римский-Корсаков. С. 251). О Кавадзи см. также выше, с. 678—680, примеч. к с. 450—451; Lensen 1955. P. 173—174; Biographical Dictionary of Japan History. New York; Tokyo, 1978. P. 203—204.
С. 456. Третий — очень пожилой человек... — Это Арао Тоса-но-ками Сигэмаса (1801—1861; Тоса — старое название префектуры Кооти на
- 685 -
острове Сикоку), состоявший в 1854—1859 гг. в должности 108-го нагасакского губернатора; в последние годы сёгуната занимался внешнеполитической деятельностью.
С. 456. Четвертый — средних лет: у этого было очень обыкновенное лицо... — Речь идет о Кога Кинъитиро (см. выше, с. 683, примеч. к с. 455).
С. 456—457. Все четверо полномочные были в широких мантиях ~ важность и неподвижность статуи. — Ср. описание В. А. Римского-Корсакова: «Полномочные были одеты в шелковые платья, похожие на ризы католических священников покроем, но без всяких золотых и серебряных украшений. Ткань этих платьев была толстая, шелковая, нечто вроде moire <муара — фр.>, при виде которой потекли бы слюнки у наших барынь, имеющих нужду в парадных платьях для дворцовых выходов. Она стояла стоймя и топорщилась в стороны своей плотностью, будто накрахмаленная, так что человек в подобной одежде занимает вдвое больше места, чем обыкновенный смертный» (Римский-Корсаков. С. 250).
С. 457. Наш знакомый, Овосава Бунго-но ~ Другой губернатор, Мизно Чикого-но... — См. выше, с. 637—638, 647, примеч. к с. 341, 367.
С. 458. ...чиновник ~ бывший чем-то вроде церемониймейстера... — Речь идет о Накамура Тамэя (см. ниже, с. 696, примеч. к с. 477).
С. 459. Это толченый чай ~ он родился на одной горе, о которой подробно говорит Кемпфер. — В «Историю Японии» Э. Кемпфер включил пространное исследование о чае: «Естественная история японского чая; с подробным описанием этого растения, его культуры, роста, приготовления и употребления» (см.: Kaempfer. Vol. 2. Appendix. P. 1—20). Здесь, в частности, рассказано о знаменитом и дорогом чае «Удзи»: «Удзи — небольшой городок, расположенный в районе того же названия, недалеко от морского побережья с одной стороны и города Миако, столицы Империи, с другой <...>. Чай, привезенный из этих мест, считается лучшим в стране. Весь чай, выпиваемый при дворе императора и в императорской семье, выращивается на горе того же названия, что и город, и расположенной в том же районе, которая именно благодаря чаю приобрела особую известность. В обязанности инспектора по чаю при императорском дворе входит наблюдение за этой горой, за посадками чая, сбором и заготовкой листа. Сама гора очень хороша и окружена широким рвом, защищающим ее от людей и животных. Посадки ежедневно подметают и чистят <...>. Когда же приходит время сбора листа, то по меньшей мере в течение двух или трех недель до этого сборщики чая не должны употреблять рыбы и другой нечистой пищи — для чистоты дыхания. Пока продолжается сбор, они обязаны мыться 2—3 раза в день в горячей ванне или реке. И к листьям они не имеют права прикасаться голыми руками, но собирать их в перчатках...» (Ibid. P. 8—9).
С. 460. Через полчаса церемониймейстер пришел звать нас к обеду. Он извинялся, что теснота не позволяет обедать всем вместе... — Ср. описание обеда у В. А. Римского-Корсакова: «Адмирал согласился с тем условием, чтоб полномочные обедали с нами вместе. Церемониймейстер (Накамура по имени) отвечал, что двое старших будут обедать с адмиралом и что охотно бы к столу пригласили бы всех прочих офицеров, но по тесноте комнаты могут пригласить только командира фрегата и секретарей посольства Посьета и Гончарова.
- 686 -
На том и решили, и адмирал с тремя приглашенными снова перешел в аудиенц-зал, а все прочие остались в двух предшествовавших комнатах вместе с баниосами и прочими японскими чиновными, которые во время церемонии приветствия сидели на корточках вдоль стен аудиенц-зала и прочих комнат в величайшем порядке и в нерушимой, немой неподвижности.
Тотчас же принесли каждому из нас по деревянному столику, не покрытому, но весьма чистому, сделанному из белого и красного кедра или соснового дерева. Каждому на столик поставлено было три деревянных под черным лаком подноса на ножках. На каждом подносе было по четыре лакированных же деревянных чашки с кушаньями, покрытых блюдцами из того же материала, каждому между столиками поставлено было по миниатюрному деревянному столику, а на столике — крошечные фарфоровые блюдечки с кусочками соленой дыни и редьки, заменяющих у японцев соль. Вместо хлеба перед каждым ставили еще по одной чашке с круто сваренной рисовой кашей, а вместо ножей и вилок — по паре палочек. Кушанье состояло большею частью из винегрета с сырой и вареной рыбою, приправленной сырой, вареной и маринованной зеленью. Рыба была нарезана тонкими мелкими ломтиками, а зелень была так мелко искрошена, что трудно было разобрать, какая именно она была, но казалось мне, что наиболее приметны морковь и капуста. Ничего не было жареного. Всё вареное или сырое и всё большей частью холодное, кроме двух похлебок, мясной и грибной. Ни в одном кушанье не было никаких масел, жиров или сомнительных приправ, и притом все было так опрятно подано, так аккуратно и щеголевато уложено на блюдце, что невозможно было чем-нибудь брезгать. Особенно понравилась мне сырая, неизвестная мне рыба с белым полупрозрачным мясом, приправленная маринованной капустой.
Словом, я уплел все то, что передо мной было поставлено, и так многие сделали, потому что действительно кушанья были недурны, да и порции японские — оттого ли, что они действительно умеренны в пище, или оттого, что едят понемногу, но часто, — недостаточны для северного европейского желудка» (Римский-Корсаков. С. 251—252). Ср. описание обеда в его же дневнике (Римский-Кор-саков МСб. 1896. № 5. С. 191—192).
С. 460. ...она оказалась перепонкой какой-то улитки ~ это у них и есть символ симпатии... — Это действительно была мелко рубленная сушеная перепонка морского ушка (род моллюска), обычно употреблявшаяся как поздравительное украшение.
С. 463. ...лежала целая жареная рыба ~ но ее никогда не едят...; см. также с. 478: Это красная толстая рыба, называемая steinbrassen по-голландски, по-японски тай — лакомое блюдо у японцев... — Э. Кемпфер сообщает, что рыба эта «почитаема японцами как царь-рыба, как особая эмблема счастья, отчасти оттого, что является священной рыбой японского Нептуна, отчасти оттого, что под водой сверкает множеством красок. Это очень редкая рыба...» (Kaempfer. Vol. 1. P. 135). По словам В. М. Головнина, «stein-brass — название голландское, означающее каменный лещ. Рыба сия большая и толстая. <...> Мясо <...> бело, но грубо, твердо, слоисто и для вкуса неприятно» (Головнин. «Диана». С. 168). «Только к концу обеда, — писал В. А. Римский-Корсаков, — поставили по цельной жареной рыбе из породы бонитов. Этой рыбы никто не ест, но она, по обычаю
- 687 -
японцев, вместе с остатками сластей и других кушаньев отсылается на дом гостю, что и с нами было сделано» (Римский-Корсаков. С. 252). По данным Е. Ф. Корша, эта «простая рыба составляет необходимое блюдо на роскошнейших пирах; никто до нее не дотрагивается, но ее все-таки подают везде, в честь древних японцев, у которых она была главною пищею» (Корш. № 9. С. 13). См. также: Зибольд. Т. 2. С. 19.
С. 463. ...надо выпить саки» ~ оно нам не понравилось. — В. А. Римский-Корсаков замечал: «Вместо холодной воды для питья подавали горячую, и, наконец, обед закончился сакэ (японским вином, добываемым из пшена, цветом и вкусом несколько похожим на сотерн, только с некоторой неприятной горечью). Его подают также подогретым» (Римский-Корсаков. С. 252).
С. 464. ...старика зовут Тсутсуй Хизе-но-ками-сама, второй Кавадзи Сойемон-но-ками ~ «дзио» и «коми» означают равный титул... — О Цуцуи и Кавадзи см. выше, с. 683—684, примеч. к с. 456. В четырехранговой системе, установленной в древней Японии, титул «ками» означал первый, «дзё» — третий ранг. О титуле «ками», соответствовавшем европейскому рыцарскому достоинству, подробно писал Э. Кемпфер (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 153); по словам В. М. Головнина, «ками означает достоинство, получаемое знатными вельможами от духовного императора, которое всегда прикладывается к имени. В Европе, а может быть и в целом свете, нет звания, соответствующего сему японскому достоинству, оно заключает в себе нечто священное» (Головнин. Записки. С. 180).
С. 464. ...третий Алао Тосан-но-ками-сама; четвертого... забыл... — См. выше, с. 684—685, 683, примеч. к с. 456, 455.
С. 464. ...на дне гвоздичная головка — какое варварство... — Гвоздичная головка в чае считается счастливым предзнаменованием, и в данном случае она была положена именно с этим намерением.
С. 464. Деревянное масло — низший сорт оливкового масла, употреблявшийся в простейших осветительных приборах.
С. 464. Потом сказали мы хозяевам, что ~ японцы считаются у нас ~ первыми — по уменью жить, по утонченности нравов и что мы теперь видим это на опыте. — «Я расспрашивал после Гончарова о том, что делалось у них за столом, — писал В. А. Римский-Корсаков, — и он отозвался, что оба полномочных за обедом высказали то, чего можно было от них ожидать по наружности, т. е. любезность, светский такт и умение беседовать. Действительно, то же и мне казалось, когда в другой раз впоследствии я вместе с ними завтракал у адмирала» (Римский-Корсаков. С. 252).
С. 465. ...два вопроса по делу, которое его привело сюда ~ Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. — Е. В. Путятин имел в виду вопросы об установлении торговых отношений и определении межгосударственных границ. По замечанию Кубота, адмирал во время переговоров «говорил добросовестно, вежливо, мягко, разумно и убедительно», однако в эту минуту «так резко возражал, что все японцы были готовы к неприятностям» (Кубота. С. 98, 96). «Варвары хитрые, — писал по этому поводу Кога. — Уже собираясь уходить, они поднимают сложный вопрос, делая вид, что речь идет о незначащих вещах, и только потом понимаешь. Два старика (Цуцуи и Кавадзи. — Ред.) опытные люди; поэтому они могут действовать
- 688 -
соответствующим образом» (Кого. С. 240; см. также: Lensen 1955. P. 46).
С. 465. «Кисел виноград...»... — Намек на басню И. А. Крылова «Лисица и виноград» (1808).
С. 465. А женщины действительно чернозубые ~ чернят их каким-то составом. — Как писал В. М. Головнин, «один из старинных свадебных обрядов у японцев есть тот, что при сговоре чернят невесте зубы крепким составом, сделанным из железных опилок и сока некоего растения, так что после на всю жизнь свою остается она с черными зубами, которые служат вывескою замужней женщины или вдовы» (Головнин. Записки. С. 330). По сведениям К. П. Тунберга (о нем см. выше, с. 591, 640, примеч. к с. 246, 348), средство для чернения зубов — «канни» — состояло из железной крошки, мочи и сакэ (см.: Thunberg. P. 317). Ср. у Ф.-Ф. Зибольда: «...отличительный признак красоты замужней женщины и главный признак, что она замужем, — чернота и блеск ее зубов. Такое странное украшение приобретают они <...> посредством порошка особенного состава»; «Жена чернит себе зубы композицией из угольного порошка и металлической окиси» (Зибольд. Т. 1. С. 134; Т. 2. С. 16). К началу XX в., по свидетельству очевидца, «женщины оставили этот обычай» (см.: Вениаминов И. Г. Религия и христианство в Японии. СПб., 1905. С. 23).
С. 466. На другой день, 1-го января 1854 г. ~ у нас наступил Новый год. — Накануне Кавадзи записал в дневнике: «Кажется, на фрегате празднование. Три мачты, словно бамбук в праздник звезды Ткачихи, украшены множеством разных флагов» (Кавадзи. С. 54).
С. 466. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро: те пробыли всего шесть дней! — О первом (девятидневном) визите М. К. Перри в Эдо см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367. Свидетельства о возникавшем «в алкогольном мире» полном взаимопонимании между сторонами см.: Walworth. P. 129; Lensen 1953. P. 46; также: Кога. С. 401.
С. 466. Давно ли все крайневосточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? — См. выше, с. 633—634, примеч. к с. 333.
С. 466. ...четыре важные японские сановника ~ к нам в гости! Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами! — Ср. также рассказ о «небывалом» событии: Отчет. С. 159; Всеподданнейший отчет. С. 190—191. Это действительно было первое на таком уровне посещение иностранного корабля японцами. Из дневников Кавадзи, Кога, Кубота и Сэндзю видно, что, принимая приглашение, японские полномочные опасались, что «Паллада» снимется с якоря и увезет их за границу. Сэндзю записал, что Кога, готовясь к харакири, заранее наточил свою тупую саблю (см.: Сугитани. С. 15, а также: Lensen 1955. P. 49—50).
С. 466—467. ...объясниться насчет салюта. ~ Они стали просить не палить больше. — См. выше, с. 680, примеч. к с. 451.
С. 467. ...не придут ли англичане? — О заключении англо-японского торгового договора см. выше, с. 642, примеч. к с. 352.
С. 467. ...приехали два чиновника от полномочных... — Это были старшие чиновники из свиты Кавадзи — Мори Иппати и Хасимо-то Тэцусиро.
- 689 -
С. 467. ...у них есть ответ Верховного совета на письмо из России... — Ответное послание Верховного совета было доставлено в Нагасаки 31 декабря.
С. 467—468. Еще Гвальтьери, говоря о японцах, замечает, что наша вежливость у них — невежливость, и наоборот. ~ у нас и мать и дитя моют теплой водой ~ а у них холодной. — В 1583—1590 гг. четверо японских юношей-самураев посетили Лиссабон, Мадрид, Рим и Венецию в качестве посланников к папе Григорию XII от принявших христанство удельных князей острова Кюсю. Итальянский литератор Гвидо Гвалтиери (Gualtieri) опубликовал путевые записки участников этой первой японской христианской миссии в Европу: Relazioni della venuta de gli ambasciatori Giaponesi à Roma, sino alia partita di Lisbona, con una descrittione del lor paese, e costume, e con le accoglienze fatte loro da tutti i principi christiani. Roma, 1585 (переизд.: Venezia, 1586). «Записки» пять раз издавались на латинском языке (в 1585—1599 гг.), вышли также в испанском (Sevilla, 1586), немецком (Dilingen, 1587) и дважды во французском (Lyon, 1585; Paris, 1586) переводах. О японской миссии см.: Вениаминов И. Г. Религия и христианство в Японии. С. 34; Файнберг 1959. С. 34—36 (с указанием имен участников — с. 34); Искендеров. С. 167; Boxer. P. 135, 152; Boscaro A. New Documents on the First Japanese Mission to Europe // Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan. Tokyo, 1970. № 15. P. 45—57; The Cambridge Encyclopedia of Japan / Ed. R. Bowring. Cambridge, 1993. P. 64 и др.
С. 468. Утром 4-го января фрегат принял праздничный вид... — Е. В. Путятин принимал японских полномочных 3 (15) января (см: письмо Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 января (2 февраля) 1854 г. — наст. т., с. 125—127; Отчет. С. 158—159; Всеподданнейший отчет. С. 189—190; Обзор. Т. 1. С. 42). Описание приема 3 (15) января сохранилось в дневнике Кубота Мосуя, отметившего, что русские и японцы были очень веселы и что полномочных угощали главным образом Гончаров и Посьет (см.: Кубота. С. 104—107; ср также: Кавадзи. С. 72). О приеме на фрегате рассказывал и В. А. Римский-Корсаков: «Дня через два по приглашению адмирала приехали полномочные на фрегат с многочисленной свитой. Их угостили при этом обедом, на котором все они мало ели, но порядочно выпили, увлекаясь наиболее сладкими винами, потому что японцы страшные охотники до сладкого» (Римский-Корсаков. С. 253). Согласно его же дневниковой записи, обед на фрегате «далеко не был подан в таком порядке и так щеголевато, как у японцев. Много испортилось дело тем, что, убрав столы по-европейски, поставили на них вазы с конфектами и фруктами. Японцы, думая, что все поставленное на стол должно тотчас же уничтожать, начали прямо брать конфекты, кладя их без разбора на тарелки вместе с хлебом. Впрочем, их должно было утешить вино, которое они пили с сахаром и которое к концу обеда их порядочно развеселило» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 191).
С. 469. Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля ~ служит несомненным выражением дружбы; см. также с. 470: Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношения Японии к России. — Ср. о подарке Кавадзи как «крайнем выражении дружбы» и «выражении крайней приязни» в письме Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 января (2 февраля)
- 690 -
1854 г. — наст. т., с. 126, а также: Отчет. С. 159; Всеподданнейший отчет. С. 190.
С. 469. Японские сабельные клинки, бесспорно, лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. — «Самурайские мечи отличались особой твердостью и упругостью при чрезвычайной остроте и стойкости лезвия. Технология их изготовления была крайне сложной. Чуть ли не миллион тончайших слоев разноуглеродной стали необходимо было прочно соединить между собой, чтобы получить клинок нужного качества. Иной раз на это уходило целых десять лет. Такие клинки не уступали по качеству знаменитым дамасским клинкам и считались лучшими на Дальнем Востоке» (Искендеров. С. 56). Японские клинки экспортировались в Корею, Китай и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии; так, в XVI в. в Китай было вывезено более 100 000 клинков японского производства (см.: Там же. С. 45). О запрете на вывоз клинков сообщал Ф.-Ф. Зибольд (см.: Зибольд. Т. 2. С. 121).
С. 469. Клинки у них испытываются ~ палачом над преступниками. ~ Подаренная адмиралу перерубает ~ три головы. — «На мой глаз, — писал В. А. Римский-Корсаков, — всех ценнее был подарок Кавадзи — превосходная сабля из японского булата. На клинке был штамп, означавший, как нам толковали переводчики, что этой саблей перерублены с одного взмаха три человека. Так японцы пользуются иногда случаями казни преступников, чтобы опробовать известнейшие и лучшие клинки» (Римский-Корсаков. С. 253). В дневниковой записи Римский-Корсаков уточнял, что при испытании клинка преступники кладутся один на другого, и, кроме того, замечал: «Японцы, по-видимому, человеколюбивы, казни у них редки, и, следовательно, подобные пробы должны допускаться только для необыкновенных или, по крайней мере, самых лучших клинков» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 192). Кавадзи записал: «Я велел переводчику сказать, что при испытании этот клинок разом перерубил три туловища, а кости рубил легко, как бахчевые; не надо думать, что это слишком трудно и исполнить невозможно; так как я взмахиваю саблей в два раза тяжелее этой три тысячи раз каждый день, сабля эта мне легка, как былинка. Русские спросили, как испытываются клинки над людьми. Я ответил, что они испытываются над преступниками, что по-японски называется „тамэси”...» (Кавадзи. С. 73—74).
С. 470. ...согласно Нанкинскому трактату ~ Всего десять лет прошло с открытия пяти портов в Китае... — См. выше, с. 669, примеч. к с. 431.
С. 470. ...американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах, миль за восемьдесят от моря; см. также с. 471: В другой раз к этому же консулу пристал губернатор... — См. выше, с. 665, примеч. к с. 414.
С. 470. Католический епископ в Гонконге сказывал... — См. выше, с. 601, примеч. к с. 291.
С. 472. Но для этого надо поступить по-английски ~ начать драку ~ пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом: привезти опиум ~ тоже объявить войну. — Имеются в виду конфликты, послужившие поводом к началу первой «опиумной» войны (о ней см. выше, с. 669, примеч. к с. 431). В марте 1839 г. англичане прекратили торговлю в Кантоне (о нем см. выше, с. 600—601, примеч.
- 691 -
к с. 291) после конфискации китайскими властями у иностранных фирм всех запасов опиума и запрета на его дальнейший ввоз. В июле 1839 г. на полуострове Цзюлун (Коулун) группа английских моряков начала драку с китайцами и ранила несколько человек, один из которых вскоре умер; вина за инцидент английской стороной была возложена на китайцев (см.: Новая история Китая / Отв. ред. С. Л. Тихвинский. М., 1972. С. 102—104).
С. 472. Я никак не думал, чтоб старик приехал. — Имеется в виду Цуцуи, записавший в своем дневнике о приеме на «Палладе»: «Я был тронут до слез тем, что его (Путятина) благовоспитанность сочетается с искренностью» (Кавадзи. С. 75).
С. 473. Музыку они тоже слышали в первый раз... — По поводу музыки Кога записал в дневнике: «Это была музыка варваров. Не могу терпеть ее» (Кога. С. 242).
С. 473. Им показали действие орудиями. ~ попросили поблагодарить людей. — Судя по записям в дневниках Кога и Кавадзи, «действие орудиями» их потрясло. Однако Кавадзи отметил, что «и ружейники, и артиллеристы, по званию очень низкие, носят хлопчатобумажные платья. Притом все они глупы» (Кавадзи. С. 70; Кога. С. 244). См. о реакции японцев в письме Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 января (2 февраля) 1854 г. (наст. т., с. 128).
С. 474. ...ждут мяса, которое едят, как редкость. Отвращения они к нему не имеют ~ а не едят только потому, что не велено, за недостатком скота, который употребляется на работы. — Повествуя о религии синто, В. М. Головнин писал: «Последователи оной не должны ни убивать, ни есть животных, употребляемых в работу или по другим отношениям полезных в домашнем быту, дабы сим не осквернять себя. Например, они не едят говядины, но птиц, оленей, зайцев и даже медведей есть могут...» (Головнин. Записки. С. 311).
С. 474. ...ели баранину, особенно четвертый полномочный. — Имеется в виду Кога, писавший, что русский чай «груб» и «отдает лекарством», а «блюда из рыбы, плохо приготовленные, имели горький вкус. Русские, стараясь обрадовать нас, напротив, огорчили» (Кога. С. 245).
С. 474. ...разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. — Содержание разговора передал Кавадзи: «Их <русских> гостеприимство удивительно в самом деле. Так как я раньше слышал, что иностранцы радуются до слез разговорам о своих женах, я сказал, что не могу забыть или не вспоминать мою жену-красавицу, оспаривающую первое место по красоте во всей столице. Русские очень обрадовались этой теме и рассмеялись. Посол сказал, что его родина находится еще дальше моей, своей жены он не видел гораздо дольше, чем я, и просил меня посочувствовать ему. Цуцуи сказал, что нельзя считать его стариком, и если у него еще родится ребенок, это будет темой для разговора во время нашей следующей встречи. А адмирал ответил, что в России есть пословица: у 50-летних дети родятся редко, у 60-летних не родятся, у 70-летних никогда не родятся, а в 80 люди молодеют, и дети у них родятся особенно часто. Цуцуи сказал, что именно этого и желает. Даже без знания языка мы с ними понимали бы друг друга довольно хорошо, если бы пожили вместе с месяц. Человеческая натура у них совсем такая же, как у нас» (Кавадзи. С. 72, а также: Накамура Ёсикадзу. И. А. Гончаров у японцев. С. 418; Lensen 1955. P. 148). О том
- 692 -
же пишет в своем дневнике Кога: «Кавадзи сказал, что у Цуцуи в прошлом году родилась дочь. Посланник ответил: „В России существует пословица: в пятьдесят и шестьдесят мало детей, в семьдесят — нет вообще, в восемьдесят, напротив того, — много”. Как это верно» (Кога. С. 245; ср.: Lenten 1955. P. 192).
С. 474. Они ~ преданы чувственности ~ прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. — Э. Кемпфер в «Истории Японии» (см. выше, с. 609—610, примеч. к с. 315) лишь вскользь коснулся вопроса, которому уделяли внимание все писавшие о Японии; по его словам, Япония с многочисленными гостиницами, размещенными вдоль всех проезжих дорог, служит «публичным домом Китая», поскольку в Китае известный «вид незаконной торговли» запрещен (Kaempfer. Vol. 2. P. 439). К. П. Тунберг в главе 16 упоминавшейся выше книги (см. выше, с. 591, примеч. к с. 246) поместил подробный рассказ о японских публичных домах (см.: Thunberg. P. 315—316). «Из пороков сластолюбие, кажется, сильнее всех владычествует над японцами, — писал В. М. Головнин — <...> Дома для свободных женщин находятся под защитой законов и имеют свои постановления, правила и преимущества. Содержатели таких домов <...> пользуются такими же правами, как купцы, торгующие позволенным товаром с одобрения правительства...» (Головнин. Записки. С. 304). «Японцы вообще невоздержанны и развратны, — сообщала «Библиотека для чтения», — и вера их, по-видимому, благоприятствует этой наклонности, вместо того чтоб ее обуздывать. Город Нагасаки <...> содержит, при семидесяти тысячах жителей, шестьдесят капищ и семьсот домов разврата» (Япония. С. 12). Ср. замечания в статье Е. Ф. Корша: «...как по большим трактам, так и в городах несметное множество харчевен и особенно чайных домов. <...> Заведения эти, как и гостиницы, не ограничиваются, впрочем, тем назначением, которое принадлежит им по их названию и первобытной цели: все они служат вместе и вертепами явного распутства, пользующегося здесь изумительной для европейца терпимостью...» (Корш. № 10. С. 41).
С. 474—475. Они пробовали с большим любопытством вино ~ но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного ~ собеседники тоже пробовали наши вина. — Кавадзи пишет по этому поводу: «Как алкогольный напиток подано было французское вино. Оно сделано из виноградного сусла. Если даже выпьешь много, опьянеешь мало. Сразу трезвеешь. Не истратить зря такую предназначенную для практического использования вещь, как рис, — это очень интересная выдумка» (Кавадзи. С. 71). Четвертый полномочный, Кога, заметил, что «поэзия, вино, развлечения — все это тоже официальные дела» (Кога. С. 354). По словам Кубота, «и японцы, и русские пили и пьянели без всякого стеснения. Некоторые японцы брали за руки или хлопали по спине русских и шутили. Подали ятатэ и просили что-либо написать. Русские сразу написали. Но совсем невозможно было это прочитать <...>. Путятин тоже был очень рад. Говорил, что после расставания с родиной не было такого теплого приема, и заливался слезами» (Кубота. С. 104, 107). О «ятатэ» см. выше, с. 627, примеч. к с. 327.
С. 475. ...я заметил одну совсем бритую голову, без косички: это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. — Речь идет о Мицукури Гэмпо (1799—1863), одном из выдающихся ученых и врачей
- 693 -
голландской медицинской школы в последние годы правительства сёгуна, авторе более ста книг, основателе Института европейских наук. Он занимался также переводом дипломатических документов и в качестве переводчика участвовал в переговорах с Россией и Америкой, в том числе и в 1854 г. в Симода. В своем дневнике Мицукури упоминает о встрече с русскими, которые звали его «доктором» и «с гордостью показали книгу по медицине, написанную на английском языке»; на борту фрегата он сделал также «рисунок на веере для некоего художника», писавшего пейзажи Нагасаки (см.: Мицукури. С. 382). Как отмечал В. М. Головнин, японцы всех сословий носят на голове «косичку» (см. выше, с. 611—612, примеч. к с. 315) и только духовные лица и «лекари высших степеней» «бреют начисто всю голову» (Головнин. Записки. С. 334). Ср. также свидетельство И. Ф. Крузенштерна: «Японский доктор имеет совсем обритую голову, лекарь же, напротив того, совсем небритую. Все прочие японцы ходят, как выше упомянуто, с полустриженной головою» (Крузенштерн. С. 168). См. о том же: Зибольд. Т. 1. С. 132.
С. 475. На другой день, 5-го января... — В. А. Римский-Корсаков писал об этом: «...адмирала со всеми офицерами пригласили на берег принять подарки от сёгуна, или светского императора, и вместе с тем письмо Городжю (Верховный правительственный совет) к графу Нессельроде. Это было 5 января. Мы съехали в полных мундирах с теми же церемониями, что и в первый раз» (Римский-Корсаков. С. 253).
С. 476. ...что они имеют вручить письмо от Верховного совета. ~ А уж в этом ящике и лежала грамота от Горочью ~ и завернутая в несколько шелковых чехлов. — В грамоте Городзю говорилось об отсрочке на несколько лет открытия страны и установления государственных границ. По этому поводу В. А. Римский-Корсаков замечал: «Оно <письмо> заключало согласие Верховного совета на переговоры и уполномочивало посланных отвечать на все наши пожелания <...>. Принятое <...> от полномочных письмо может иметь со временем место в истории как первый пример, что японцы наконец почувствовали свою слабость, а горделивость их тона в сношениях с иностранцами упала на 99 процентов. Соглашаясь вступить в торговые сношения, они просят не торопиться в требованиях и дать им время хорошенько обдуматься. „Мы видим, — говорят они, — что торговля теперь стала в мире необходимостью и вы — русские, и американцы Соединенных Штатов к нам обращаетесь с одним и тем же желанием. Мы видим, что нам приходится изменить устаревший закон наших предков, но войдите в наше положение и посудите, что нынешнему порядку мы следуем уже более 200 лет и, значит, можем ли решиться отступить от него вдруг, разом. Это такое дело, которое нужно обдумывать не по дням и по числам, а по целым годам”. Из всего этого видно, что хотя наше посольство и имело успех несомненный, но результатов его придется еще долго ждать» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 193). О самой церемонии вручения письма Римский-Корсаков писал: «Потом внесли прекрасно сделанный из соснового дерева сосновый же большой сундук. Из этого сундука достали другой, поменьше, окованный железом, из второго — третий, опять же сосновый, из третьего — четвертый, небольшую шкатулку из какого-то белого как снег дерева, кажется акации, выполированный глаже стали, но лаком не покрытый
- 694 -
и не имевший никакого украшения, кроме тоненького бордюра из серебра. Говорить вам, сколько было изящной простоты и вкуса в этом простом ящике, было бы излишним, и можно было только подивиться тонкости чисто педантической в столярной работе этой вещицы. Из-за одной его крышки стоило его беспрестанно отворять и запирать: легко и гладко подавалась она на внутренние колесики, но вместе с тем так плотно, что едва спай был заметен, когда она была закрыта. Ничего совершеннее я не видывал. В шкатулке этой тщательно уложен был легкий ящичек, обтянутый зеленым штофом, и в нем лежало заветное письмо, написанное по-японски с голландским переводом» (Там же. С. 253—254). С точки зрения японцев, послание Министерства иностранных дел России было «неучтиво», так как написано было «на обыкновенной бумаге и в обыкновенном общеевропейском конверте» (Там же. С. 293). Министерство, как отмечал тот же автор, свою «неучтивость» исправило 25 ноября (7 декабря) 1856 г. при обмене ратификационными грамотами по Симодскому трактату (см. ниже, с. 784, 789, примеч. к с. 731, 734): оно «распорядилось одеть ратификацию как можно великолепнее: пергаментные листки заключены были в богатый бархатный переплет с золотом, разукрашены орлами и гербами; книгу эту уложили в парчовый ящик, парчовый ящик — в другой из сандалового, или розового, дерева, облепленный золоченой резьбою богато, но не скажу, чтоб со вкусом, а этот ящик упаковали в третий, покрытый зеленым лаком с инкрустациями из красного дерева. Вышел порядочный гробик, хотя бы трехлетнему младенцу впору, который два дюжих унтер-офицера с трудом несли на руках. Хорошо, что японцы не видели наших „похорон”, а не то наша процессия могла им показаться не в том свете, в каком мы старались ее снарядить.
Японская ратификация в двух простеньких тетрадках тоже была заключена в ящики — они без того уже не могут, — но только в два, а не в четыре, как прежде, и притом в самые простенькие — оба какого-то белейшего дерева, без лаку, но выстроганные так гладко, как только японцам это доступно. Второй ящик поверх крыши перевязан был лиловой шелковой тесьмой, а внутренний — толстым красивым шелковым шнуром с кистями. Трудно передать вам словами, как была щеголевата и изящна эта простота в сравнении с нашим нелепым великолепием и, что еще хуже для нас, сколько мы усматривали тонкого такта в этом молчаливом ответе, потому что еще прежде Посьет имел неосторожность показать два наружных ящика японским чиновникам и переводчикам, так что, без сомнения, Верховный совет со знанием того, что он делает, изготовил ратификации в таком виде, и можно было несомненно подозревать в этом намек такого рода: что вы, мол, братцы, в азиаты лезете?» (Там же).
С. 476—477. ...его величество сиогун прислал ~ подарки ~ Материя двух цветов, белая и красная, с ткаными узорами... — По словам В. А. Римского-Корсакова, подарки сёгуна состояли «из трехсот мешков риса, нескольких свиней <...> из полусотни кусков белой и красной шелковой ткани вроде штофа и полусотни тюков шелковой ваты — и то и другое, вероятно, на халаты, что и было разделено в должной пропорции на адмирала, Унковского и Посьета. Всем прочим дано было по фарфоровому чайному сервизу: капитанам —
- 695 -
лучшего качества, а офицерам — попроще» (Там же. С. 253). Ср. другое свидетельство: адмиралу было подарено «20 кусков (каждый мерою на халат) шелковой материи и шелковой ваты, а командирам судов по пяти кусков материи и соответственное количество ваты» (Извлечение. С. 331). Ср. перечень подарков, полученных от правительства Японии коммодором Перри (Walworth. P. 263—265).
С. 477. ...шелк у них запрещено вывозить, наравне с металлами. В Японии его мало. Им сырец привозится из Китая, и они выделывают материю для собственного употребления. — О вывозе из Японии в XVI—XVII вв. золота, серебра и главным образом меди см. выше, с. 608—609, примеч. к с. 314; с конца XVIII в. постановлениями правительства экспорт металлов был ограничен (Ф.-Ф. Зибольд сообщал о полном запрете на вывоз серебра и золота; см.: Зибольд. Т. 1. С. 202). Шелк-сырец завозился в Японию из Китая начиная с XII в.; вместе с тем, согласно данным Е. Ф. Корша, «китайцы и корейцы ознакомили Японию с шелководством в начале IV века нашей эры, и с тех пор оно развилось здесь необыкновенно хорошо. Недавно г-н Бонафу представил Парижской Академии наук „Тайную историю разведения шелковых червей”, написанную, в начале нынешнего века, японцем Укаки-Морикуни <...>. <...> В этой любопытной книге коротко и ясно изложены все способы и правила, усвоенные в Японии при разведении шелковых червей и утвержденные вековыми опытами по этой части» (Корш. № 10. С. 52—53; ср.: Зибольд. Т. 2. С. 124). Как писал В. М. Головнин, Япония «шелком чрезвычайно изобилует. Доказательства сему мы имели перед глазами. Матсмай считается у них в числе самых бедных городов, но мы видели множество всякого состояния людей и более женщин в шелковом платье, а особливо по праздникам, когда даже и простые солдаты наряжались в платье, сшитое из богатых шелковых материй» (Головнин. Записки. С. 347). См. также ниже.
С. 477. Лучшие и богатые материи делаются ссыльными на маленькой неприступной скале, к югу от Японии. ~ Сам остров мал и бесплоден. — Эти сведения заимствованы Гончаровым у Э. Кемпфера (см.: Kaempfer. Vol. 1. P. 69—70) или же у Ф.-Ф. Зибольда, цитировавшего Кемпфера: «Гадцидзиозима <...> есть самый южный из островов, находящихся в заведовании Ниппона. По Кемпферу, этот остров, который он называет Фацизио, или Фацизио-Газима, т. е. остров, вышиною в 20 брассов, есть главное место, куда обыкновенно ссылают японских придворных, попавших в опалу, по весьма древнему обычаю; они содержатся на берегу, покрытом утесами изумительной вышины, от которых и остров получил свое название. <...> Кемпфер говорит: „Пока ссыльные живут здесь, они должны жить собственною работою. Они преимущественно вырабатывают материи; и как они вообще очень ловки и изобретательны, то вырабатываемые ими шелковые ткани так превосходны и красивы, что император запретил, под строжайшим наказанием, продавать их иностранцам. Остров не только окружен бурным морем, но даже кажется, что сама природа создала его неприступным: когда доставляют туда съестные припасы, приводят новых заключенных или переменяют гарнизон, надобно поднимать вверх лодку со всем грузом посредством крана и потом спускать ее таким же образом: так берега круты и прямы, что иначе нельзя взобраться на них, — однако ж взобрались же как-нибудь на этот остров,
- 696 -
когда вздумали учредить на нем ссыльные заведения. Во всяком случае, существование этого места, знаменитого своею промышленностию, факт чрезвычайно любопытный”» (Зибольд. Т. 1. С. 70—71; ср.: Там же. Т. 2. С. 123—124, где сообщается о запрете на вывоз шелка). Ссылаясь на тот же источник, Е. Ф. Корш писал: «Шелковые изделия японцев великолепны в своем роде, особенно те из них, которые, по уверению Кемпфера и других, новейших, писателей, приготовляются знатными преступниками, ссылаемыми на лежащий к югу от Ниппона маленький островок Хацидзиосиму. Живя на этом утесистом островке, окруженном такими же другими, ссыльные должны зарабатывать себе пропитание, которое доставляется им из Японии морем. Ткань, выделываемая только для двора и называемая хаци-дзио-кину, состоит вся из шелка диких коконов, водящихся на этом острове. Ткань эта, по словам японской энциклопедии, удивительно прочна и никогда не изменяет своего естественного цвета, но краски никакой не принимает. В Мияко подделывают ее довольно удачно; настоящая же не поступает в продажу, и в лавках никогда ее не найдешь» (Корш. № 10. С. 52).
С. 477. ...что его величество сиогун повелел угостить нас обедом. — «Обед имел только то новое, — сообщал В. А. Римский-Корсаков, — что на нем я в первый раз отведал похлебку из трепангов, или морских улиток, которые так высоко ценятся японцами, китайцами в силу якобы возбуждающих свойств. Никаких таких свойств я не заметил, но нашел ее довольно вкусною» (Римский-Корсаков. С. 254).
С. 477. ...Накамура Тамея, церемониймейстер... — Накамура Тамэя (ум. 1865) — старший чиновник, первый в свите Кавадзи; позднее губернатор Симода (о нем см.: Шиллинг. С. 61—62; Lensen 1955. P. 174).
С. 478. Это красная толстая рыба, называемая steinbrassen по-голландски, по-японски тай — лакомое блюдо у японцев... — См. выше, с. 686—687, примеч. к с. 463.
С. 478. ...наши амфитрионы... — Амфитрион — гостеприимный хозяин; по имени героя греческого мифа.
С. 479. Головнин прав, говоря, что бывшим с ним в плену матросам давали мало есть. — В. М. Головнин (о нем см. выше, с, 625—626, примеч. к с. 326) писал о двух первых месяцах японского плена: «В Хакодате кормили нас отменно дурно, а особливо сначала: обыкновенную нашу пищу составляли: каша из сарачинского пшена, похлебка из простой горячей воды с тертой редькой без всякой приправы, горсточка зеленого луку, мелко накрошенного, или вареных бобов, а иногда вместо луку или бобов кусочка по два соленых огурцов или соленой редьки <...> и раза два в 50 дней дали по половине камбалы с соей на человека» (Головнин. Записки. С. 99). Однако позднее условия жизни пленников значительно изменились (ср.: Там же. С. 151).
С. 479. ...симабарского удельного князя. — См. выше, с. 620, 651, примеч. к с. 321, 374.
С. 479. На другой же день начались и переговоры, и наши постоянные поездки в Нагасаки. ~ четверо из нас: Посъет, Гошкевич, Пещуров и я... — О первом дне переговоров В. А. Римский-Корсаков сделал запись в дневнике 6 января: «В сегодняшнем свидании адмирала присутствовали
- 697 -
только Унковский, Посьет, Гончаров и Пещуров (последний в качестве стенографа). Оно было очень продолжительно: съехав на берег в 11 часов утра, адмирал воротился в 5 час<ов>. Толковали о границе наших владений на Сахалине, ибо Анива, как кажется, занята нами ошибкою, и об Итурупе. Последний, как говорят они, так уже давно в их владении, что они и не думали, чтобы кто-нибудь мог иметь на него притязание» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 194). Ср. его же свидетельство: «Затем начались переговоры, продолжавшиеся до 20 января. Для этого адмирал ежедневно съезжал на берег с Посьетом и Гончаровым уже без свиты, а попросту. То же делали и японские полномочные. Ни я, ни кто-либо из прочих офицеров при этих переговорах не участвовал» (Римский-Корсаков. С. 253).
С. 480. ...место готово, но ~ на таких условиях, что согласиться было невозможно... — По свидетельству В. А. Римского-Корсако-ва место было готово 11 (23) января на следующих условиях: «1) Съезжать на берег не более как на двух шлюпках — и то в сопровождении 12 японских лодок. 2) Шлюпкам, по приближении к берегу, останавливаться и испрашивать разрешение пристать у дежурного баниоса. 3) Пользоваться берегом не долее, как от 8 часов утра до 4-х пополудни» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 195). «На эти условия адмирал, конечно, не согласился, — писал командир шхуны «Восток», — и приказал отвечать баниосу, что если не отведут места, то он не может принять императорского подарка рисом, ибо на транспорте столько крыс, что ему необходимо выгрузиться и крыс вывезти прежде, чем погрузить рис. Не знаю, будет ли такая угроза действенна, но мне кажется, что следовало бы — или сказать баниосу, чтобы они не смели назначать подобных условий, или без всякого позволения взять два-три катера, съехать на берег и войти на отведенное место. Разумеется, японцы не посмели бы остановить нас, и дело устроилось бы как нельзя лучше» (Там же). На совещании 12 (24) января Путятин «с горячностью жаловался» на предложенные ему условия; 14 (26) января полномочные принесли извинения «за неучтивость нагасакских губернаторов» (Там же. С. 195, 196).
С. 480. Не касаюсь предмета нагасакских конференций... — Переговоры продолжались 6 (18), 8 (20), 10 (22), 11 (23), 12 (24), 14 (26) и 16 (28) января 1854 г. В вопросе о границе Кавадзи настаивал на прохождении ее на Сахалине по 50° северной широты, адмирал — на исторических правах России на всю территорию Сахалина; не разрешился и вопрос о Курильских островах. Кавадзи отказался также от открытия японских портов для русских судов. О предмете переговоров в январе 1854 г. подробнее см.: Файнберг 1960. С. 156—159; Кутаков. С. 117—118. См. также: наст. т., с. 121—125.
С. 481. ...Кавадзи хотелось в Едо, к своей супруге, и он торопил переговорами. — Истинная причина спешки заключалась в тактике японской делегации: не давать русскому посольству времени на размышления. Кога записал в дневнике: «Не желая успеха, мы торопим переговоры» (Кога. С. 252).
С. 482. А ему подарили прекрасные столовые астрономические часы... — Эти часы Кавадзи зарисовал в дневнике (см.: Кавадзи. С. 81). Как писал В. А. Римский-Корсаков, «полномочные были одарены от адмирала столовыми часами, зеркалами и тому подобными
- 698 -
изделиями европейскими и русскими, которых запас отпущен от Мин[истерства] иностр[анных] дел еще из Петербурга» (Римский-Корсаков. С. 253).
С. 483. Давно ли еще Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над «подачкой»? — Отсылка к реплике Хлёстовой в «Горе от ума» (д. III, явл. 10).
С. 483. ...опираясь на то, что у них скончался государь, что новый сиогун очень молод... — О смерти сёгуна Иэёси и о его преемнике см. выше, с. 652, примеч. к с. 378—379.
С. 483—484. ...адмирал отдал ему ~ запечатанный пакет, заключавший важные бумаги. ~ Накамура просил адресовать их прямо в Горочью. — Накамура Тамэя посетил фрегат 16 (28) января, доставив адмиралу письмо полномочных, которое «содержало в себе обещание заключить торговый договор через год» (см.: Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 196; см. также: наст. т., с. 124—125). В тот же день Е. В. Путятин отдал Накамуре Тамэя для передачи японским полномочным проект русско-японского договора и объяснительную записку к нему, подчеркнув, что в данный момент он не будет настаивать на разрешении вопроса о торговле, но просит скорее определить границы, чтобы ничто не мешало развитию дружеских отношений. Путятин отказывался от немедленного установления торговых отношений, чтобы ускорить заключение договора и возвращение эскадры в Россию в условиях начавшейся Крымской войны (см. подробнее: Файнберг 1969. С. 83; Накамура. С. 166—167). Однако полномочные отказались подписать проект, и 18 января Накамура вернул его Как писал в дневнике В. А. Римский-Корсаков, адмирал в проекте договора «требовал открытия для русской торговли двух портов (Охосаки и Хакодате) и учреждения там русских факторий. Требование это сделано было не с тою целью, чтобы настаивать на его исполнении, а чтобы, запросив как можно более, выведать по их ответу — до какой степени уполномочены японские сановники. Накамура объявил, что на подписание подобной статьи они решительно не имеют права. Тогда ему погрозили, что суда наши пойдут в Иедо; он отвечал, что как-де угодно, но что с их стороны сделано все. Мы заявили потом, чтоб они приняли проект трактата для передачи в Верховный совет. Накамура начал умолять, чтобы мы этого не требовали, так как члены совета могут подумать, что полномочные, вероятно, много наобещали нам, если мы решаемся вручать такие требования, и просил адмирала представить от себя в совет проект трактата. Уговаривания эти продолжались до 9 часов вечера, и наконец адмирал согласился не настаивать на торговом трактате и ограничиться тем, что потребовать для России тех же прав, какие могут быть предоставлены Японией какой-нибудь другой нации» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 196). Накамура Тамэя убедил Путятина направить две бумаги: в адрес Городзю — проект договора, полномочным — объяснительную записку.
С. 484. ...купленный мною в туннеле под Темзой. — См. об этом выше, с. 548—549, примеч. к с. 38.
С. 485. ...я взял маленький японский словарь Тунберга и разговоры... — Японский словарь помещен в конце книги К. П. Тунберга (см.: Thunberg. P. 451—486). Разговоры — здесь: разговорник.
С. 485. ...сидел в уголку и хикал на все стороны. ~ «Хи!» — отозвался он... — См. выше, с. 624, примеч. к с. 325.
- 699 -
С. 485. Волшебный фонарь — аппарат для воспроизведения на экране в увеличенном виде изображений, сделанных на стекле; другое название — «китайские тени».
С. 486. 20 января нашего стиля ~ потом адмирал стал говорить о делах. — 20 января (1 февраля) 1854 г. состоялось последнее совещание. Январские приемы у японцев и прием японцев на фрегате подробно описаны в письме Е. В. Путятина к Л. Г. Сенявину от 21 января (2 февраля) 1854 г. (см.: наст. т., с. 125—130).
С. 487. ...и последние требованные адмиралом бумаги будут готовы. — Имеется в виду послание японских полномочных к Е. В. Путятину от 22 января (3 февраля) 1854 г., содержавшее обещание предоставить России в дальнейшем права наибольшего благоприятствования в торговле; см. подробнее: Файнберг 1969. С. 83; Кутаков. С. 118.
С. 487. Вы, конечно, знаете из газет, что японцы открыли три порта для американцев. — Порты Нагасаки, Симода и Хакодате были открыты для американцев по Канагавскому договору, подписанному 19 (31) марта 1854 г. (см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367). В январе 1854 г. информация об условиях договора едва ли могла появиться в прессе.
С. 488. За обедом я взял на минуту веер из рук Кавадзи ~ сказал, что благодарит и принимает мой подарок. — В дневнике Кавадзи описан этот эпизод: «Во время обеда, когда захотелось общаться, мы, переглянувшись друг с другом, позвали переводчика. А так словно собрание немых людей. Однако о еде и питье, о человеческой натуре могли объясняться и жестами. <...> „Тактик” (так японцы называли Гончарова. — Ред.) увидел мой веер и похвалил его. Тогда я подал ему этот веер, и он через переводчика стал благодарить меня за столь драгоценный подарок, которого еще минуту назад касались мои руки. Затем, пошарив в кармане, он вытащил свои часы, снял с них цепочку и подарил ее мне. Я был вынужден принять ее, поскольку, как я ни отказывался, он и слушать ничего не хотел. Потом он взял мои часы, бедности которых я очень стыдился, и оснастил их цепочкой. Увидев это, посол заглянул в мои часы, перевел стрелку немного, открыл крышку, поглядел хорошенько и вернул их мне. Немного спустя посол сказал, что мне необходимы часы, соответствующие цепочке, и подарил мне очень тонкие часы, помещенные в черепаховой шкатулке. (Это событие похоже на экспромт, но не так в самом деле. <...> Вернувшись домой, я нашел в шкатулке этикетку, на которой были написаны моя фамилия и имя. Заранее договорившись между собой, должно быть, они так распорядились. Надо быть осторожным, когда общаешься с этими варварами)» (Кавадзи. С. 98—99; см. также: Накамура Ёсикадзу. И. А. Гончаров у японцев. С. 419)
С. 489. В субботу мы были у них. — Т. е. 23 января (4 февраля) 1854 г., в здании Ниси.
С. 490. Губернаторам послали по куску шелковой материи, они отдарили, уж не знаю чем... — Среди подарков губернаторам были также стихотворения В. Скотта (в оригинале), немецко-русский и русско-немецкий словари, две книги по русской грамматике, иллюстрированные книги по паровым двигателям и по судостроительной технике, книга по законам перспективы (см.: Фос. С. 78—79). Гончаров получил в подарок 2 тана (около 21 м) полосатого шелкового
- 700 -
крепа (см.: Кавадзи. С. 104). Ср. перечень подарков, врученных японцам от имени правительства Соединенных Штатов коммодором Перри (Walworth. P. 262—263).
С. 490—491. Прощальный обед у полномочных был полный, хороший. ~ Напрасно Кавадзи прищуривал глаза, закусывал губы... — Кавадзи передает некоторые подробности этого обеда: «Русские, видимо, привыкли к японскому сакэ. Они выпили одно или два „го” (т. е. 0.18 л. — Ред.) сакэ. Умелые русские пользуются палочками и едят по три чашки риса. <...> Когда мы предложили еще одну чашку риса или чашечку сакэ, русский переводчик сказал, что японцы будут смеяться над прожорливостью русских. „Тактика” <Гончарова> можно назвать шутником и острословом: он казался немного пьяным и жестикулировал, показывая, что совсем сыт: сначала поднял руку к горлу, потом к голове, а затем совсем высоко и кивнул головой. (Это означало, что он сыт не только по горло, но по голову, не только по голову, а больше, как будто навалили над головой.) Все дружно расхохотались <...>. Русские очень смягчились и попросили, чтобы мы с Цуцуи принимали их во время их следующего визита в Японию. <...> Попрощавшись с нагасакскими губернаторами и чиновниками, русские ушли. (В частности, губернатору Осава они сказали, что если бы они не приехали в Нагасаки, его мог бы заменить другой губернатор. Они понимают серьезные затруднения, которые испытывал губернатор во время их пребывания в Нагасаки. Ничего не поделаешь с приказанием государя и долгом подданного. Они чувствуют себя виноватыми в том, что не только Осава, но и его жена и родственники были вынуждены долго ждать встречи, и просили передать им привет. Они также попросили прощения у нагасакских губернаторов за то, что говорили им малоприятные вещи, но это им предписывал служебный долг. И попросили не поминать их лихом. Какие комплименты они произносят! А в глубине души какая злоба! Это нестерпимо...)» (Кавадзи. С. 103—104; см. также: Накамура Ёсикадзу. И. А. Гончаров у японцев. С. 419). Позднее, уже после симодской трагедии (о ней см. ниже, с. 785—794, примеч. к с. 732—737), в дневнике Кавадзи появится отзыв об адмирале Е. В. Путятине как об «истинном герое» (см.: Lensen 1955. P. 149—150).
С. 491. Адмирал не хотел ~ держать их в страхе: он предполагал объявить им, что мы воротимся не прежде весны ~ им послали объявить об этом, когда мы уже снимались с якоря. — Русская делегация в этом послании заявляла, что государственная граница на Сахалине пройдет далеко к югу от 50° с. ш., что японская делегация не обладала достаточной компетенцией для разрешения всех вопросов и что русская эскадра вновь прибудет в Японию (сроки не оговаривались).
С. 491. ...24-го января покатили по широкому раздолью на юг. Шкуна ушла еще прежде... — Русская эскадра покинула Нагасакский рейд 24 января (5 февраля); шхуна «Восток» была направлена адмиралом в Шанхай с донесениями и «за известиями о положении дел в Европе» 21 января (2 февраля) (см.: Отчет. С. 160; Всеподданнейший отчет. С. 191; Обзор. Т. 1. С. 21, 43, 56; Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 197).
- 701 -
IV
ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА
С. 492. Ликейские острова. — Имеется в виду архипелаг между островом Кюсю и Тайванем (ныне — Рюкю (Нансей); общая протяженность 1200 км). Состоит из шести групп островов, крупнейший из которых Окинава (во времена Гончарова — Большой Лю-Чу). В 1881 г. архипелаг официально присоединен к Японии в качестве отдельной префектуры с административным центром в г. Наха (см. ниже, с. 704, примеч. к с. 497). Ср. замечание спутника Гончарова: «Из Японии мы пошли на Ликейские острова, или Острова Лу-Чу, — средняя группа из расположенных между Япониею и Филиппинскими островами; население — смесь японцев и китайцев. Патриархальная жизнь и мирные нравы. Остров Большой Лу-Чу — огромнейший сад с селами и городом» (Посьет ОЗ. № 4. С. 123).
С. 492. Я всё время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую... — Гончаров обращается к Н. А. Майкову. О нем см. выше, с. 558, примеч. к с. 49; ср.: «О Вас, друг мой Николай Аполлонович, думаю часто <...> всё не умею вообразить себе горячего, поглощенного искусством художника иначе, как в Вашем лице, — так и вижу Вашу мастерскую, Вас, Ваши тусклые, замасленные платья, вижу темноту и как Вы, закопавшись сами в розовый халат, сидите задумчиво...» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 июля (1 августа) 1860 г.).
С. 493. ...а тут одна только карта и есть порядочная — Бичи. — О Ф. Бичи см. выше, с. 605, примеч. к с. 302. Возможно, имеется в виду карта, опубликованная в книге: Beechey.
С. 494. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. — Морская вода в районе Ликейских островов обладает повышенным содержанием соли. Добыча соли из морской воды была одним из традиционных ликейских промыслов. В книге Б. Холла (о нем см. ниже) технология добычи описывается следующим образом: «У самого моря расположены обширные площадки, поверхность которых тщательно утрамбована и засыпана тонким слоем песка. Песок выравнивается граблями, скребками и т. п. В самую жару мужчины бочками носят морскую воду и небольшими ковшами расплескивают ее на этих площадках. Вода под воздействием жаркого солнца испаряется, и оставшуюся соль вместе с песком собирают в специальные каменные сосуды <...>. В наполненный сосуд вновь заливают морскую воду, которая впитывает соль и вытекает из придонных отверстий в виде насыщенного раствора. Для получения конечного продукта раствор кипятят...» (Hall. P. 220). В отчете экспедиции М. К. Перри помещен рисунок, изображающий все стадии добычи соли и полностью соответствующий описанию Холла (см.: Perry. Vol. 1. P. 362—363).
С. 494. Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.)... — Бэзил Холл (Hall; 1788—1844) — английский мореплаватель и писатель. В 1816 г. был назначен капитаном десятипушечного брига «Лира», который сопровождал фрегат «Альцест» с английским посольством в Китай. Пока шли переговоры, Холл исследовал побережье Китая, Кореи и Лю-Чу. Этой экспедиции посвящена книга: Hall. В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 13 (25) марта 1854 г.
- 702 -
Гончаров сообщал: «Я много читал об этих островах, о наивности жителей, о их гостеприимстве, смирении, кротости, патриархальном образе жизни и прочих добродетелях золотого века и считал всё это за шутку первого посетившего их Базиля Галля. Но, к удивлению моему, я нашел, что картина его этой брошенной среди океана идиллии далеко не полна. Представьте, что всё так, как он пишет, по крайней мере наружно. Действительно — это ряд восхитительных долин, холмов, журчащих ручейков под темным сводом прекрасных разнообразных деревьев. Везде обработанные поля, труд и довольство. На берегу нас приветствовали какие-то длиннобородые старцы, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами. Черт знает что такое: вспомнишь не то Феокрита, не то Гомера, не то русскую сказку о стране, где текут реки меду и молока. А здесь — лучше меду — сахарный тростник, молоко из кокосов, бананы и т. п. Я дополнил, как умел, картину Базиля Галля, записал, что видел, да, боюсь, не поверят».
С. 494. ...он в числе первых посетил Лакейские острова... — В действительности первым европейцем, посетившим Ликейские острова еще в августе 1771 г., был известный авантюрист Бениовский, бежавший из камчатской ссылки. Подробнее об этом см.: Benyowski M. A. de. Voyages et Mémoires. Paris, 1791. Т. 2. P. 74. В декабре 1796 г. капитан Британского королевского флота Вильям Роберт Броутон (о нем см. ниже, с. 722, примеч. к с. 612) на шлюпе «Провидэнс» также побывал на Ликейских островах (см.: Broughton W. R. A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean: In which the Coast of Asia <...> have been examined and surveyed: Performed in His Majesty’s Sloop «Providence», and her Tender, in the Years 1795, 1796, 1797, 1798. London, 1804. Vol. 1. P. 147—160).
С. 494. ...взгляните на приложенную к книге картинку... — Гончаров описывает далее гравюру В. Хавелла «Napakiang», сделанную по рисунку Б. Холла (см.: Hall. P. 76—77).
С. 494. Всё будто размерено ~ как на декорации или на картинах Ватто. — Жан-Антуан Ватто (Watteau; 1684—1721) — французский художник, гравер, орнаменталист; создатель жанра «галантных празднеств». Фоном «галантной» сцене служил пейзаж в манере рококо.
С. 494. Читаете, что люди, лошади, быки — здесь карлики... — Ср.: «Лошади, как и люди, миниатюрны...»; «Основные животные, замеченные нами на Лю-Чу, — волы, лошади, овцы, козы, свиньи и кошки — все чрезвычайно миниатюрные <...> лошади так малы, что у сидящего на них высокого человека ноги достают до земли; все эти животные, должно быть, высоко ценятся в Японии, поскольку обычно составляют часть ликейской дани японцам» (Beechey. P. 157, 207). Б. Холл сообщает, что коровы — «маленькой черной породы» (Hall. P. 217).
С. 494. Люди добродетельны ~ ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. — Книга Б. Холла действительно изобилует описаниями ликейских добродетелей и хороших манер. Ср.: «Никогда не встречали мы людей, настроенных так дружественно. Едва они причалили к нашему кораблю, один тут же подал кувшин с водой, а другой — корзину с овощами. И все это — без малейшего намека на возможность какой-либо платы.
- 704 -
Манеры их были исполнены благородства и почтительности; в нашем присутствии они всегда обнажали головы, во время разговора постоянно кланялись; когда мы угостили их ромом, они попробовали его, только поклонившись по очереди всем присутствовавшим» (Hall. P. 61—62); «...выражение лиц у них сладостное и смышленое <...>. В обращении они скромны, вежливы, застенчивы и почтительны, а при более близком знакомстве оказываются в высшей степени интересными и дружелюбными людьми» (Ibid. P. 71). См., кроме того: Ibid. P. 68, 94—95, 106—107, 124, 130. Другие путешественники, посещавшие острова, считали, что Холл сильно преувеличил достоинства местных жителей. Скептически оценивалось сочинение Холла коммодором М. К. Перри: «Либо капитан Холл ошибался, либо национальные черты изменились со времени его визита. Он изобразил их не ведающими оружия, денег, послушными и честными, скрупулезно исполняющими все законные установления, любящими друг друга и совершенно неспособными причинить кому-либо малейший вред. Офицеры эскадры отправлялись на остров в надежде лично засвидетельствовать все эти замечательные черты, но <...> постепенно убеждались в том, что человеческая природа на Лю-Чу та же самая, что и везде» (Perry. Vol. 1. P. 185).
С. 495. Что это? Где мы? ~ в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?; см. также с. 540: ...какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. — Феокрит (1-я пол. III в. до н. э.) — эллинистический поэт, создатель жанра «буколической поэзии». В России интерес к его идиллиям существовал в период сентиментализма. Произведения Феокрита могли быть известны Гончарову по переводам И. И. Мартынова, А. М. Кутузова, А. Х. Востокова, А. Ф. Мерзлякова, Н. И. Гнедича.
С. 495. ...поверишь и мадам Дезульер и Геснеру с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках». — Антуанетт Дезульер (Deshoulières; 1638—1694) — французская писательница, автор идиллий «Овечки», «Ручей», «Цветы» и др. Некоторые из них вышли в русском переводе: Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым. М., 1807. Саломон Геснер (Gessner; 1730—1788) — швейцарский немецкоязычный писатель, поэт и художник. В переводе идиллии Геснера могли быть известны Гончарову по изданиям: Идиллии и пастушьи поэмы господина Геснера / Переведены с подлинника Василием Левшиным. М., 1787; Поли. собр. соч. г-на Геснера / Пер. с нем. И. Тимковского. М., 1802. Ч. 1. Гончаров перечисляет распространенные «идиллические» имена (ср. названия идиллий Геснера: «К Дафне», «Филлида и Хлоя», «Дафна и Хлоя», «Меналк и Алексис»). Одна из идиллий Геснера упоминается в «Обыкновенной истории» (см.: наст. изд., т. 1, с. 364, 778).
С. 495. «Пойдемте в столицу ~ в Чую или Чуди (Tshudi, Tshue — по-китайски Шоу-ли, главное место, но жители произносят Шули)... — Шули или Шури — в 1429—1881 гг. столица Лю-Чу, резиденция ликейского короля; 18 июня 1881 г. столица перенесена в г. Наха (см. ниже, с. 704, примеч. к с. 497). С 1954 г. Шури — район г. Наха (см.: Большая энциклопедия японских географических названий: В 49 т. Токио, 1986. Т. 47: Префектура Окинава. С. 402—406. На яп. яз.). Особенности ликейского произношения
- 704 -
фиксирует также Ф. Бичи: «Шули лючуанцы произносят как Шуди, так же как Лю-Чу — Ду-Чу» (Beechey. P. 204—205).
С. 496. ...каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании... — Имеется в виду экспедиция Б. Холла в 1816 г. См. также выше, с. 701—702, примеч. к с. 494.
С. 496. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. — Источник этих сведений — книга Б. Холла: «Об их литературе мы смогли получить крайне скудные сведения; говорят, что у них есть всего несколько книг на родном языке...» (Hall. P. 208). «Мы не видели здесь никакого оружия, и туземцы неоднократно говорили, что его здесь нет. То, как они вели себя при выстреле из мушкета, доказывает их полное незнание огнестрельного оружия» (Ibid. P. 209). Другие путешественники утверждали, что ликейцам известно огнестрельное оружие (ср.: Perry. Vol. I. P. 186).
С. 497. Американцы, или люди Соединенных Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда... — Так называли американцев не только японцы. «Люди Соединенных Штатов» — вероятно, калька официального названия американцев: «citizens of the United States», употреблявшегося в том числе и в договорах экспедиции Перри. Американские корабли, многократно заходившие на Лю-Чу в 1853—1854 гг., покинули порт Наха 26 января (7 февраля) 1854 г. (см.: Perry. Vol. 1. P. 371, а также: Всеподданнейший отчет. С. 191).
С. 497. ...коммодор Перри... — О нем см. выше, с. 567—568, примеч. к с. 106.
С. 497. В Напу, или в Напа-Хиян: вон он!... — Напакианг (ныне — Наха) — с XIV в. главный порт государства Лю-Чу. Первое упоминание в европейской литературе об этом городе встречается в записках французского миссионера Антуана Гобила (Gaubil; 1689—1759), прибывшего в Китай в 1723 г. (см.: Gaubil A. Memoires sur les îles que les Chinois appelent îles de Lieou-Kieou // Lettres édifiantes et curieuses. Paris, 1781. Vol. 23. P. 520—560).
С. 497. ...какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. — Речь идет о соевом твороге «тофу», традиционном японском и ликейском блюде; употребляется с соевым соусом, в качестве приварка в мясном супе, а также обжаренным в масле (см.: Ёсихару Хэсики, Эхара Ёсимори. Одежда и пища Окинавы и Амами. Токио, 1974. С. 98—100. На яп. яз.).
С. 497. Боже мой, какое безобразие! ~ прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев, или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок. — Гончаров мог видеть только женщин из низших социальных слоев, так как дамы из высшего общества в это время не показывались даже родственникам. Впрочем, его наблюдения несколько расходятся со свидетельствами других путешественников: «Женщины из низших слоев общества, которых мы видели на Лю-Чу, — не самые привлекательные представительницы своего пола, но они ничуть не хуже мужчин, а некоторые — очень милы, вопреки утверждению Ан-я (ликейского чиновника. — Ред.), что ликейские женщины — безобразны» (Beechey. P. 166).
С. 497. Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы... — Участник экспедиции М. К. Перри заметил, что дорога в Шури
- 705 -
«восхитительна и ничем не уступает макадамовым мостовым в Англии» (Perry. Vol. 1. P. 181).
С. 500. ...один из оставшихся американских офицеров, кажется методист... — Т. е. приверженец методизма — одного из направлений протестантизма, возникшего в XVIII в. в Англии и получившего распространение в США, Канаде и других странах.
С. 500. ...широкие ворота с фронтоном в китайском вкусе, с китайской же надписью. «Что там написано? прочтите» ~ «Не вижу, высоко»... — Изображение ворот см.: Perry. Vol. 1. P. 217. Ворота были трехарочные, причем через центральную арку могли проходить только знатные люди. Переводчик при коммодоре Перри, Вильяме, истолковал надпись на фронтоне как «Place of authority» («Местоположение власти») (Ibid. P. 216). Другой участник экспедиции Перри сообщает, что золоченая китайская надпись над центральной аркой гласила: «Это маленький остров, но здесь соблюдают приличия. Знатные люди проходят через центральный вход, остальные — через боковые» (цит. по: Walworth. P. 51); вероятно, в данном случае изложено толкование надписи. Согласно японским источникам, текст надписи: «Шурэй но куни» («Страна соблюдения приличий») — имеет историческое происхождение: так назвал ликейское государство в 1580 г. китайский император. Подробнее об этой надписи см.: Ямасато Эикити. Рассказ об истории Окинавы. Токио, 1967. С. 140—143. На яп. яз.; Энциклопедия Окинавы. Т. 2. С. 388—397. Некоторая разноречивость сведений, возможно, объясняется тем, что в разное время на одних и тех же воротах помещались разные надписи, о чем сообщает более поздний источник: «Ворота <...> „Ю-рей-мон” деревянные и служили главным образом триумфальными арками для приема китайских послов, ежегодно приезжавших к лиукейскому королю от богдыхана для получения податей и подарков. Потому на <...> воротах обычно была надпись „Тай-кен” — „В ожидании мудреца”, но перед приездом почетных гостей ее заменяли таблицею, на которой были начертаны золотом иероглифы „Ю-рей-но-куни” — „Страна, соблюдающая церемонии”, т. е. не какая-нибудь дикая, а причастная к великой Поднебесной империи» (Шмидт П. Ю. На островах Лиу-Киу // Природа и люди. 1929. Кн. 4. С. 48).
С. 500. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. — У ворот стояли изваяния львов (см.: Энциклопедия Окинавы. Т. 2. С. 388—397). Эти сведения подтверждаются и русским источником: «Третьи ворота „Кван-квай-мон” — „Ворота для приема”, непосредственно в каменной стене с двумя каменными львами китайского фасона по бокам. Они запирались на ночь в целях охраны, и наверху в башне караулили часовые» (Шмидт П. Ю. На островах Лиу-Киу. С. 48).
С. 500. ...всё окаменело, точно в волшебной сказке... — См. выше, с. 568, примеч. к с. 107.
С. 501. Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной ~ что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее... — Мысль о неравномерном историческом развитии народов была воспринята Гончаровым из самых различных источников. Так, у неоднократно упоминавшегося писателем С. Билля читаем: «Карус уподобляет китайцев известным в физиологии созданиям с задержками в развитии, и едва
- 706 -
ли возможно было бы найти более меткий образ. Вместо того чтобы созреть до гармонического целого, они остановились в своем духовном развитии на половине пути; их не коснулось дуновение мысли в ее высоте и творческой силе, божественное в человеческой природе их не проникает» (Bille. S. 76). См. также выше, с. 499—502 и ниже, с. 739, примеч. к с. 602.
С. 502. Представьте пруд, вроде Марли... — Имеется в виду Большой пруд марлинского ансамбля в Петергофе (прямоугольный водоем перед восточным фасадом дворца Марли). Садово-архитектурный ансамбль Марли, задуманный Петром I под влиянием личных впечатлений от посещения резиденции Марли под Парижем, был построен в 1720—1724 гг.
С. 503. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах ~ Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. — Судя по описанию, Гончаров посетил Святой Мавзолей Шури (Мавзолей Конфуция), построенный в 1837 г. (см.: Энциклопедия Окинавы. Т. 2. С. 398).
С. 503. ...перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. — Регентом островов в 1852—1860 гг. был Оодзато одзи (букв.: принц Оодзато; собств. имя: Оодзато Тёкё), дядя малолетнего короля Сё Тая (см.: Энциклопедия Окинавы. Т. 1. С. 388). О малолетнем короле см. ниже, с. 707, примеч. к с. 504.
С. 503. Ликейские острова управляются королем. — Объединение трех ранних государств Тюдзан, Нандзан, Хокудзан, существовавших на архипелаге с середины XIV в., под политической властью тюдзанского правителя Сё Хаси произошло в 1429 г. (первое родословие Сё-си). В 1469 г. Канамару (чиновник правительства Сё-си, возглавивший военный переворот) узурпировал власть. Провозгласив себя королем Сё Эн, Канамару основал новую династию (второе родословие Сё-си), продержавшуюся у власти до введения протектората Японии.
С. 503. Около трехсот лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского... — Имеется в виду Симадзу Иэхиса (1576—1638), восемнадцатый князь из рода Симадзу, владетель земли Сатсума. Военный поход японцев на Лю-Чу состоялся в 1592 г. в связи с Имджинской войной (см. ниже, с. 746—747, примеч. к с. 621—622). В 1609 г., собираясь импортировать иностранные товары через Лю-Чу, Симадзу Иэхису вновь отправил на архипелаг военную экспедицию, в результате которой остров Амами-ошима, отторгнутый от Ликейского королевства, вошел в состав Сатсума-кэн (см.: Синдзато Кэидзи, Таминато Томоаки, Киндзё Сэитоку. История префектуры Окинава. Токио, 1972. С. 74—93. На яп. яз.). Еще в 1920-е гг. туристам демонстрировалась могила полководца, завоевавшего Лю-Чу: «...мы незаметно дошли до соседней деревушки Ураками <...> посмотреть местную достопримечательность, могилу японского героя Таира Аймори <...>) это был японский полководец, завоевавший Амами-ошиму <...>. Тут же находилась и огромная четырехсотлетняя сосна, которую будто бы посадил сам Таира» (Шмидт П. Ю. На островах Лиу-Киу. С. 32).
С. 504. Ликейский король, в начале царствования, отправляется обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно. — После
- 707 -
завоевания островов Сатсумским князем была установлена традиция, в соответствии с которой каждый новый правитель Лю-Чу, одетый в китайское платье, должен был являться в столицу княжества Сатсума и в Эдо. Сведения об этом Гончаров, вероятно, получил от Б.-Ж. Беттельгейма (см.: Всеподданнейший отчет. С. 191).
С. 504. Нынешнему королю всего двенадцать лет. — Имеется в виду Сё Тай о (1843—1901), последний король островов, правивший в 1848—1881 гг. (см.: Большой биографический словарь японцев: В 6 т. Токио, 1937. Т. 3. С. 382. На яп. яз.; Большая энциклопедия японской истории: В 15 т. Токио, 1986. Т. 7. С. 555—556. На яп. яз.).
С. 504. Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. — Вассальное положение Лю-Чу по отношению к Китаю было признано в 1372 г., оно в основном касалось торговых отношений, самостоятельность Ликейского королевства во внутренней и внешней политике сохранялась (см.: Синдзато Кэидзи, Таминато Томоаки, Киндзё Сэитоку. История префектуры Окинава. С. 12—15, 42—44, 62—65). Ср. также с. 735, примеч. к с. 594—595. Датировка китайского «десанта» в Японию, почерпнутая, по-видимому, из книги Ф.-Ф. Зибольда (Зибольд. Т. 2. С. 260), ошибочна: в XVII в. не было китайских военных экспедиций в Японию. Описываемые Гончаровым события относятся к XIII в.; имеются в виду морские походы 1274 и 1281 гг. хана Хубилая (с 1280 г. — император Юань, объединивший под своей властью Монголию, Маньчжурию, Китай). В 1274 г. корабли, направленные Хубилаем, захватили японские острова Цусима и Ики и готовились высадить десант на остров Кюсю, но гибель монгольского главнокомандующего и тайфун заставили нападавших вернуться в Китай. В 1281 г. на Японию двинулось два флота: из Кореи и от побережья Южного Китая. Страшный тайфун, потопивший значительную часть кораблей, вновь остановил монгольскую экспансию в Японию. «Избавление» же ликейцев от китайской зависимости с этими событиями не связано и произошло только в 1875 г., когда японское правительство заставило Лю-Чу прекратить торговлю с Китаем (см.: Синдзато Кэидзи, Таминато Томоаки, Киндзё Сэитоку. История префектуры Окинава. С. 152—157).
С. 504. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. — Имеются в виду знаки каны, используемые в смешанной системе письма, где корень слова записывается китайским иероглифом, а грамматические элементы (суффиксы, окончания) — каной. Кана — общее название для слоговых азбук, созданных в Японии на базе китайской иероглифики. Уже в VIII в. некоторые иероглифы употреблялись как фонетические знаки, а в IX в. из упрощенных иероглифов возникли знаки каны. Подробное описание японских слоговых азбук содержалось в книге Ф.-Ф. Зибольда (см.: Зибольд. Т. 2. С. 86—93).
С. 504. Гошкевич и отец Аввакум отыскали между ликейцами одного знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине... — Вероятно, имеется в виду переводчик с китайского и английского языков Итарасики Тётю (1818—1862).
С. 505. Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от китайцев, ни от корейцев. — «Обитатели Лю-Чу, — сообщает
- 708 -
Ф. Бичи, — вообще очень ревностно относятся к древности своей нации. Они ведут свое происхождение от древнейших прародителей Омо-мей-кейу <...>. Их старший сын по имени Тьен-сун (внук небес) был первым королем Лю-Чу. От него ведут свой род все последующие короли, знать произошла от второго сына, народ — от младшего» (Beechey. P. 212).
С. 505. Язык у них ~ сродни японскому и составляет, кажется, его идиом. — Идиом (фр. idiome) — местное наречие, говор. Ср.: «Их простонародный язык очень отличается от китайского и намного более схож с японским. Наблюдение Клапрота <...> свидетельствовавшего, что язык Лю-Чу — диалект японского с солидной примесью китайского, видимо, абсолютно справедливо» (Beechey. P. 185).
С. 505. ...забор шел лабиринтом и был не один ~ и мы очутились в маленьком садике... — Ср. описание планировки улиц у другого путешественника: «...тропинка ведет путешественника в небольшой лес. Войдя туда, чрез арку, сплетенную из древесных ветвей, видишь себя в лабиринте, где тысячи дорожек и нет выхода. Есть небольшие живые калитки; отоприте одну из них, и вы увидите двор с птицами и дом и все принадлежности фермы. <...> Путешественник думает, что находится в пустыне, а в самом деле окружен большим, но невидимым селом» (Зибольд. Т. 2. С. 264).
С. 506. ...английский миссионер Беттельгейм ~ Восемь лет на Лю-Чу — это подвиг истинно христианский! — Бернар Жан Беттельгейм (Bettelheim; 1811—1870) — протестантский миссионер, английский подданный, родился в Венгрии. Находился на Лю-Чу в 1846—1854 гг. по заданию миссионерской организации «Lew Chew Naval Mission». М. К. Перри, которому Беттельгейм помогал в качестве переводчика, характеризовал его как человека разносторонне образованного и преданного долгу (см.: Perry. Vol. 1. P. 258—259).
С. 507. Странствуешь точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей, которые выходили путникам навстречу, угощали... — Видимо, Гончаров имеет в виду следующие стихи в третьей книге «Одиссеи» Гомера «В Пилосе»: «Все, иноземцев увидя, пошли к ним навстречу и, руки / Им подавая, просили их сесть дружелюбно с народом. / Первый их встретивший, Несторов сын, Пизистрат благородный, / Ласково за руки взявши обоих, на бреге песчаном / Место на мягких разостланных кожах занять пригласил их...» (III, 34—38). Гостеприимная встреча путников описывается и в книге четвертой «В Лакедемоне», но в обоих случаях цари встречают не Одиссея (Улисса), а его сына, Телемака.
С. 507. ...как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца. — Имеется в виду один из распространенных анекдотов о Диогене Синопском (404—323 до н. э.); см., например, в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха: «Собравшись на Истме и постановив вместе с Александром идти войной на персов, греки провозгласили его своим вождем. В связи с этим многие государственные мужи и философы приходили к царю и выражали свою радость. Александр предполагал, что так же поступит и Диоген из Синопы <...>. Однако Диоген, нимало не заботясь об Александре, спокойно проводил время в Крайни, и царь отправился к нему сам. Диоген лежал и грелся на солнце. Слегка поднявшись при виде такого множества
- 709 -
приближающихся к нему людей, философ пристально посмотрел на Александра. Поздоровавшись, царь спросил Диогена, нет ли у него какой-нибудь просьбы: „Отступи чуть в сторону, — ответил тот, — не заслоняй мне солнца”. Говорят, что слова Диогена произвели на Александра огромное впечатление <...>. На обратном пути он сказал своим спутникам, шутившим и насмехавшимся над философом: „Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном”» (Александр, XIV). О Диогене см. также: наст. изд., т. 1, с. 795, примеч. к с. 487.
С. 508—509. Несколько лет назад здесь поселились два католические монаха. ~ Так те, не успев ни в чем, и уехали на французском военном судне, под командою, кажется, адмирала Сесиля, назад, в Китай. — Гончаров неточно пересказывает эпизод из ликейской главы «Путешествия по Японии» Ф.-Ф. Зибольда: «В 1842—43 годах, когда адмирал Сесиль находился в этих местах с французской эскадрой, католические миссионеры вздумали воспользоваться его присутствием. В конце апреля 1844 года корвет „Алкмена” отправился из Макао в Напу, столицу островов Лиу-Киу, где бросил якорь в начале мая. Он привез туда двух миссионеров, которых местному начальству выдали за переводчиков, и оставил их там, объявив, что придет еще раз с французскими военными кораблями, но в мирных видах. Король островов, изумленный появлением „Алкмены” и объявлением о прибытии французской эскадры и поставленный в затруднение особенно тем, что по отплытии „Алкмены” миссионеры объявили настоящее свое звание, написал китайскому правительству о случившемся и просил инструкций. В октябре 1844 года императорский комиссар потребовал объяснений от французского чрезвычайного посланника <...>. После долгой переписки послали в Напу корвет „Victorieuse” в 1846 году и вывезли оттуда обоих миссионеров» (Зибольд. Т. 2. С. 266—267).
С. 509. Жители, не зная их звания, обходились с ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но узнав, кто они, стали чуждаться их. Они не оскорбляли их ~ ликейцы зажимали уши и бежали прочь. — Ср.: «Миссионеры, оставленные на островах Лиу-Киу, находятся в странном положении. Их не мучат, дают им есть; но избегают разговора с ними. Едва вздумают они говорить, как присутствующие затыкают уши и бегут без оглядки!» (Зибольд. Т. 2. С. 268).
С. 510. Кого и чего нет теперь в Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг. — После открытия в Калифорнии крупных месторождений золота (1848) Сан-Франциско стал центром притяжения для искателей фортуны. В конце 1840-х — начале 1850-х гг. на улочках Сан-Франциско можно было встретить представителей всех рас и национальностей, население города выросло с 600 человек в 1846 г. до 34 870 в 1852 г. По свидетельству современника, здесь были «...толпы желтолицых, мутноглазых, дурно пахнущих китайцев с длинными косами, нарядные, важно ступающие чернокожие в белых рубашках с таким же запахом, несколько маленьких темпераментных малайцев с западного архипелага, симпатичные обитатели Сандвичевых островов, черные как смоль <...> абиссинцы, чудовищно татуированные новозеландцы, матросы с Фиджи и даже изолированные японцы, маленькие, худые, неуклюжие, вечно кланяющиеся; здесь были все обитатели Индостана, русские в мехах
- 710 -
и с саблями, статные <...> турки в тюрбанах <...> множество испаноязычных из Южной Америки: чилийцы, перуанцы, мексиканцы <...> американцы изо всех штатов <...> жирные самодовольные англичане <...> банды беспринципных немцев, итальянцев и французов любого пошиба <...> и множество тонкогубых, крючконосых, волооких и коварных <...> евреев» (Soulé F., Gihon J., Nisbet J. The annals of San-Francisco. New York, 1854. P. 257—258). Сведения о «золотой лихорадке» появлялись и в русской печати. Очевидец событий, описывая Калифорнию этого времени, сообщал, что все города штата были заполонены «бродягами, отправлявшимися за золотом. <...> Это было сборище любопытное и разнообразное, где были представители чуть ли не всех народов» (Четыре месяца в обществе золотопромышленников верхней Калифорнии: Дневник путешественника Тирвейт Брукса // С. 1849. № 4. Отд. II. С. 69—102). О социальном составе населения Сан-Франциско в эпоху «золотой лихорадки» см.: Réau C.-A. La société californienne de 1850. Pans, 1921. P. 53—74, 295—330. По словам Плутарха в «Сравнительных жизнеописаниях», Рим был основан Ромулом и Ремом для «беглых рабов, во множестве собравшихся вокруг них» (Ромул, IX); ср. также: Тит Ливий. История Рима от основания города. М., 1989. Т. 1 С. 16. Суждения античных авторов, по-видимому, и послужили источником для гончаровского сравнения. Согласно первоначальному плану, покинув Японию, русская эскадра должна была пойти в Сан-Франциско, изменение маршрута было связано с получением известий «о крейсирующей у западных берегов Америки английской эскадре» (Всеподданнейший отчет. С. 183—185).
С. 511. Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожидании... — После отказа Турции предоставить России исключительные права по защите православного населения, проживающего на ее территории, последовал разрыв русско-турецких отношений (май 1853 г.) и ввод русских войск (июнь 1853 г.) на территорию автономных Дунайских княжеств. 4 (16) октября 1853 г. Турция объявила России войну. В феврале 1854 г., после предъявления франко-английского ультиматума с требованием вывода русских войск из Дунайских княжеств, проигнорированного Россией, был подписан союзный договор между Францией, Англией и Турцией. См. также выше, с. 660, примеч. к с. 396.
С. 514. У губернатора пучок на голове был проткнут золотой, у помощника и переводчика серебряной, а у прочих медной шпилькой. — Оригинальное ликейское украшение было отмечено практически всеми путешественниками. Ср.: «...булавки камезаки и узизаки <...> делаются из золота, серебра или меди, смотря по чину и состоянию людей. Этот убор принят всеми, от короля до самого последнего подданного с удивительным однообразием...» (Зибольд. Т. 2. С. 261—262). Б. Холл отмечал, что у мужчин на Лю-Чу «волосы подняты со всех сторон и сложены на темени небольшим узлом так, что прикрывают выбритый на голове кружок; сквозь узел пропущены две металлические шпильки, одна из которых имеет головку в форме цветка с шестью лепестками, а другая похожа на маленький ковшик. Длина шпилек — от 4 до 6 дюймов. <...> У одного из высокопоставленных чиновников, посетившего „Альцест”
- 711 -
(один из кораблей экспедиции. — Ред.), цветок на булавке был украшен драгоценными камнями» (Hall. P. 215—216). Названия шпилек сообщает и Ф. Бичи: «...камезаши — с головкой в форме цветка с шестью лепестками, и омезаши, похожая на костяную ложку» (Beechey. P. 147).
С. 516. — Дойдет ли? ~ До́йдет!; см. также с. 725: Вопрос, похожий на гоголевский вопрос: «Доедет или не доедет колесо до Казани?» — Отголосок гоголевского диалога о колесе из главы первой тома первого «Мертвых душ».
С. 517. ...с папушами табаку... — Папуша или папуха — связка табачных листьев.
С. 518. Я не знаю, с чем сравнить у нас бамбук ~ из молодых веток. — Ср. у В. А. Римского-Корсакова: «Чего [только] не доставляет им один бамбук, этот камыш, достигающий тут огромных размеров! Из него себе тагал и дом построит, и койку сплетет, и шляпу, им и огонек разведет для своей стряпни, им и мосты настелет, из него и навес сделает на своем челноке. И все-таки этот бамбук растет повсюду и не переводится, хотя бы, кажется, такое население должно его мигом уничтожить. Всюду видишь его высокие штамбы, возвышающиеся над всеми почти деревьями. А около них новые ростки, которые к будущему году так же высоко вырастут» (Римский-Корсаков. С. 301).
С. 518. Он вынул из-за пазухи каш (маленькую медную китайскую монету) ~ Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе тысяча четыреста. — См. выше, с. 666, примеч. к с. 420. По утверждению Б. Холла, идеализирующего государство Лю-Чу, островитяне не знали внутреннего обращения денег (см.: Hall. P. 208—209). Это мнение неоднократно опровергалось последующими путешественниками (см. выше, с. 702—703, примеч. к с. 494). Ср. также: «Пшено служит обменным знаком, потому что во всем архипелаге есть только малость серебряных и медных монет китайских и японских. Однако же несправедливо мнение капитана Безиль Голля (Basil Hall), будто здешние островитяне не знают употребления монет» (Живописное путешествие по Азии, составленное под руководством Эйрие: В 6 т. / Пер. с фр. Е. Корша. М., 1839. Т. 1. С. 193).
С. 519. Удобрение это состоит из всякого рода нечистот, которые сливаются в особые места ~ как я видел в Китае. — См. выше, с. 666, примеч. к с. 422.
С. 519. ...а о нравах жителей, об обычаях, о произведениях, об истории — прочтите у Бичи, у Бельчера. — О Ф. Бичи см. выше, с. 605, примеч. к с. 302; о Э. Белчере — с. 567, примеч. к с. 106. Имеются в виду сочинения: Beechey. Vol. 2. P. 143—226; Belcher. Vol. 1. P. 320—323; Vol. 2. P. 54—67.
V
МАНИЛА
С. 521. ...и лавировали, за противным ветром, между большим Лю-Чу и другими, мелкими Ликейскими островами, из которых один путешественники назвали Ама-Керима, а миссионер Беттельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит вон там дальше — Керима. — Речь идет о группе островов, расположенной к западу от Окинавы (современное
- 712 -
название — острова Кэрама). Согласно местной легенде, название «Ама-Керима» возникло в результате недоразумения: некий иностранец спросил у ликейца название этих островов, ликеец ответил: «Ама Кэрама» («Вот там Кэрама») — и не понятая иностранцем фраза закрепилась в европейской литературе в качестве географического названия (см.: Большая энциклопедия японских географических названий: В 49 т. Токио, 1986. Т. 47: Префектура Окинава. С. 343—344. На яп. яз.).
С. 521. ...шкуна «Восток» послана осмотреть и, по возможности, описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25° <северной> широты. — 8 (20) февраля 1854 г. шхуна «Восток» была направлена для описи островов Бородино, открытых в 1820 г. Захаром Ивановичем Понафидиным (ум. 1830), капитаном корабля «Бородино», снаряженного Российско-Американской компанией для торговли в Маниле. «Оставив Манилу 3-го августа (1820 г. — Ред.), лейтенант Понафидин 19-го перешел тропик, в долг. 130° W, а 27-го открыл два небольшие острова, названные по имени корабля островами Бородино (шир. 25°56′ N, долг. 131°15′ О)» (Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 1850. Т. 8. С. 4). Опись островов продолжалась с 10 (22) по 12 (24) февраля 1854 г.
С. 522. Хотя пролив, через который следовало идти... — Имеется в виду пролив Баши. Пролив и острова Баши названы так «по напитку, употребляемому здешними жителями, — Баши. Они делают оный из соку сахарного тростника» (Путешествие в Южное море французского флота капитана Жан-Франсуа Сюрвилля, предпринятое им в 1796 году на собственном его иждивении. СПб., 1797. С. 32).
С. 522. ...это берег Люсона. — «Остров Люсон, или Лукония, обширнейший (105000 кв. км. — Ред.) из принадлежащих Испании Филиппинских островов, содержит в себе более миллиона жителей и производит хлопчатую бумагу, кофе, индиго, сахар, рис, маис, табак, пшеницу и пр. в великом изобилии» (Добель. С. 203).
С. 522. У кого ни посмотришь, описание Манилы в руках. — Развернутые описания Манилы содержались как в русских изданиях: Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 407—447; Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. Гл. 29. С. 297—306; Добель. Ч. 2. С. 185—222, 233—248, так и в изданиях на иностранных языках: La Pérouse J.-F. de. Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément au décret du 22 Avril 1791, et rédigé par M. L.-A. Milet-Mureau. Paris, 1797. Vol. 2. Ch. 15—16. P. 336—366; Mallat. Vol. 1. Ch. 10. P. 161—181; Wilkes. Vol. 5. Ch. 8. P. 273—319.
С. 522. ...с креолкой... — Креолами в XVIII—XIX вв. называли испанцев, родившихся в южноамериканских колониях. Испанцы филиппинского происхождения назывались «филиппинос», но это обозначение было мало известно в Европе, поэтому даже хорошо знавшие местную специфику иностранцы предпочитали употреблять слово «креол». См., например, записки П. Жироньера, для которого население Манилы делится на две неравные группы: «испанцев и креолов», с одной стороны, и «тагалоков, метисов и китайцев» — с другой (см.: Жироньер П. де ла. Двадцать лет на Филиппинских островах // С. 1855. № 5. С. 25). Гончаров также употребляет привычное для него слово «креолы».
С. 523. ...а кто-то из наших, от Баши до Манилы, шел девять суток... — Девять суток для преодоления расстояния от островов
- 713 -
Баши до Манильского залива потребовалось в 1828 г. русскому шлюпу «Сенявин», еще 1.5 суток ушло на лавировку в заливе (см.: Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора Николая I на военном шлюпе «Сенявине», в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах, флота капитаном Федором Литке. СПб., 1835. Отделение историческое. (Ч. 2). С. 222).
С. 523. Сегодня началась масленица; все жалеют, что не поспеют на карнавал в Манилу. — Опоздание объяснялось различием церковных календарей, в соответствии с которыми русская масленичная неделя не совпадала с католическим карнавалом; ср.: «Читатели мои знают, что наша Масляница называется во всей Западной Европе карнавалом от итальянского слова carne vale, т. е. прощай, мясо! Так или не так, все равно, но главное в том, что, с тех пор как люди образовали общества, везде было назначено время для общих забав и увеселений. Христиане определили на народные увеселения неделю перед Великим постом и неделю после Великого поста» (СПч. 1853. № 42). В 1854 г. масленица приходилась на 12—19 февраля. Манильский карнавал (фиеста) длился, как правило, три дня: на украшенных улицах города проводились театрализованные представления (мистерии), карнавальные шествия, конкурсы красоты, на которых избирались «король» и «королева» фиесты, устраивались гонки карабао (местная порода буйволов) и петушиные бои. Праздник заканчивался грандиозным фейерверком. «Фиесты, — пишет современный исследователь, — приобретавшие, несмотря на свое строго религиозное назначение, характер народных празднеств (по жалобам испанских церковников, скорее языческих, нежели христианских), стали частью филиппинского народного католицизма, возникшего в результате трансформации ортодоксального католического вероучения» (Левтонова. С. 92).
С. 523. Посредине входа лежит островок Коррехидор с маяком. — Более подробное описание Манильского рейда дает Ж. Дюмон-Дюрвиль: «Манильский рейд, на который мы тогда входили, представляет обширную и поистине величественную картину. Он разделяется при входе на две почти равные части небольшим островом Коррехидором, вооруженным батареями и содержащим сильный гарнизон; этот остров стоит здесь как передовой пост, как военный маяк колонии» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 298). См. также с. 715, примеч. к с. 525.
С. 523. Слева подле него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни Конь и Монахиня... — В записках испанского капитана А. Малеспины упоминаются еще две не вошедшие в описание Гончарова скалы: Фрайле (Монах) и Фортуна (см.: Путешествие в Южное море, к западным берегам Америки и к островам Марианским и Филиппинским, в 1789, 90, 91, 92, 93 и 94 годах, королевско-испанского флота корветами «La Descubierta» («Открытие») и «La Atrevida» («Смелая»), под командою капитанов дона Александра Малеспины и дона Иосифа Бустаменте-и-Гуерра // Записки, издаваемые государственным Адмиралтейским департаментом. 1827. Т. 12. С. 146).
С. 524. От Коррехидора отделилась было шлюпка и пошла на нас, чтоб, вероятно, «узнать о здоровье». Но где ей за нами! — Ирония Гончарова становится понятной только при сопоставлении с текстом Ч. Вилкса, который, описывая свое прибытие на Манильский рейд,
- 714 -
рассказывает: «...я немедленно отправил две лодки доставить письма. На пути к молу они были остановлены капитаном порта дон Хуаном Саломоном, который в вежливых выражениях попросил их вернуться и сообщил офицерам, что в соответствии с правилами порта ни одному судну не разрешается причалить без визита к санитарному врачу («health-officer»). Вскоре и мы увидели его на большой барже в сопровождении наших лодок. Со множеством церемоний капитан порта поднялся к нам на борт. Для того чтобы убедить его в прекрасном самочувствии экипажа, понадобилось всего несколько мгновений, и свою санкцию на посещение нами берега он дал быстро и без труда. <...> в весьма учтивых выражениях он дал также разрешение приходить и уходить когда нам заблагорассудится с одним только простым условием: лодки должны быть под нашим национальным флагом» (Wilkes. Vol. 5. P. 275).
С. 524. Вы не знаете тропических, ночей ~ Что это за роскошь!... Но чу! колокол! — Вероятная отсылка к повести Н. В. Гоголя «Майская ночь»; ср.: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; а чудный воздух и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!...» (Гоголь. Т. 1. С. 159).
С. 524. ...говорят и пишут, между прочим американец Вилькс, француз Малля (Mallat), что здесь нет отелей... — См. о Чарльзе Вилксе выше, с. 592—593, примеч. к с. 255. Жан-Батист Малля — французский ученый и путешественник; в 1838 г. совершил путешествие в Китай, на Филиппинские острова и в Батавию. Посещал Манилу три раза. Результатом путешествия стал двухтомный труд (см.: Mallat), основной целью которого являлись описание естественных ресурсов архипелага и характеристика ремесел, торговли, а также аграрных отношений в стране. Т. I сочинения открывался обширным (гл. I—IV) историческим очерком, охватывающим период с начала XVI в. (появление на Филиппинах первых испанцев) до 40-х гг. XIX в. Этот материал был использован Гончаровым при написании краткого обзора истории Филиппин, заключавшего главу о Маниле (см.: наст. изд., т. 2, с. 576—577). Информация об отелях в упоминаемых Гончаровым сочинениях отсутствует: в книге Вилкса говорилось о том, что проживание иностранцев в Маниле запрещено и помещения на берегу (в частном доме Старджиса) были предоставлены экипажу американским вице-консулом Дж. Муром (см.: Wilkes. Vol. 5. P. 275, 277, 278, 304); в книге Малля сообщалось, что «съём небольшого дома <будет стоить> от 150 до 200 франков в месяц» (Mallat. Vol. 1. P. 178). Ср.: «Барон Крюднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях: чего доброго, пожалуй, их нет совсем!» (наст. изд., т. 2, с. 522).
С. 524. ...что иностранцы, после 11-ти часов, удаляются из города, который на ночь запирается ~ но что зато все гостеприимны и всякий дом к вашим услугам. — Ср.: «Ворота города запираются в 11 часов вечера и остаются закрытыми до 5 часов утра. В этот промежуток времени улицы пусты, слышны только крики часовых («Кто идет?»), а в окрестных деревнях — бдительный колокольчик сторожа. Доброта и сердечность жителей Манилы сделали бы пребывание там
- 715 -
приятнейшим в мире, если бы не эта царящая здесь осторожность и подозрительность, свойственная, впрочем, всем маленьким городам без исключения» (Mallat. Vol. 1. P. 166—167).
С. 524. ...авось завтра увижу и узнаю, что такое Манила. — Город (и крепость) Манила (Интрамурос, Испанский город) расположен на правом берегу реки Пасиг; столица испанской колонии с 1571 г.; военно-административный и религиозный центр: местопребывание генерал-губернатора, архиепископа, руководства монашеских орденов и военных властей.
С. 525. ...а вон Кавита»... — Кавита (от тагальск. kaüit — залив; см.: Mallat. Vol. 1. P. 32) — военный порт испанской колонии. Ср. у В. М. Головнина: «. местечко Кавитта <...> есть не что иное, как порт, принадлежащий к Манилле» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 443); у Ж.-Б. Малля: «Кавита является центром небольшой, но очень важной провинции, которая носит такое же название. Город укреплен и имеет испанское управление в лице коррехидора, являющегося одновременно главой провинции. Гарнизон Кавиты состоит из полка милиции под командованием полковника <...> в ней есть тюрьма, госпиталь, церковь, монастырь, арсенал и верфи, где возводятся те галеоны, которые курсируют от Акапулько до Сан-Блас. <...> Кавита имеет телеграфное сообщение с островом Коррехидор, расположенным у входа в залив и возглавляемым офицером, в распоряжении которого находится небольшой отряд и несколько пушек» (Mallat. Vol. 1. P. 177).
С. 525. ...французский военный пароход «Colbert»... — Командир судна «Кольбер» сделал визит командующему русской эскадрой (см.: Всеподданнейший отчет. С. 192).
С. 526. «Это предместье Бинондо; тут торговля, иностранцы». — Бинондо — торговый район Манилы, расположенный на левом берегу реки Пасиг. «Предместье, или квартал, Бинондо, в котором содержится больше жителей, чем в самом городе («city»), есть место торговое. Здесь все движение и жизнь <...> и в этом отношении контраст между городом и предместьями огромен» (Wilkes. Vol. 5. P. 277).
С. 526. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок ~ и лукавые физиономии. — Русские путешественники попали на улицы Париана (от кит. рынок, базар), китайского квартала в предместье Бинондо. О. Коцебу, посетивший Манилу в середине 1820-х гг., писал: «В предместьях Манилы насчитывается до 6000 китайцев; в самом городе им проживать запрещено. <...> Китайцы здесь еще более бесправны, чем низкий класс коренного населения. Их презирают и угнетают, подвергают жестокому обращению и часто незаслуженно наказывают. Стремление к наживе побуждает китайцев сносить все эти унижения. Небольшой барыш легко утешает оскорбленных» (Коцебу О. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. М., 1987. С. 329).
С. 527. ...и лавки у них поопрятнее, похожи на наши гостиные дворы, только с жильем вверху. — Отмеченное Гончаровым различие не было абсолютным. По воспоминаниям современника, корпуса знаменитой нижегородской ярмарки использовались по тому же принципу: «В нижнем этаже обыкновенно торгуют, а в верхнем помещаются конторы и жилые комнаты» (Щукин П. И. Воспоминания // Щукинский сборник. М., 1912. Вып. 10. С. 168).
- 716 -
С. 528. ...в Маниле всего человек шесть французов да очень мало американских и английских негоциантов... — Испания в период своего владения Филиппинскими островами придерживалась политики максимальной изоляции колонии от внешнего мира. Долгое время порты колонии, закрытые для торговли с Европой и Америкой, принимали только испанские военные корабли и торговые суда из Китая, при этом количество китайских судов было строго ограничено. Торговля с метрополией, поставленная под строгий правительственный надзор, осуществлялась через Мексику (Акапулько). «Кажется почти невероятным, — писал Ч. Вилкс, — что Испания так долго сохраняла политику, в соответствии с которой только одному галеону позволялось ежегодно обходить ее колонии, равно как и тот факт, что народы Европы столь долго обманывались в отношении богатств и возможностей Филиппин, монополизированных Испанией» (Wilkes. Vol. 5. P. 292). Первым портом, открытым для свободной торговли, стала Манила (1834), остальные порты (Суал, Илоило, Замбоанга, Себу) были открыты в конце 1850-х гг. Вплоть до 1860-х гг. иностранцам запрещалось покупать землю и закладывать плантации, а ряд эдиктов (первый из них относился к 1800 г. последний — к 1857 г.) запрещал иностранным подданным даже поселение в провинциях. Исключение из правил составляли иностранцы, женатые на креолках или метисках, а также французы, принятые на службу к генерал-губернатору. Предпочтение, оказываемое французам сравнительно с другими нациями, объяснялось их принадлежностью к католической конфессии (см.: Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 424). Начиная с 1820-х гг. строгие королевские постановления систематически нарушались местными властями, так, в донесении Д. П. Татищева, исполнявшего обязанности русского посланника при испанском дворе, читаем: «В связи с удаленностью этой <Филиппинской> колонии от метрополии губернатор является почти государем и, как мне указал сам министр финансов, иностранец мог бы выполнять обязанности консула без того, чтобы королевское правительство знало об этом» (Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е годы XVIII в. — 60-е годы XIX в.): Документы и материалы. М., 1962. С. 507).
С. 528. «А много монахов в Маниле?» ~ отвечала она. — Монахи на архипелаге составляли наиболее многочисленную и стабильную прослойку (в среднем более ²/3 проживавших на островах испанцев). «Здешние жители, — писал В. М. Головнин, — состоят из следующих классов: первый составляет духовенство, которое здесь, как и во всех испанских колониях, весьма многочисленно и имеет главою архиепископа, живущего в Маниле, и несколько епископов, находящихся в провинциях. В Маниле считается пять монастырей мужских и три женских. Гражданские и военные чиновники <...> составляют второй класс. <...> Хотя б сему классу и надлежало стоять первым, но я помещаю их по степени народного уважения, а здешние жители духовных всем предпочитают» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 424). См. также ниже, с. 732, примеч. к с. 577.
С. 529. Испанцы так дорожат привилегией родиться ~ на своем полуострове, что уже родившиеся здесь, от испанских же родителей, дети ~ ценятся ниже против европейских испанцев... — Европейские испанцы назывались «пенинсуларес»; см. также выше, с. 712, примеч. к с. 522.
- 717 -
С. 530. Тагал остановился у первого из домов... — На территории Филиппинского архипелага проживает около 100 этнических общностей, условно подразделяемых на три большие группы: равнинная (христиане), горная (анимисты) и южная (мусульмане). Тагалы (южноазиатская группа монголоидной расы) — ведущий этнос среди равнинных народов. Тагальский язык (филиппинская подгруппа австронезийских языков) лежит в основе языка пилипино, являющегося национальным языком страны; ср.: «Филиппинские острова хотя находятся в недальнем один от другого расстоянии, но <...> жители <их> говорят разными языками; один из употребительнейших есть так называемый тагалийский» (Добель. Ч. 2. С. 185—186). См. также ниже, с. 730, примеч. к с. 575.
С. 530. Fonda — постоялый двор, гостиница (исп.).
С. 530. ...и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты ~ Есть и балкон или просто крыша над сараями, огороженная бортами, как на кораблях, или, лучше сказать, как на... балконах. ~ «Слюда!» — сказал один из нас. «Нет, это жесть, — решил другой... — Сходное описание у В. М. Головнина более точно и подробно; ср.: «Образ построения манильских домов весьма удачно приспособлен к климату. <...> Здесь комнаты второго, или жилого, этажа пространны и весьма высоки; в лучших домах имеют они до 3 сажен вышины. В стенах окон нет, а на расстоянии от 10 до 12 футов сделаны большие двери, против коих кругом всего дома идет крытый коридор шириною в 4 и 5 футов, утвержденный на выдавшихся за стену концах матиц. Снаружи сего коридору от полу фута на 4 обнесен он легким деревянным баллюстрадом, на коем поставлены мелко переплетенные задвижные рамы; вместо стекол в них вставлены выполированные плоские устричные раковины. Рамы сии можно все задвинуть и закрыть ими весь коридор или, отодвинув, открыть оный. Первое делается с той стороны, откуда дождь ветром наносится или солнце сияет, ибо раковины хотя и пропускают свет немногим слабее того, какой сквозь стекла проходит, но солнечные лучи в них не проницают и воздух внутри покоев нагреть они не могут, а коридор, будучи открыт со стороны ветра, доставляет ему канал, коим он, обходя кругом дома, прохлаждает воздух в коридоре и из него посредством огромных дверей входит в покои и находится в беспрестанном обращении» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 421).
С. 531. Да у вас есть позволение от губернатора?» ~ «Нет». — С 1782 г. на Филиппинах была введена правительственная табачная монополия, строго соблюдавшаяся властями. Все табачные фабрики являлись государственными предприятиями, фактически закрытыми даже для внутреннего рынка (продукция отправлялась в Испанию и уже оттуда попадала в европейские магазины). При генерал-губернаторе учреждался особый совет для контроля над доходами, поступавшими от торговли табаком; существовала целая армия полицейских чиновников: инспекторов, комендантов патрулей, агентов, обязанных бороться с контрабандой, утайкой либо неконтролируемым выращиванием табака. Для собственного потребления население могло покупать табак только в специальных государственных лавках, так называемых «эстанко», куда поступала лишь небольшая часть продукции (ср. также: наст. т., с. 572: «Табак не в сигарах не продается в Маниле; он дозволен только к вывозу»). Аналогичные монополии
- 718 -
были введены Испанией в Венесуэле и на Кубе. См. об этом: Левтонова. С. 81.
С. 531. ...посмотреть, например, грот Св. Маттео... — Пещера Сан-Матео расположена неподалеку от одноименной деревни, стоящей на берегу реки Нанки (приток реки Пасиг). «Пещера Сан-Матео принадлежит, может быть, к величайшим в свете. Она находится в известковом утесе и внутри, подобно всем пещерам сего рода, покрыта капельниками. <...> Более двух часов шли мы по сей обширной пещере, как вдруг <...> остановлены были небольшою рекою, образующею красивый водопад. <...> Пещера лежит около 600 футов над поверхностью моря» (Добель. Ч. 2. С. 244). Существовала туземная легенда, что грот Сан-Матео — начало подземного хода, ведущего «прямо в Китай»: «Великий китайский пират Лимагон, говорили они (проводники-тагалы), по этой дороге пришел сюда и по этой же дороге воротился» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 309).
С. 533. ...между прочим кукуруза с маслом. — Кукуруза (как и табак) не являлась местной сельскохозяйственной культурой и была завезена августинскими монахами из Мексики.
С. 534. Кальсадо — шоссе (исп. calzada).
С. 534. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки; юбка прикрыта еще большим платком — это нижняя часть одежды; верхняя состоит из одного только спенсера, большею частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою... — Ср.: «...с вечною сигарою во рту, тагалка покрывает свои волосы <...> платком, который ниспадает на плечи; грудь ее закрыта белою полурубашечкой, которая оставляет нагою нижнюю часть стана, а на пояснице охвачена полосатым камбаем (юбкою), падающим до пяток. Камбая обвертывается ковриком, иногда гладким, но чаще полосатым, рисующим все формы и плотно прижимающим к телу одежду. Род турецких туфлей, едва держащихся на ногах, довершает этот наряд» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 301).
С. 535. В дальних местах, внутри острова ~ толпы необращенных дикарей; их называют негритами (negritos). — Негриты (современное название — негритосы-аэты) — австралоидная ветвь экваториальной расы, исконные поселенцы Филиппинского архипелага. Вытеснены южномонголоидными переселенцами в горы еще в доколониальный период (VII—XV вв.). «Первые мореплаватели, высадившиеся на Филиппинах, нашли здесь людей двух совершенно различных рас: к первой относились негритосы <...> — кочевой народ, который в стране называют аэтами (itas), ко второй — индийцы малайского происхождения. <...> Негритосы (Филиппин) были менее рослыми, более худыми и не такими черными, как негры африканского побережья. Они бродили по горам совсем голыми, имея вместо одежды только кусок древесной коры, прикрывавший интимные части тела. Их вооружение состояло из большого лука и бамбукового колчана со стрелами. <...> Негритосы обитают (на Филиппинах) по сей день, пребывая, как и прежде, в диком состоянии, из которого ничто не заставило их выйти» (Mallat. Vol. 1. P. 44—45). Ср. также: «Среди местных жителей мы увидели здесь представителя ироготов (Irogotes) или — иначе — горцев, хотя правильным названием будет Negrito» (Wilkes. Vol. 5. P. 306).
С. 535. ...въехали в крепость... — Т. е. в Манилу. «Внутри крепостных стен, — писал Ч. Вилкс, — находятся губернаторский дворец, таможня,
- 719 -
казначейство, адмиралтейство, несколько церквей, монастыри, благотворительные организации, университет и казармы; здесь также есть несколько скверов, в одном из них бронзовая статуя Карла IV. <...> город считается правительственной резиденцией, и все здесь принадлежит либо властям, либо проживающим в городе представителям высшего круга; иностранцам же это запрещено» (Wilkes. Vol. 5. С. 277).
С. 536. ...с одной стороны дворец генерал-губернатора... — Дворец (Малаканьянг) представляет собой двухэтажное здание с арочными окнами, балконами, портиками; в настоящее время является резиденцией президента республики.
С. 536. С третьей стороны собор... — Имеется в виду церковь Сан-Агустин — самое старое здание в Маниле, построенное в 1606 г. Хуаном Антонио де Эррера, который, по утверждению хроник августинского ордена, являлся сыном строителя Эскориала — Хуана де Эррера (о нем см. ниже, с. 732, примеч. к с. 577).
С. 536. ...как эта статуя Карла IV. — Карл IV Бурбон (1748—1819) — испанский король в 1788—1808 гг.; свергнут с престола Наполеоном.
С. 536. ...явится кто-нибудь с отвагой и шпагой, а может быть, и с шелковыми петлями. — Гончаров свободно цитирует стихотворение Пушкина «Я здесь, Инезилья...» (1830). У Пушкина: «Исполнен отвагой, / Окутан плащом, / С гитарой и шпагой / Я здесь под окном». Не печатавшееся при жизни поэта стихотворение было известно публике в виде романса на музыку М. И. Глинки (подробнее об этом см.: Кулагин А. В. Когда впервые было опубликовано стихотворение «Я здесь, Инезилья...» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1988. Вып. 22. С. 130—136).
С. 537. За городом дорога пошла берегом. ~ на пальмах темной и жесткой. — Гончаров описывает дорогу к Кавите. Ср. у В. М. Головнина: «От Кавиты к Маниле есть дорога, проложенная вдоль берега <...> совершенно подобна садовой аллее, имея по обеим сторонам высокие деревья бамбу, апельсиновые, лимонные, фиговые и другие. <...> дорогу сию во многих местах перерезывают речки, через кои сделаны красивые каменные мосты. Устроение сей дороги и мостов принадлежит уже испанцам нынешних времен, и честь сию жители приписывают теперешнему главному начальнику инженеров полковнику дон Ильдефонсу Ахагору» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 444—445).
С. 538. ...через воды переброшен мост игрушечной постройки, каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке тоже. — Черная речка во времена Гончарова — фешенебельное и активно застраивавшееся дачное место на северной стороне Петербурга: «Ряд красивых дач здесь выстроился только в сороковых годах. <...> В эти годы, по выражению фельетониста того времени, здесь вошла в моду „чопорность и женировка”, мужчине прогуливаться в фуражке считалось уже неприличным, и дамы должны были являться на улицу „во всеоружии”» (Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1994. С. 10). Местный парк, разбитый А. Н. Воронихиным для графа Строганова, изобиловал канавками, прудами и горками.
С. 538. ...и почти все с петухом под мышкой. Это вечный товарищ тагала: он с ним всюду. — Ж. Дюмон-Дюрвиль поясняет: «При общей
- 720 -
страсти к игре, петух может доставить тагалу состояние. Благодаря его смертоносным шпорам, семейство живет в довольстве: жена рядится в золотые и стеклянные ожерелья, а муж не знает недостатка в табаке. По этой причине петух бывает избалованным дитятею в доме: тагал предпочитает его даже жене и детям; он всегда ласкает его и вечно носит под мышкой, идет ли по делам или отправляется на приятельскую беседу. Петух его богатство, петух его товарищ, властелин; при жизни этот боец имеет право на все; по смерти его горько оплакивают» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 302).
С. 538. Экзерциции — военные упражнения (лат. exercitium).
С. 538—539. ...сражения происходят в особых цирках по праздникам. — Имеются в виду сабунганы, о которых Ж. Дюмон-Дюрвиль пишет: «Страсть к боям петухов так сильна у манильцев, что испанское правительство ныне извлекает из нее довольно значительную подать. Это превратилось в совершенный откуп. Первым действием правительства было назначение особенных отгороженных мест для битв подобного рода. Здесь, по открытии ристалища, смотритель собирает у дверей за вход не с каждого человека, но с каждого петуха по одному реалу, если он не станет драться, и по три реала, если будет участвовать в бое» (Дюмон-Дюрвиль. Ч. 1. С. 303).
С. 539. ...сидел августинец... — Августинцы — «регулярные каноники»; члены различных монашеских конгрегации, следующие уставу блаженного Августина (Augustinus; 354—430). Составленный к середине V в. устав требовал от клириков монашеского общежития и отказа от собственности.
С. 540. ...какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. — См. выше, с. 703, примеч. к с. 495.
С. 540. Во многих хижинах я видел висящие мундиры... — Описание мундира дает В. А. Римский-Корсаков: «...щеголеватее тагальского солдата я нигде никого не видывал. Все они постоянно носят белые холстинные мундиры с красными выпушками и эполетами. И платье это постоянно так вымыто и вычищено, что хоть любому на зависть» (Римский-Корсаков. С. 302).
С. 541. ...приехали на гласис и вмешались в ряды экипажей. — «При захождении солнца, ибо днем жары здесь нестерпимы, жители Манилы прогуливаются кругом крепости, при самой подошве гласиса, на гладкой широкой дороге. <...> Экипажи здешние состоят в каретах и в колясках, запряженных парою; один генерал-губернатор ездит в четыре лошади с почетным конвоем» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 426). Гласис (фр. glacis) — военный термин, обозначающий пространство перед крепостным рвом (стеной) на пушечный выстрел.
С. 541. Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1-го мая? — Начиная с XVIII в. на Рождество, масляную и святую недели в Москве «под Новинским» (т. е. близ Новинского монастыря) проходили многолюдные народные гулянья. «Мужички, простолюдины и всевозможное простонародье толпами идет в балаганы, вертится на качелях, наполняет обольстительные для него палатки и шатры <...> главный блеск в эти дни составляют те неизмеримые двойные вереницы экипажей, которые тянутся на несколько верст, занимая не только все протяжение Новинского, по обеим сторонам его, в два ряда, но и ближайшие улицы, Пречистенку, Арбат, Никитскую. <...> Тут увидите вы и старость, и юность, и блеск моды, и туман безвкусия, и богатство, и чванство — словом, увидите всю Москву
- 721 -
в оригинале, в лицах, во всей красе ее» (Гулянье под Новинским в Москве // Живописное обозрение. 1838. Ч. 4. С. 258—259). В 1861—1862 гг. место гулянья из-под Новинского было перенесено на Болото, затем на Девичье поле, еще позднее — за Пресненскую заставу; на прежнем месте возник Новинский бульвар. Екатерингоф — парковая зона на западной стороне Петербурга; заложенная Петром I в 1711 г. (Екатерингофский дворец), к началу XIX в. пришла в совершенное запустение. Благодаря усилиям петербургского военного генерал-губернатора графа М. А. Милорадовича в конце 1820-х гг. в истории Екатерингофа наступает новая эра: «С весны до осени 1828 года все было приведено к окончанию. <...> Красивейшие постройки, павильон, беседки и вокзал были возведены молодым архитектором Монферраном, тогда еще не прославившимся постройкой Исаакиевского собора. В одно лето вырыт канал, по сторонам его сделана насыпь, отделяющая два пруда. <...> Через канал переброшен легкий чугунный мостик. <...> Против лежащий Гутуевский остров был тоже расчищен, и самые рыбачьи дома на нем возведены в стиле сельских строений окрестностей Рима» (Пыляев М. И. Старый Петербург. Л., 1990. С. 85—86). В Екатерингофе происходило ежегодное гулянье 1-го мая, повторяющееся в Троицын день. О гуляньях в Екатерингофе Гончаров упоминает также в «Обломове» (см.: наст. изд., т. 4, с. 17—32).
С. 541. ...гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. — «Три раза в неделю, после вечернего парада, — сообщает Ч. Вилкс, — четыре полковые оркестра исполняют на площади перед губернаторским дворцом музыку. <...> Руководство этими оркестрами принадлежит испанцам (только один из дирижеров француз), тогда как все музыканты — туземцы, играющие на слух» (Wilkes. Vol. 5. P. 298). Ср. также ниже, с. 725, примеч. к с. 556.
С. 541. ...исключая львов... — Т. е. законодателей мод (см.: наст, изд., т. 1, с. 787—788).
С. 542. Гидальго (идальго) — дворянин, мелкий землевладелец (исп. hidalgo). Ср. у Боткина: «Тотчас же после окончательного покорения мавров в испанском народонаселении образовались два класса — hidalgos и pecheros, дворян и податных. Рассматривая Испанию, не должно забывать, что она в продолжение многих веков занята была войною с маврами. Отсюда произошло, что в этой стране один военный человек имел значение политическое и нравственное <...>. Если мужик храбро бился, если гражданин отличился сколько-нибудь на сражении, тот и другой легко делались идальгами и вступали в ряды дворянства. <...> Для возвышения своего нравственного достоинства честолюбивые идальги старались вступить в услужение в дома грандов и дворян: это считалось почетнее какого-нибудь ремесла. В северной и средней Испании, где преимущественно господствовал воинственный дух, мужик и гражданин суть большею частию идальги, они жили бедно, но благородно» (Боткин. С. 103—104).
С. 542. ...и еще на портретах Веласкеца и других... — Диего Родригес де Сильва Веласкес (Velázquez; 1599—1660) — испанский художник; придворный портретист Филиппа IV.
С. 543. ...уж был у нас какой-то капитан над портом, только не этот. — См. выше, с. 713—714, примеч. к с. 524.
- 722 -
С. 543. ...о турках, об англичанах, о синопском деле... — См. выше, с. 660, примеч. к с. 396.
С. 543. Приехал барон Крюднер с берега с каким-то китайцем. ~ «Вот французский миссионер, живущий в Китае»... — В отчете Вен. Морочевича, описывающего состояние европейских (католических) миссий в Китае 1840-х гг., поясняется: «По дурному произношению европейцев в китайском языке и по трудности самого языка, действия европейских миссионеров в Китае с давних лет большею частью ограничиваются смотрением за священниками из природных китайцев. Выбирая мальчиков из христианских китайских детей, они или сами обучают их, или отправляют для обучения в семинарии, находящиеся в Макао и на Филиппинских островах, откуда по окончании семинарского курса возвращают их в Китай и, производя в священники, рассылают в нуждающиеся в священниках места. При нынешнем состоянии христианства в Китае способ этот управления миссиями оказался более полезнейшим потому, что природные китайские священники с большею безопасностью могут делать разъезды по обширным и рассеянным своим приходам да и из большего к ним доверия туземцев более обращается язычников» (Записка об европейских миссиях в Китае. (Выехавшего из Пекина Вениамина Морочевича в 1842 г.) [Б. м. и г.]. С. 7). См. также выше, с. 662—663, примеч. к с. 402.
С. 543. «И к испанскому епископу». — Имеется в виду манильский архиепископ. Манильское архиепископство, пришедшее в 1591 г. на смену манильскому епископату, имело в своем подчинении три епископства: Нуэва-Сеговия (Северный Лусон), Нуэва-Касерас (Южный Лусон) и Себу (Висайи и Северный Минданао).
С. 543. Pueblo — поселение, деревня (исп.). На Филиппинах слово «pueblo» употреблялось также в другом значении: страна была поделена на провинции (алькальдства), алькальдства подразделялись на округа (пуэбло), а те, в свою очередь, на сельские волости (баррио или барангаи). Управление округами и сельскими волостями было доверено родовитым филиппинцам (принсипалия). Глава такого округа — капитан пуэбло, избирался местной принсипалией раз в три года. См. об этом: Wilkes. Vol. 5. P. 308.
С. 545. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы? ~ между тем ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников... — Ср. замечание Г. К. Блока, побывавшего в Маниле в 1840-х гг.: «Вы не поверите, может быть, что порядочные люди здесь не носят неподражаемых соломенных шляп, достигающих ценности трех тысяч рублей, а предпочитают им парижские пуховые шляпы? Так действительно бывает, хотя эта мода вовсе не по климату и пуховые шляпы ничем не красивее соломенных» (Блок. С. 217).
С. 545. Манила знаменита еще изделиями из волокон пины, ананасовых кореньев. — Пинья (от исп. pina — ананас) — прозрачная белая ткань, вырабатываемая из волокон ананасовых листьев (а не кореньев, как пишет Гончаров), без примеси. Выработка ее требовала большого умения и искусства, ткани из чистой пиньи были очень дороги, поэтому большим спросом на островах пользовалась ткань из смешанной пряжи (пинья с китайским шелком), известная под названием «хуси». Часто пинья вышивалась сложными одноцветными узорами. Ср.: «Пина («pina») изготавливается из разновидности Bromelia (ананас) и поступает главным образом с острова Панай.
- 723 -
Лучшие сорта пины исключительно хороши и превосходят любой другой материал гладкостью и красотой текстуры. Цвет ее желтоватый. <...> Она пользуется успехом у всех иностранцев и считается редкой ценностью. <...> Ткань из пины настолько тонка, что в помещениях, где она изготавливается, исключается всякий сквозняк, для чего окна заставляются марлевыми ширмами. Готовая пина привозится в Манилу и вышивается здесь девушками; последняя операция значительно повышает ее стоимость» (Wilkes. Vol. 5. P. 296).
С. 546. ...«Don Basilio!» — протяжно пропел мой спутник... — Дон Базилио — персонаж оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» (1816), иезуит, учитель музыки Розины, воспитанницы дона Бартоло. О степени популярности «Севильского цирюльника» в России можно судить по словам рецензента «Пантеона», писавшего: «Эту оперу у нас <...> знают наизусть» (см.: Пантеон. 1853. Т. 8, кн. 3. Театральная летопись. С. 7—8).
С. 546—547. Мы ехали через предместья Санта-Круц, Мигель ~ Тут только увидал я, как велик город, какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пассига, пересекая его несколько раз! — «Нужно заметить, что под именем Манилы понимают ту часть города, которая обнесена городским валом; остальные части имеют отдельные названия и не принадлежат собственно к городу, но составляют его предместья, именно Бинондо, Тондо, Санта-Круц, Сан-Себастиан, Сан-Мигель и Санта-Анна, распространяющиеся на несколько верст в длину» (Блок. С. 214). Ср. также: «...на самом деле некоторые из пригородов, такие как Малат, Санта-Круц, Сан-Фернандо, Бинондо, Тондо, Джиапо, Сан-Себастьян, Сан-Мигель, Сан-Антонио и Сан-Паоло, можно рассматривать как часть города, поскольку они либо непосредственно соприкасаются с ним, либо отделены очень малым пространством» (Mallat. Vol. 1. P. 166).
С. 547. ...мимо обелиска Магеллану...; см. также с. 576: ...за что и поставлен ему монумент на берегу Пассига. — Филиппинские острова (первоначальное название — архипелаг Св. Лазаря, более позднее — Западные острова, Восточные острова) были открыты в 1521 г. экспедицией Магеллана (о нем см. выше, с. 543, примеч. к с. 12). Отправленная испанским королем Карлосом I в 1519 г., она была предпринята для отыскания западного (вокруг Южной Америки) пути к «островам пряностей» (Молуккам), поскольку восточный путь (вокруг Африки) контролировался Португалией. Магеллан погиб в сражении с жителями острова Мактан, которые не пожелали подчиниться «союзнику» Испании — Хумабону, крещенному Магелланом и объявленному им «королем Себу и всех окрестных островов». Впоследствии, в результате измены Хумабона, та же участь постигла почти всю экспедицию: из пяти кораблей Магеллановой эскадры к берегам Испании вернулось только одно судно — корабль «Виктория» под командованием С. д’Элькано, на борту которого было 18 человек.
С. 547. «И опера» ~ «Нет, Великий пост и война!» — Каждый год во время Великого поста закрывались театры, прекращались балы и маскарады. Единственным дозволенным развлечением были концерты, в которых участвовали как свои, так и приезжие певцы и музыканты. Подробнее об этом см.: Столпянский П. Н. Старый Петербург: Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1926. С. 12—14.
- 724 -
С. 547. В другом месте всё жилище состоит из очага... — «Очаг устраивается по-разному. При простейшем устройстве очага на полу стоит бамбуковый ящик, наполненный землей или золой, в котором лежат камни, чтобы ставить посуду во время приготовления пищи. Более совершенный очаг устроен иначе. Около одной из стен имеется приподнятая площадка для очага. На ней размещено несколько глиняных печек, чаще всего две-три. Каждая такая печка имеет свою топку» (Тихонов Д. И. Жилища и типы сельских поселений на Филиппинах // Культура и быт народов стран Тихого и Индийского океанов. М.; Л., 1966. С. 229).
С. 548. Солдаты всё тагалы. Их, кто говорит, до шести, кто — до девяти тысяч. Офицеры и унтер-офицеры — испанцы. — Ср. у Вилкса «Сейчас (в 1842 г. — Ред.) армия состоит исключительно из туземных войск, число которых приближается к 6000 человек, при этом полки никогда не допускаются к службе в тех провинциях, где они вербовались: рекруты с севера отсылаются на юг и наоборот» (Wilkes. Vol. 5. P. 293); эти данные в дальнейшем уточняются: «Шесть тысяч войска размещено в Маниле, общая же численность филиппинской армии — 12000 человек. Все офицеры — испанцы. <...> Солдатам платят 4 доллара в месяц, не считая пайка, который равен шести центам в день» (Wilkes. Vol. 5. P. 299). По сведениям В. М. Головнина, «...в Маниле и окрестностях оной число войск всегда простирается до 8 тысяч, в том числе эскадрон кавалерии; в военное время они могут выставить в поле 20 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 430). В. А. Римский-Корсаков сообщает о «10 000 туземного войска» (Римский-Корсаков. С. 302).
С. 548. ...благовест ~ Это «Angelus». — «Angelus» — католическая молитва, повторяемая во время ежедневных богослужений (утром, в полдень и вечером), каждый стих которой сопровождается трехкратным произнесением «Ave Maria» и звоном колокола.
С. 548. Мы поехали на Эскольту... — Эскольта — центральная улица предместья Бинондо, которая начинается «сразу за мостом, соединяющим Манилу и Бинондо» (Mallat. Vol. 1. P. 171). Название улицы связывают с обычаем ежевечерних прогулок по ней генерал-капитана (см. ниже, с. 725, примеч. к с. 555) в сопровождении свиты (исп. escolt — эскорт, свита). Ср. описание улицы: «Проходя по Эскольте (которая является самой длинной и самой главной улицей в этом районе), первым делом наталкиваешься на краснодеревщиков, энергично работающих в своих магазинах. Затем идут лудильщики и кузнецы, сапожники, портные, торговцы рыбой, галантерейщики etc., расположившиеся на открытом воздухе. На каждом шагу множество поваров жарят лепешки, тушат etc. на передвижных кухнях; здесь и там снуют, привлекая покупателей, или стоят на самом проходе продавцы бетеля. Толпа носильщиков, официантов, посыльных etc. перемещается безмолвно, не производя ни малейшего шума» (Wilkes. Vol. 5. P. 278).
С. 548. Сорбетто — сладкий, густой полузамороженный напиток из молока, яиц и фруктовых соков.
С. 551. Кучер привез нас в испанский город ~ и очутились в редакции. — Возможно, речь идет о редакции официальной «Del Superior Grovierno» (основана в 1811 г.). Кроме этой газеты в Маниле выходили: «El Filantropo» (с 1822 г.), «Registro Mercantil» (с 1824 г.), «El Noticiero Filipino» (с 1838 г.), «El Amigodel Pais» (с 1845 г.),
- 725 -
«Diario de Manila» (c 1848 г). «Несколько газет, издающихся в Маниле, полностью находятся под контролем правительства. <...> Филиппинское правительство придерживается самых железных правил, и как долго это продлится — неизвестно!» — замечал Ч. Вилкс (Wilkes. Vol. 5. P. 293).
С. 552—554. Фабрика — огромное квадратное здание в предместий Бинондо ~ «Восемь-девять тысяч!» — повторил я в изумлении... — Русские путешественники посетили одну из двух королевских табачных фабрик в Маниле, о которых Ч. Вилкс писал: «Среди местных достопримечательностей королевские фабрики сигар требуют специального описания, как из-за своих размеров, так и по количеству людей, на них занятых. Здесь два таких учреждения, одно расположено в районе Бинондо, другое — на большой площади (Prado). Мы посетили первое из них. <Фабрика>, обнесенная стеной с двумя воротами, у которых всегда стоят часовые, состоит из двухэтажного здания и отдельно стоящих складов. Главный цех находится во втором этаже, поделенном на 6 комнат, в которых работают 8000 женщин. <...> Каждая работница производит около 200 сигар в день; рабочий день длится с 6 часов утра до 6 часов вечера с перерывом на 2 часа — с одиннадцати до часу дня. <...> Возраст работниц варьируется от 15 до 45 лет. <...> В целом число людей, занятых на фабриках, включая офицеров, клерков, надзирателей etc, приближается к 15000 человек. По моим приблизительным подсчетам, годовой доход от этих двух учреждений равняется полумиллиону долларов» (Wilkes. Vol. 5. P. 295—296).
С. 555. ...мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. — Генерал-губернатор, или, точнее, генерал-капитан (ср.: «генерал-капитан, или, по-нашему, генерал-губернатор» — Римский-Корсаков. С. 302), являлся главой колониального правления Филиппин, ему же в качестве провинций подчинялись Каролинские и Марианские острова. Генерал-капитан назначался непосредственно королем на четырехлетний срок (обычно этот пост получали испанские чиновники или офицеры, служившие до того в латиноамериканских колониях). В руках генерал-капитана были сосредоточены функции исполнительной, судебной и военной власти. Несмотря на существование совещательного совета (Real Audiencia), номинально являвшегося высшим судебным органом колонии, генерал-капитан, будучи его председателем, имел право единоличного решения судебных дел. Любой королевский указ также вступал в силу только после одобрения генерал-капитана, по причине предоставленного ему права самостоятельно решать, применим ли данный указ в филиппинских условиях. В случае отсутствия генерал-губернатора пост главы колониального правительства занимал архиепископ Манилы. См. об этом: Левтонова. С. 19, 22.
С. 556. Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных — до трехсот, сказал кто-то: пошутил, верно. — Гончаров приводит сведения, почерпнутые у Ж.-Б. Малля (см.: Mallat. Vol. 2. P. 248; указано в статье: Drews P. Die Darstellung nichteuropäischer Völker in I. A. Gončarovs «Fregat „Pallada”» // Leben, Werk und Wirkung. S. 290).
С. 556. Играли много, между прочим из Верди, которого здесь предпочитают всем, я не успел разобрать почему ~ или только потому, что
- 726 -
он новее всех. — О стремительно нарастающей популярности музыки Дж. Верди писали с конца 1840-х гг. (см., например, рецензию В. П. Боткина «Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» — С. 1850. № 1. Смесь. С. 87). Учитывая же то, что речь в тексте Гончарова идет о военных духовых оркестрах, замеченное писателем «предпочтение» можно объяснить еще и большим количеством маршеобразной фактуры, характерной для ранних опер Верди; ср.: «Первые оперы Верди „Nabucco”, „Ernani”, „Lombardi” и многие другие наполнены маршами, хорами, громко и сильно инструментованы <...> очевидно, что когда Верди писал первые свои оперы, он еще мало был знаком с искусством пения, потому что бо́льшая часть мотивов задуманы скорее для какого-нибудь духового или струнного инструмента, чем для человеческого голоса» (Пантеон. 1853. Т. 8, кн. 3. Театральная летопись. С. 18—19). О Верди см. выше, с. 569, примеч. к с. 119.
С. 557. ...заведывает христианскою паствою в провинции Джедзиан ~ знаменитый город Сучеу. — Имеется в виду город (современное название — Сучжоу) в Восточном Китае, порт близ озера Тайху, на Великом канале; современное название провинции — Цзянсу.
С. 558. Монастырь занимает большой угол в испанском городе... — Монастырь Св. Августина представлял собой прямоугольник, фасадной стеной которого являлась церковь Сан-Агустин, выходившая на ратушную площадь (см. выше, с. 719, примеч. к с. 536); в центре прямоугольника находился «сад отца Мануэля Бланко», ученого монаха, посвятившего свою жизнь описанию флоры архипелага.
С. 558. ...испанская королева разрешилась от бремени дочерью. — Имеется в виду правящая королева Испании Изабелла II (1830—1904); находилась у власти с 1833 по 1868 г.
С. 558. ...показывая на картину, изображающую обращение Св. Павла. — Речь идет о картине неизвестного художника на новозаветный сюжет (см.: Деян. 9:1—20).
С. 558. Буазери — деревянная обшивка стен (фр. boiserie).
С. 558. ...соотечественникам Мурильо». — Бартоломео Эстебан Мурильо (Murillo; 1618—1682) — испанский художник севильской школы. Горячим поклонником Мурильо был В. П. Боткин, посвятивший описанию и анализу полотен художника не одну восторженную страницу своих «Писем об Испании»: «... если вы не знаете Мурильо, если вы не знаете его именно здесь, в Севилье, верьте, целый мир, исполненный невыразимого очарования, еще неизвестен вам. Этому человеку все доступно: и самая глубокая, сокровенная мистика души, и простая вседневная жизнь, и самая грязная природа; все представляет он в поразительной истине и реальности» (Боткин. С. 69).
С. 560. Чусанский архипелаг — общее название группы островов у южного входа в залив Ханьчжоу.
С. 562. ...в Нинпо... — Нинпо (современное название — Нинбо) — город на Востоке Китая (провинция Чжэцзян), морской порт в устье реки Юнцзян.
С. 562. ...в предместье Тондо. — См. выше, с. 723, примеч. к с. 546—547.
С. 562. ...какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера... — Реал (от исп. real — королевский) — мелкая серебряная монета (1/20 пиастра), обращавшаяся в Испании с XIII в. до
- 727 -
1870-х гг. и чеканившаяся также в Португалии и Бразилии. Талер (нем. taler) — крупная серебряная монета, чеканившаяся с начала XVI в. в Чехии; с 1565 г. использовалась в качестве денежной единицы Священной Римской империи; содержала до 30 г. (1 унция) чистого серебра; изъята из обращения в 1908 г. О дешевизне рабочей силы на Филиппинах писал и Ч. Вилкс; по его сведениям, «обычная плата в Маниле и ее окрестностях — двенадцать с половиной центов в день; в провинциях же она составляет от шести до девяти центов» (Wilkes. Vol. 5. P. 290).
С. 562. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. — Иначе туба (tuba) — пальмовое вино, перебродивший сок кокосовой пальмы (см.: Mallat. Vol. 1. P. 68—69).
С. 563. От нового губернатора, маркиза Новичелиса... — Мануэль Павия (Manuel Pavia у Lay), маркиз де Новаличес (Novaliches) — генерал-лейтенант; назначен генерал-капитаном Филиппин без предварительного обсуждения; прибыл в Манилу 2 февраля 1854 г.; находился на своем посту до 28 октября того же года. За это время перевооружил армию, подавил мятеж туземной части войска, учредил ежемесячную почту между Манилой и Гонконгом (см.: Encyclopedia of the Philippines / Ed. M. Galang Zoilo. Manila, 1951. Vol. 4. P. 340).
С. 563. ...индийцы на прочих островах стали пошаливать. ~ они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат. — Самое серьезное сопротивление испанским колонизаторам оказывалось в мусульманских регионах Филиппинского архипелага (в число которых входил и остров Минданао). В 1851 г. испанцам с помощью парового флота удалось захватить столицу султаната Холо, что вынудило султана подписать договор о протекторате Испании. Окончательная ликвидация независимости султаната была достигнута в ходе военной кампании 1877—1888 гг. Подробнее см.: Левтонова. С. 112—115.
С. 563. В губернаторе находят пока один недостаток ~ важничает, как петух... — Высокомерие губернатора вряд ли объяснялось только особенностями его характера: испанские власти были обеспокоены надвигавшейся войной; ср. замечание Е. В. Путятина: «...новый, только что приехавший из Испании генерал-губернатор Филиппинских островов, судя по холодному, сделанному им мне приему, смотрел не совсем благосклонно на наше прибытие» (Всеподданнейший отчет. С. 192).
С. 563. Мы с трудом пробрались сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. — См. выше, с. 720, примеч. к с. 538—539.
С. 563. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. — Ср.: «Зрелища переполнены полукровками (метисами), которые являются самыми азартными игроками, в отличие от испанцев, как высших, так и низших классов. Не будет преувеличением сказать, что местный средний класс — это петушиные бойцы, вся жизнь которых состоит в выращивании и битвах этих птиц» (Wilkes. Vol. 5. P. 300)
С. 564. ...между которыми были и золотые дублоны. — Дублон (исп. doblon — двойной) — крупная золотая монета, содержавшая около 8 г. высокопробного золота и равная по стоимости 5 пиастрам; изъята из обращения в 1868 г.
- 728 -
С. 566. В провинции Тондо казна получает до 80 000 долларов подати, в других — где 20, где 15 000. — Административным центром алькальдства Тондо являлась Манила, что и объясняет бо́лъшую, по сравнению с другими провинциями, сумму подати.
С. 566. Говорят, в Маниле до тысячи пород деревьев. — На Филиппинских островах произрастает до 3000 пород деревьев.
С. 567. Говорят, на озерах ~ есть образовавшийся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды... — Речь идет об одной из достопримечательностей острова — озере Тааль, «расположенном недалеко от Манилы, если следовать на юго-запад»: в центре этого озера возвышается действующий вулкан, в конусе которого находится еще одно озеро (Wilkes. Vol. 5. P. 317).
С. 567. ...будто бы поймали каймана... — С. Д. Муравейский заметил, что кайманы обитают лишь в Северной и Южной Америке: «Речь, видимо, идет о гребнистом крокодиле — опасном и весьма распространенном на Зондских и Филиппинских островах» (Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». М., 1957. С. 647 (примечания С. Д. Муравейского)). Однако Ж. Дюмон-Дюрвиль, Р. Сен-Круа и П. Добель вторят Гончарову; ср., например: «В лагуне водится настоящий кайман (род крокодила) в 24 фута длиною. Самка его имеет 25 футов длины» (Добель. Ч. 2. С. 247). По-видимому, слово «кайман», занесенное на Филиппины служившими до того в южноамериканских колониях испанцами, вытеснило прочие обозначения.
С. 567. ...летучие мыши, величиной с ястреба и больше. — Гончаров рассказывает о плодоядных крыланах (летучих собаках), размах крыльев которых достигает полутора метров при длине туловища 40 см.
С. 567. ...ящерицы ~ кидаются на грудь человеку ~ тогда они бросаются на свое отражение. — «По всей вероятности, речь идет о геконе токи, достигающем 36 см длины. Токи весьма распространен в Юго-Восточной Азии. Про этого гекона рассказывают много небылиц, одну из небылиц рассказал и Гончаров» (Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». С. 647).
С. 567. ...американец Мегфор». — Добрые отношения между Мегфором и русскими моряками сохранялись и далее — В. А. Римский-Корсаков в письме от 20 февраля 1857 г. сообщает родным: «Это удовольствие (поездку внутрь края. — Ред.) доставил мне один из прежних моих знакомых, некто господин Метхор, североамериканец, владелец канатного завода, выделывающий известный манильский трос из волокон банана» (Римский-Корсаков. С. 301).
С. 568. ...из волокон дерева, похожего несколько на банановое. Мегфор называет его plantin. — Имеется в виду абаки (Musa textillis) — многолетнее волокнистое растение из семейства банановых, текстильный банан: «Среди главных произведений этих островов упомяну пеньку, хотя предмет, называемый „манильской пенькой”, не должно смешивать с растением, из которого изготовляют обычную пеньку (Cannabis). Манильская пенька получается из разновидности плантана (Musa textillis), который филиппинцы называют „абака”. Это местное растение островов, и прежде его можно было найти только на Минданао, теперь же оно выращивается и в южной части Люсона, и на всех островах, что южнее его. <...> Оно похоже на другое растение из рода плантанов, но плоды этого последнего
- 729 -
намного мельче, хоть и употребляются в пищу. Волокно извлекается из ствола, поэтому растение должно достигнуть высоты 15 или 20 футов. <...> Из всех регионов, в которых произрастает абака, ее пересылают в Манилу, которая является единственным портом, откуда возможен легальный экспорт» (Wilkes. Vol. 5. P. 288). Плантан (англ. plantain) — растение из семейства банановых (Musaceae); культурный вид.
С. 569. Отправляют товар больше в Америку... — «Экспорт <абаки> сильно вырос за несколько последних лет вследствие высокого спроса из Соединенных Штатов; весь урожай монополизирован двумя американскими компаниями в Маниле: „Sturges & С°” и „T. N. Peale & C°”, которые скупают весь товар хорошего качества, поступающий на рынок. Из-за конкуренции между двумя этими домами цена за один пикуль <абаки> колеблется от 4 до 5 долларов. В целом объем экспорта вырос с 83 790 пикулей в 1840 году до 87 000 пикулей в 1841. Объем экспорта в Соединенные Штаты в 1840 году составил 62800 пикулей, а в 1841 — только 62 700 пикулей, что по манильским ценам составляет 300 000 долларов. 20 000 пикулей уходит в Европу. <...> Все, что привозится в Соединенные Штаты, перерабатывается главным образом недалеко от Бостона, откуда и расходятся снасти, известные под названием „белый канат” («white rope»)» (Wilkes. Vol. 5. P. 288—289).
С. 569. Фабрика ~ принадлежит Старджису, представителю в настоящее время американского дома Russel и С° в Маниле... — Вильям Старджис (Sturges; 1782—1863) — американский коммерсант, возглавлявший манильское отделение компании «Russel & C°». Благодаря поддержке английского банковского дома «Baring Brothers» контролировал 50% торговли США со странами тихоокеанского бассейна и Китаем в продолжение 1810—1840 гг. Отделение имело тесную связь с американским торговым домом в Кантоне (подробнее см.: Regior у Jurado A. Commercial progress in the Philippines // The Philippine Social Science Review. 1939. Vol. 11. № 3. P. 83—84). См. также выше, с. 665, примеч. к с. 414.
С. 569. Говорят, американский коммодор Перри придет сюда с своей эскадрой помогать отыскивать их. — О М. К. Перри см. выше, с. 567—568, примеч. к с. 106.
С. 570. «Una peso» («Один пиастр»), — сказал он. — Песо (peso), или пиастр (piastre), или дуро (duro), — испанская крупная серебряная монета, равная 20 реалам (2 эскудо); содержала около 26 г. высокопробного серебра.
С. 571. ...на Невском проспекте, у Тенкате... — Голландский табачный магазин «Тенкате и К°», принадлежавший купцу 2-й гильдии Корнелиусу Тенкате, помещался в доме № 23 по Невскому проспекту.
С. 571. Кто-то искал счастья по всему миру и нашел же его, воротясь, у своего изголовья. — Возможная отсылка к сюжету стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Искатели Фортуны» (1794).
С. 571. ...в Эперне не удастся выпить бутылки хорошего шампанского... — Эперне (Epernay) — французский город, расположенный на левом берегу реки Марны; центр производства и главный складочный пункт шампанских вин в XIX в. В Эперне производились также бутылки, пробки и прочие принадлежности, необходимые для торговли шампанским.
- 730 -
С. 571. ...а в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет... — Пожарские котлеты — рубленые котлеты из фарша кур и рябчиков; в начале XIX в. изготовлялись только в ресторане Пожарского в Торжке.
С. 571. ...тот, без всяких фактур и заказов... — Фактура — «роспись товарам, с расценкой их: накладная или счет» (Даль. Т. 4. С. 531).
С. 574. ...из двух тагальских слов: matron nila ~ а нилой называется какая-то трава, которая растет по берегам Пассига. — Этимология топонима приведена по книге Ж.-Б. Малля: «Считается, что город Манила получил свое название от растения, которое в изобилии произрастает в его окрестностях. Местные жители называют его Nilad (Ixoramanila, Bl.). Прибавленное слово та (сокращенное mayron) означает по-тагальски „есть”, „имеется”. Этот куст прячется среди зарослей черных ризофор, которыми покрыты великолепные пляжи Манильского залива, впрочем как и бо́льшая часть остальных побережий архипелага» (Mallat. Vol. 1. P. 161; см. также p. 34).
С. 574. Люсон взято от тагальского слова лосонг: так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы, а эти последние и назвали остров Лосонг. — «Остров был назван так из-за того, что у каждого жителя, независимо от рода его занятий, имелась большая деревянная цилиндрическая ступка для обрушивания риса, являющегося здесь основным продуктом питания. На туземном языке эти ступки называются losongs» (Mallat. Vol. 1. P. 33; см. также р. 54, 68); ср.: «Испанцы называют сей остров Луцон (Luzon), что значит толкач, которым пшено сарачинское толкут: имя сие дали ему первые испанцы, посетившие остров, потому что они жителей беспрестанно видели с пестом в руках в сем занятии» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 416—417). Современные исследователи более вероятным считают китайское происхождение топонима: в Китае Филиппины называли Ма-и («земля варваров») или Лю-сун («земля, расположенная поблизости от материка»).
С. 575. Тагал, или тагаилог, значит житель рек. — «Название Тагалоги произошло от Taga Ylog, что на туземном языке означает житель рек» (Mallat. Vol. 1. P. 34).
С. 575. ...но и mo в декабре, январе и феврале ~ В летние месяцы льются потоки дождя... — В западной части Филиппинского архипелага времена года определяются происхождением постоянно действующих здесь муссонов: сезон дождей (северо-восточный муссон) длится с июня по ноябрь, сухой сезон (юго-западный муссон) — с декабря по май. При этом сухой сезон делится на прохладный (декабрь-февраль) и жаркий (март-май).
С. 576. Вам лень встать ~ взять с полки книгу и прочесть, что Филиппинские острова лежат между 114 и 134° восточн<ой> долг<оты>, 5 и 20º северн<ой> шир<оты>, что самый большой остров — Люсон, с столичным городом Манила, потом следуют острова: Магинданао, Сулу, Палауан; меньшие: Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие. — Источник сведений Гончарова выявить не удалось. Филиппинский архипелаг тянется более чем на 1800 км с севера на юг от 21º 25′ до 4º 23′ северной широты и на 1120 км с запада на восток от 116º 40′ до 127º восточной долготы. Современные географы насчитывают в нем около 7100 островов и островков, при этом 95% всей
- 731 -
сухопутной площади архипелага (300 000 кв. км) приходятся на 11 главных островов, среди которых Лусон (105 000 кв. км), Минданао (95 000 кв. км), Самар, Негрос, Палаван, Панай, Миндоро, Лейте, Себу, Бохоль и Масбате. Более 4500 мелких и мельчайших островов безымянны. Здесь и ниже Гончаров ошибается в названии острова Минданао (правильное наименование ср.: наст. изд., т. 2, с. 563: «...они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат»). Магинданао — название народности, населяющей большую часть острова (второй крупный этнос Минданао — ирануны) и создавшей к XIII в. одноименный султанат. Объяснение такой неточности в словоупотреблении можно найти у Э. Белчера, который пишет: «Остров Минданао, или Магинданао на старых картах» (Belcher. Vol. 1. P. 105).
С. 576. В 1521 году Магеллан, первый, с своими кораблями пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую, цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пассига. — Сведения почерпнуты Гончаровым из монографии Ж.-Б. Малля (см.: Mallat. Vol. 1. P. 10); по современным источникам, первая высадка испанских конкистадоров (март 1521 г.) была произведена на небольшой остров Лимасава, расположенный неподалеку от острова Себу (см.: Левтонова. С. 39). См. также выше, с. 723, примеч. к с. 547.
С. 576. Вторая экспедиция приставала к Магинданао в 1524 году, под начальством Хуана Гарсиа Хозе де Лоаиза. — Корабль под командованием испанского монаха Хуана Гарсия Хофре де Лоайсы (Loaisa; ум. 1526) отплыл от берегов Испании в середине 1525 г.; среди членов экспедиции были капитан Урданетга, Акуно, д’Элькано и другие. Сам Лоайса не достиг Филиппинских островов, он умер в пути; его корабль прибыл к архипелагу только в 1526 г.
С. 576—577. Спустя недолго приходил мореплаватель Виллалобос, который и дал островам название Филиппинских в честь наследника престола, Филиппа II, тогда еще принца астурийского. — Непосредственной целью военной экспедиции во главе с Руисом Лопесом де Вильялобосом (Villalobos; ум. 1546), отправленной из Мексики в 1542 г., являлись Молуккские острова, принадлежавшие Португалии. На пути к «островам пряностей» испанские суда заходили в гавани островов Самар и Лейте (февраль 1543 г.). Один из членов экспедиции, Бернардо де ла Торре, предложил назвать этот район архипелага Филиппинами в честь испанского наследного принца Филиппа. Позднее название было распространено на все острова архипелага.
С. 577. В 1644 году Мигель Лопец Легаспи пришел, с пятью монахами ордена августинцев и с пятью судами, покорять острова силою креста и оружия. ~ покорил и остров Лосонг ~ основал нынешний город... — В 1564 г. из мексиканского порта Нативидад вышла военная эскадра под командованием Мигеля Лопеса де Легаспи (Legazpi; 1510—1572). Советником Легаспи был участник многих военных походов, картограф, искусный навигатор, августинец Андрее де Урданетта, однажды уже побывавший на Филиппинах в составе экспедиции Лоайсы (см. выше, примеч. к с. 576). Кроме личного состава на кораблях эскадры, состоявшей из пяти военных судов, находилось 500 солдат и 5 монахов-августинцев. Высадка конкистадоров произведена на остров Себу в апреле 1565 г., там же заложено первое укрепленное поселение (позднее г. Себу). В 1565—1570 гг., при помощи «кровных» союзников из туземцев, были завоеваны Висайи и Северный Минданао.
- 732 -
В 1570 г. отрядом под командованием внука Легаспи Хуана де Сальдеседо была предпринята попытка овладеть островом Люсон, не увенчавшаяся успехом. В 1571 г. военными действиями по захвату Люсона руководил сам Легаспи, он добился цели и перенес столицу колонии в Манилу.
С. 577. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая процветает и поныне. — Сведения почерпнуты Гончаровым из книги Ж.-Б. Малля (см.: Mallat Vol. 1. P. 38), в действительности, первые группы китайских торговцев-иммигрантов появились в прибрежных районах Люсона еще во времена сунского Китая (X—XIII вв.). Центр внешней торговли в районе современной Манилы сложился также задолго до прихода испанцев. Подробнее об этом см.: Левтонова. С. 16—17, 26—27.
С. 577. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы... — Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден, созданный Франциском Ассизским (Franciscus Assisiatis; 1181 или 1182—1226) в Италии в 1207—1209 гг.; самим основателем был назван Орденом меньших братьев (минориты), утвержден папой под этим названием в 1223 г. Доминиканцы — католический орден странствующих братьев проповедников; основан Св. Домиником (Saint Dominique; 1170—1221) в Тулузе в 1215 г.; утвержден папой в 1216 г. «Первыми в миссионерстве, — пишет автор монографии о католической Конгрегации по распространению веры, — являются члены орденов францисканского и доминиканского. <...> И те и другие поставили себе главною задачею обращать в христианство те народы, которые не были просвещены еще Евангелием и <...> распространять везде власть папы. Эти задачи заключались уже и в уставах орденов, которые папа утвердил» (Никодим, архим. Римская пропаганда, ее история и нынешнее состояние. СПб., 1889. С. 21). Специальным указом Совета по делам Индий (конец XVI в.) территория Филиппинских островов была поделена между четырьмя монашескими орденами: августинцами (обосновались на архипелаге с 1565 г.), францисканцами (с 1577 г.), иезуитами (с 1581 г.) и доминиканцами (с 1587 г.). Лучшие земли (Центральный и Южный Люсон) отошли августинцам и францисканцам, наиболее проблемные территории, пограничные с землями независимого султаната Сулу (Висайские острова, Северный Минданао), получили иезуиты, столица колонии была поделена между всеми четырьмя орденами. Иезуиты изгнаны с Филиппин в 1768 г., их имущество конфисковано в пользу правительства. Подробнее об этом см.: Левтонова. С. 50.
С. 577. ...августинский монастырь древнейший, построенный по плану архитектора, строившего Эскуриал. — Проект дворца-монастыря Эскориала составлен архитектором Хуаном Батиста де Толедо (Toledo; ум. 1567) в 1563 г. После смерти Толедо руководство строительством перешло к его ученику — Хуану де Эррера (Неггега; 1530—1597), который расширил и во многом изменил первоначальный проект. Выстроенный им для Филиппа II дворцовый комплекс объединил церковь Св. Лаврентия, монастырь, королевские покои, мавзолей-усыпальницу и библиотеку, в плане представляет собой гигантский по размерам прямоугольник с угловыми башнями и церковным куполом, центрирующим комплекс.
С. 577. ...не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов... — Крупнейшим из таких нападений стало вторжение китайских
- 733 -
переселенцев во главе с Лимагоном (Limahong) в 1574 г.: «Перед Манильею появился китайский пират, прозванный царем Лимагоном. <...> Он замыслил покорить Люсон с 62 шампанами, на которых находилось две тысячи солдат, не считая матросов и 1500 женщин» (Дюмон-Дюрвилъ. Ч. 1. С. 318). Нападение китайцев было отбито, причем одна часть войска отступила на остров Формозу (современное название — Тайвань), другая — в горы Люсона, где смешалась с местным населением.
С. 577. ...далее голландцев... — В 1609 г. в Манильском заливе появилась голландская военная флотилия из пяти хорошо вооруженных судов под командованием адмирала Виттерта. Блокада столицы продолжалась несколько месяцев и закончилась победой Испании: в 1610 г. голландские корабли ушли из Манильского залива. Заслуга в организации обороны Манилы принадлежала только что прибывшему на острова испанскому губернатору Хуану де Сильва, опытному и способному военачальнику, сумевшему выиграть решающее морское сражение с голландцами. В последующие годы им же были развернуты работы по военному укреплению столицы, благодаря которым были отражены атаки голландского флота в 1616, 1617 и 1645 гг.
С. 577. ...наконец, англичан. ~ напали, в 1762 году, и на Манилу и вконец разорили ее. — В 1761 г. Испания присоединилась к «семейному пакту» французских, итальянских и испанских Бурбонов против Англии и с начала 1762 г. объявила себя в состоянии войны с ней. В сентябре того же года из Мадраса была отправлена военная эскадра под командованием У. Дрэйпера для захвата Манилы. Уже в конце сентября флотилия Дрэйпера вошла в Манильский залив и застала город врасплох (сведения о войне с Англией еще не дошли до Филиппин). Исполняющий обязанности генерал-капитана архиепископ манильский Мануэль Рохо проявил полную неспособность в организации обороны, и 30 октября 1762 г. был подписан договор о капитуляции Манилы, по которому «все острова, зависимые от Лусона и Манилы <...> и находящиеся под властью его католического величества», переходили к «его британскому величеству» вплоть до подписания мира между воюющими сторонами. Оккупация Манилы англичанами продолжалась с 1762 по 1765 г.
С. 577. Через год и семь месяцев мир был заключен и колония возвращена Испании. — По Парижскому мирному договору (март 1763 г.), Испания в обмен на Филиппинские острова уступала Англии Флориду.
С. 578. Индиго — известный с глубокой древности краситель, добываемый из индигоносных растений; применялся для крашения шерсти и хлопка в синий цвет (от исп. indigo — индийский).
С. 578. Зри «Kaufmännische Berichte, gesammelt auf einer Reise um die Welt von W. H. Nopitsch». — О В.-Г. Нопиче и его сочинении см. выше, с. 669, примеч. к с. 433. В разделе книги Нопича, посвященном Маниле, приводились сведения об экспорте и импорте испанской колонии на Филиппинах (S. 78—96).
- 734 -
VI
ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ
С. 579. Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их ~ корвет — еще куда-то. — Корвет «Оливуца» был отослан Путятиным к берегам Сибири «в Петропавловский порт для усиления средств обороны Камчатки» (Всеподданнейший отчет. С. 193).
С. 579—580. Сами идем на островок Гамильтон, у корейского берега... — Имеется в виду порт Гамильтон на острове Чиндо.
С. 580. В Гонконг всего бы лучше, но это значит прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона. — В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 13 (25) марта 1854 г. Гончаров дает более подробное объяснение сложившейся ситуации: «Возьмите общую карту Азии или просто обоих полушарий, и к югу от Китая и Японии вы увидите как будто засиженное мухами небольшое пространство: это и будет архипелаг Филиппинских островов. Их всех до тысячи: у одной из этих тысячных долей, отмеченных на карте точкою, лежащей немного к северу от главного острова Люсона, стоят в заливе в порте Пия V наши два судна, прячась от англичан. Если у нас с ними война, то, конечно, они не замедлят явиться из Китая со всеми своими фрегатами и пароходами в Восточный океан искать и взять нас. Наши отдаваться не намерены, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух. Не одно опасение встретиться с англичанами заставило нас зайти на этот покрытый сильною тропическою растительностью, но безлюдный островок: судно наше всё более и более напоминает, что ему пора на покой. Еще во время выдержанного нами в июле прошлого года тифона грот-мачта зашаталась у нас, а в нынешнем году погнулась набок и фок-мачта и на днях дала трещину. Надо было куда-нибудь забежать, чтобы взнуздать ее немножко, пока придем на север, в свои колонии, и дождемся там „Дианы”. В другое время мы сейчас же бы зашли в Шанхай, Гонконг, а теперь того и гляди началась с англичанами война: эти порты в их руках, и мы попались бы к ним живьем. Нейтральных портов вблизи нет, кроме Манилы (на Люсоне) да Нагасаки. Но англичане не уважат нейтральных прав, потому что и Испания и Япония слабы и помешать им не в силах».
С. 580. ...потом дом испанского алькада... — Провинциальное управление испанской колонией на Филиппинах находилось в руках губернаторов-алькальдов, которые назначались из числа мелких колониальных чиновников или офицеров низших рангов сроком на 3—5 лет. См. также выше, с. 603, примеч. к с. 295.
С. 585. ...как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей... — Троянский жрец Лаокоон, яростно возражавший против введения в город деревянного коня, оставленного данайцами у стен Трои, был задушен двумя приплывшими по морю змеями («Энеида», II). Этот эпизод был увековечен в прославленной скульптурной группе родосских мастеров Агесандра, Полидора и Атенодора (I в. до н. э.), хранящейся в Ватикане. Мраморная копия с этой скульптуры, приобретенная у автора (П. А. Трискорни) в 1798 г., являлась одним из экспонатов второй античной галереи Академии художеств; ныне находится в экспозиции Эрмитажа.
- 735 -
С. 586. Уже три дня рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное, аршина два длиной. ~ «Это дракон, ваше высокоблагородие, — заключил, подумавши, один унтер-офицер... — Скорее всего, матросы охотились за вараном карабогоя (Varanus Salvator), распространенным в Индии, в Южном Китае и на всех островах Азии до северного берега Австралии. Взрослые экземпляры животного достигают 2.2 м длины.
С. 587. Как ни привык глаз смотреть на эти берега ~ обильную дань удивления этим чудесам природы. — Ср. впечатления одного из участников плавания «Паллады»: «Поверхность острова, начиная с долины и оканчивая острыми верхушками гор, покрыта привлекательной, густой зеленью самых разнообразных деревьев. Деревья эти, обвивая своими оригинальными корнями громадные глыбы камней, принимают весьма неправильные формы и растут более в ширину, нежели в высоту. Это всеобъемлющее зеленое покрывало набрасывает на остров какой-то монотонный колорит. Куда ни взглянешь, все та же непроницаемость, и только изредка блеснет узкая песчаная полоса берега или груда скопившихся камней, на которых одна за другой разбиваются морские волны после утомительного и долгого бега» (<Без подписи>. Порт Сан-Пио-Квинто // МСб. 1855. № 2. Ч. III. С. 39—40).
С. 587. ...самого чистого дикого цвета... — См.: наст. изд., т. 1, с. 759, примеч. к с. 205.
С. 594. Шкуна была уж там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. — Шхуна «Восток» прибыла к берегам Кореи от Ликейских островов, «куда ей предписано было зайти для собрания сведений о месте нахождения американской эскадры» (Всеподданнейший отчет. С. 193).
С. 594—595. Корею, в политическом отношении, можно было бы назвать самостоятельным государством ~ Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца. — Гончаров точно уловил суть отношений между Кореей и Китаем: обращение за инвеститурой, принятие китайского календаря и периодическое извещение о важных событиях в своей стране вместе с отправкой дани как символа верноподданности входили в понятие «садэ» («служение старшему»), которое обычно трактовалось европейскими историками как «признание вассального положения», но на самом деле было конфуцианской нормой дипломатических отношений малых стран со своим большим соседом — Китаем. Оно, как правило, не предполагало потери самостоятельности во внутренних или внешних сношениях, а регулярная «дань», поставляемая императору «вассалом», являлась скорее своеобразным видом меновой торговли, так как взамен «вассалы» всегда получали награды и подарки, эквивалентные размеру «дани». «Вассалитет» заключался лишь в определенном моральном принижении, утвердившемся в качестве непременного условия поддержания мирных отношений с китайскими императорами.
С. 595. ...до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи... — Обширный очерк административного, военного и гражданского состояния Кореи содержался в труде французского миссионера Ш. Далле (Histoire de l’église de Corée / Par Ch. Dallet. Paris, 1874. Vol. 1—2; рус. пер.: Корея. С. 40—70); более краткое
- 736 -
описание, касающееся только корейского государственного аппарата, содержалось в сочинении Ф.-Ф. Зибольда (см.: Зибольд. Т. 3. С. 91—96).
С. 595. ...китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обоими государствами незаселенными... — 70-верстная нейтральная полоса между Китаем и Кореей, получившая китайское обозначение Цзяньдао (корейск. — Кандо, яп. — Канто; в буквальном переводе — «остров между», т. е. между реками Туманган и Болохэтуньхэ), была уничтожена в 1870-х гг. Территория отошла к Китаю.
С. 596. На некоторых, впрочем немногих, были светло-желтые или синие халаты. — Халат (турумаги) — верхняя одежда корейцев, цвет которой мог обозначать социальный статус хозяина. М. А. Поджио пишет: «Цвет платья служащих зависит от их чина; так, платье сановников первых трех степеней бывает светло-красное, у чиновников до 6-й степени — темно-синее, а у чиновников до 9-й степени — светло-зеленое. Из других цветов преобладают: цвет некоторых растений, как-то цвет кунжута, чая, сои и т. д., а также фиолетовый, синий, коричневый и темно-желтый; светло-желтый же цвет запрещено носить, так как это королевский цвет. Имеющие ученую степень обшивают халат с боков длинной полосой из синей материи. Солдаты и полицейские чины носят платье общего покроя темно-синего цвета; куртка у них обшивается широкой черной бумажной тесьмой, а на спине и груди нашиваются круги из белого холста, на которых китайскими иероглифами показано, к какой части войска принадлежит данный солдат. Купцы, народ и т. п. носят белое платье, которое, однако, отличается от траурного тем, что слегка синеватого оттенка» (Поджио. С. 237). Ср. также замечание А. А. Пещурова в статье «Описание восточного берега полуострова Кореи»: «Полицейские чиновники, которых мы видели в порте Лазарева, имеют синие полукафтанья, такие же брюки и конические шляпы, украшенные лентами яркого цвета вместо перьев» (МСб. 1855. № 1. Ч. III. С. 37; без подписи).
С. 596. Что за шляпа! Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожи на волосяные, тем более что они черные. — Гончаров описывает характерную деталь национального корейского костюма, сохранившуюся и поныне. Ношение шляпы в Корее составляет привилегию взрослых, женатых мужчин, женщины и дети голову не покрывают. Ср.: «Представьте себе закрытую сверху трубу, круглую, как в европейских шляпах, но значительно более узкую и слегка заостренную, которая прикрепляется к вершине темени и в которую может войти только один волосяной шиньон. Эта труба снабжена полями, как и европейские шляпы, но поля эти так велики, что иногда все вместе образует круг свыше чем в шестьдесят центиметров в диаметре. Шляпы эти делаются из тонко нарезанных прутьев бамбукового дерева, обтянутых ажурной волосяной материей. Так как эти шляпы сами собой не могли бы крепко держаться на одних волосах, то существуют шнурки, завязываемые под подбородком, которые каждый чиновник, смотря по своему состоянию и сану, украшает янтарными и другими драгоценными шариками. Корейские шляпы не защищают ни от дождя, ни от холода, ни даже от солнца, и напрасно
- 737 -
вы будете ждать здесь какого-нибудь „но” в их пользу, они просто неудобны, в особенности когда ветер рвет их с головы» (Корея. С. 157—158).
С. 596. Многие носят большие очки в медной оправе, с тесемкой вокруг головы. ~ носят их не от близорукости, а от глазной болезни. — Возможно, речь идет о золотухе. К. Н. Посьет в своих заметках пишет, что «перевязки, сделанные нашим доктором двум мальчикам с золотушными глазами, облегчили их зрение» (Посьет ОЗ. № 4. С. 125). Ср.: «В старину корейцы понятия не имели об очках, и употребление их началось только в 1835 или 1840-х годах; около 1848 г. ношение очков положительно превратилось в моду, да и в настоящее время ношение их очень распространено среди высшего класса и ученых» (Поджио. С. 244).
С. 596. В толпе я заметил множество страждущих глазами. — В записках Ш. Далле высокая заболеваемость населения Кореи объяснялась низким качеством местной воды: «Климат в Корее довольно здоровый, но вода, безвкусная повсюду, служит источником множества болезней. <...> вода порождает золотуху, нервные припадки, чрезмерную опухоль одной какой-нибудь ноги, редко обеих вместе. <...> Корейцы называют эту болезнь „суто”, т. е. болезнью от воды и земли, в том смысле, что вода действует не только непосредственно, как питье, но и через плоды и овощи, которые она из полезных и безвредных превращает в нездоровые и опасные для здоровья» (Корея. С. 13—14).
С. 596. В 1786 году появилось в Едо сочинение японца Рин-Сифе, под заглавием: «Главное обозрение трех царств», ближайших к Японии, — Кореи, Лю-Цю (Лю-Чу) и Есо (Матсмая). — Имеется в виду издание: Rin Sifée (Hayashi Shihei). Sangoku tsuran zusetsu. leddo, 1786. Рин-Сифе (Хаяси Сихэй; 1738—1793) был одним из членов экспедиции, отправленной японским правительством на остров Хоккайдо (Мат-сумаэ, Эдзо) в 1770-х гг. (причиной экспедиции послужило письмо М. А. Бениовского (о нем см. выше, с. 702, примеч. к с. 494), в котором он сообщал об угрозе колонизации Хоккайдо Россией). Результатом экспедиции и стала книга Хаяси, в которой он уточнял карты Лю-Чу, Кореи и Эдзо. В связи с возможной русской экспансией он предлагал правительству сегуна такие меры, как скорейшая разработка неосвоенных земель и внедрение японской культуры среди туземцев.
С. 596. Клапрот ~ и перевел на французский язык. — Говоря о переводе сочинения Рин-Сифе, Гончаров имеет в виду издание: Klaproth H.-J. de. Aperçu général des trois Royaumes, Corée, de Liéou-Khiéou et Yéso, par Riusifié, traduit de l’original japonais-chinois. Paris, 1833. Генрих Юлиус де Клапрот (Klaproth; 1783—1835) — немецкий ориенталист. С 1804 г. жил и работал в России (адъюнкт Петербургской Академии наук по Отделению восточных языков и азиатской литературы), совершил путешествие по Сибири, во время которого ознакомился с жизнью тунгусов, башкир, якутов, киргизов, собрал большую коллекцию китайских, тибетских и монгольских книг; с 1807 г. — экстраординарный академик Петербургской Академии наук. В 1810 г., в результате конфликта с русской цензурой, оставил Петербург и переехал в Вильно, где ему была предложена должность профессора университета; в 1812 г. покинул Россию.
- 738 -
С. 597. ...с амфазом... — Амфаз (фр. emphase) — напыщенность, пафос.
С. 597. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. — Сравнение Гончарова относится к стиху «О Лазаре убогом», известному в нескольких вариантах (см., например: Калики перехожие / Сборник стихов и исследование П. Бессонова: В 6 ч. М., 1861. Ч. 1. С. 43—97; один из вариантов нотной записи к стиху см.: 40 народных песен, собранных Т. И. Филипповым и гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым. М., 1882. С. 10). «Из всех притч Господних, из всех евангельских повествований только сказание о Лазаре запало в душу народа, как яркое выражение социальной несправедливости, царящей в мире», — писал Г. П. Федотов (Федотов Г. П. Стихи духовные: (Русская народная вера по духовным стихам). М., 1991. С. 80).
С. 600. В толпе я видел одного корейца с четками в руках: кажется, буддийский бонз. — В 372 г., по приглашению когурёсского правителя, из цзиньского Китая прибыл монах Сундо, привезший религиозную литературу и изображения Будды. Буддизм получил быстрое распространение: уже к 375 г. в столице существовало два буддийских монастыря Чхомун и Ибуллан.
С. 600. Европейцы почти не посещали Корею. — Ср.: «Из всех стран Азии, в продолжение веков избегавших иностранцев, в настоящее время, может быть, один только Тибет в той же степени заслуживает названия terra incognita, в какой прилично это название Корее. <...> Внутренность этого полуострова до сих пор посещена только немногими миссионерами и Гамелем, шкипером голландского судна, разбившегося в 1653 году на одном из ближайших к югу островов. Он был отведен в столицу Кин-ки и, после тринадцатилетнего жестокого заключения, бежал» (Посьет ОЗ. № 4. С. 123). Подробное изложение вопроса, с учетом путешествий Броутона (1797), Максвелла и Холла (1818), Линдсея (1832), содержится в книге: Живописное путешествие по Азии, составленное под руководством Эйрие: В 6 т. / Пер. с фр. Е. Корша. М., 1839. Т. 1. С. 210—239.
С. 600. Последний был здесь Бельчер, кажется, в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель: он живо описывает свои путешествия. ~ описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение. — Эдвард Белчер (о нем см. с. 567, примеч. к с. 106) производил опись островов Чиндо (порт Гамильтон) и Чеджудо (Квельпарт) в 1845 г. (см.: Belcher. Vol. 1. P. 324—358; Vol. 2. P. 444—466). Стиль сочинения Белчера далек от беллетристичности; это «сухой, сжатый и максимально объективированный тип повествования» (Drews P. Die Darstellung nichteuropäischer Völker in I. A. Gončarovs «Fregat „Pallada”» // Leben, Werk und Wirkung. S. 288).
С. 600. ...в ураган он должен был срубить в Гонконге мачты; где-то на Борнео его положило на бок, и он, недели в три, без посторонней помощи, встал опять. — Описываемые Гончаровым события десятилетней давности отражались в свое время русской прессой: «На днях получили лорды Адмиралтейства известия из Сингапура о крушении у острова Борнео 26-пушечного фрегата ее величества „Самаранг” под командою капитана Бельчера. „Самаранг” <...> отправленный
- 739 -
весною 1843 года для описи Китайского моря, июня 27-го прибыл в Сингапур, а оттуда к описи реки Борровак на острове Борнео. <...> судно <...> нанесло на подводный коралловый риф и ударило с чрезвычайною силою. Несколько минут судно сохранило прямое положение; потом, сойдя с рифа, накренилось и мгновенно налилось водою. С большим трудом спаслась команда на ближайший берег. <...> Капитан Бельчер послал тотчас в Сингапур требовать помощи и занялся между тем спасением корпуса фрегата. Пушки бросили за борт и срубили мачты, но без пользы. <...> Капитан Бельчер и некоторые из офицеров находятся в доме британского консула в Борнео, а команда живет в небольшой колонии, милях в трех далее, на половинной порции» (Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 1844. Т. 2. С. 440—442). Через десять дней после крушения фрегат «Самаранг» был снят с гряды с помощью подведенного к нему плота и системы рычагов, изобретенной самим Белчером (см.: Там же. 1845. Т. 3. С. 425—426).
С. 600. Корейский архипелаг неисчислим. — Корейский архипелаг насчитывает около 3500 островов и скал в Желтом море, сосредоточенных у южного и юго-западного берегов полуострова.
С. 601. ...производя ~ японцев от курильцев... — См. выше, с. 631, примеч. к с. 331.
С. 602. ...китайцы едва достигли отрочества и состарелись; см. также с. 604: Китайцы заразили и их, и корейцев, и ликейцев своею младенчески старческою цивилизацией...; с. 616: Скучно с этими детьми. — Такой взгляд на китайскую цивилизацию близок некоторым положениям известного труда И.-Г. Гердера, писавшего: «...китайский народ, как многие другие племена на земном шаре, остановился на середине своего воспитания, как бы в отроческом возрасте» (Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 298). О Китае как «о трехмесячном ребенке с седыми волосами, с желтою, морщиноватою, как печеное яблоко, кожею, с сгорбленным станом» писал В. Г. Белинский (см.: Белинский. Т. IV. С. 18).
С. 603. Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. — См. выше, с. 672—673, примеч. к с. 435.
С. 603. ...старую, законную династию... — См. выше, с. 661, примеч. к с. 398.
С. 604. ...как изменилось на Сандвичевых островах например. — Сандвичевы острова — английское название «островов владетеля овайгийского» (современное название — Гавайские острова). Возможно, Гончаров соотносит свои размышления со следующим фрагментом из книги В. М. Головнина: «Сандвичевы острова представляют нам картину, где несколько тысяч взрослых и даже сединами украшенных детей вступают на ступень человека совершенных лет. <...> Теперь 40 лет только, как сандвичане узнали европейцев, и во времена посещения их Куком ружейный выстрел наводил на них ужас; но ныне они имеют до ста пушек разного калибра <...> и более 6000 человек, вооруженных ружьями и всею нужною для солдата амунициею. На острове Воагу <...> построена у них каменная четвероугольная крепость по всем правилам, как строятся приморские укрепления. <...> Когда мы подходили к сей гавани, тогда стояли в оной два брига, принадлежащие сандвическому королю, и четыре
- 740 -
американские судна; увидев все их под флагами и сандвический флаг, развевающийся на крепости, я не мог взирать на такой шаг к просвещению сего дикого народа без удивления и удовольствия, но, признаться, и не без стыда: весь восточный берег Сибири и Камчатки не представляет путешественнику ничего подобного сему!» (Головнин. «Камчатка». Т. 1. С. 324).
С. 605. Может быть, синологи, особенно синофилы, возразят многое на это... — Возможно, намек на Н. Я. Бичурина; ср.: «...привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского отец Иакинф. <...> Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и начинал ораторствовать о Китае, превознося до небес все китайское. Он до того окитаился вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностью стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950. С. 90; см. также: Денисов П. В. Никита Яковлевич Бичурин. Чебоксары, 1977). О синологах экспедиции О. А. Гошкевиче и о. Аввакуме см. выше, с. 433—435.
С. 605. 2-го же апреля, в один день с нами, пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. — Транспорт «Князь Меншиков» присоединился к эскадре 5 или 6 апреля 1854 г. (см.: Всеподданнейший отчет. С. 193).
С. 605. ...войска таутая Самква наделали беспорядков. ~ Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю, бросили в него несколько гранат и многих убили. ~ Бог знает, чем это все кончится. — Гончаров описывает вооруженный конфликт, вошедший в историю под названием «боя на грязевой равнине» (4 апреля 1854 г.). Марш, предпринятый к границам цинских лагерей, осуществлялся небольшим англо-франко-американским отрядом (380 человек), большая половина которого не имела ни малейшего представления о ведении боевых действий. Тем не менее после короткой перестрелки огромное и хорошо вооруженное цинское войско обратилось в бегство. Добравшиеся до опустевших императорских лагерей европейцы подожгли имевшиеся в них постройки, а артиллерийские форты сровняли с землей. Сухопутная атака иностранцев была поддержана обстрелом с трех европейских судов, стоявших на Шанхайском рейде (подробнее об этом см.: Кузес. С. 128—130). О таутае Самква см. также выше, с. 663, примеч. к с. 410.
С. 606. ...с картинок Зибольда. — См. выше, с. 629—630, примеч. к с. 329.
С. 606. Это был второй губернатор, Мизно Чикого-но-ками-сама... — О Мидзуно Тикуго-но-ками Таданори см. выше, с. 647, примеч. к с. 367.
С. 608. Первое движение у них ~ не сказать, второе — солгать, как у Талейрана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. — Имеется в виду фраза, приписываемая французскому государственному деятелю, дипломату Шарлю Морису Талейрану (Talleyrand-Perigord; 1754—1838): «Ne suivez jamais votre premier mouvement car il est bon».
С. 609. Фирандо — порт Хирадо, расположенный на одноименном островке (ныне префектура Нагасаки); в 1550 г. в этот
- 741 -
японский порт прибыло первое иностранное судно. См. также выше, с. 614—615, примеч. к с. 317.
С. 610. ...Ясико или Ессико, лежащий на западном берегу острова Нифона... — Современное название — Осака (на острове Хонсю).
С. 610. ...что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. — Открытые в 1601 г. золотые и серебряные рудники острова Садо были взяты под непосредственное управление сёгуна и на протяжении двух с половиной веков служили основным источником пополнения государственной казны.
С. 610. ...огибаем острова Гото ~ Всех островов Гото, кажется, пять. — Ср. более подробное описание: «От острова Ивосима взят нами курс прямо на южную оконечность цепи островов Готто. Подошли мы к южному острову около 6 часов вечера и миновали в полумиле расстояния южнейший из группы мелких островов, лежащий восточнее мыса Готто. Группа эта у Крузенштерна показана неверно, а именно милями четырьмя севернее мыса Готто, тогда как она лежит на параллели его и даже южный островок ее выдается несколько к югу. Как большие острова цепи Готто, так и эти мелкие, по-видимому, обильно заселены, что доказывается превосходною возделкою, покрытой почти повсеместно рисовыми полями. На островке, мимо которого мы близко проходили, высыпало на нас смотреть сотни две народу, и рисовые поля не оставляют на нем буквально ни местечка необделанного. На незасеянных, но вспаханных заново участках заметен был грунт тот же, что и в Нагасаки: красноватая, вероятно глинистая, земля» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 196—197).
С. 610. ...остров Чусима. — «Остров Цусима состоит из двух островов, разделенных узким проливом, отверстие которого, однако же, видно от О. Южный остров гораздо выше северного», — писал В. А. Римский-Корсаков (см.: Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. С. 197).
С. 611. ...стали на якорь в бухте. — Имеется в виду бухта Унковского (современное корейское название — Енгилман).
С. 611. Говорят, карты корейского берега — а их всего одна или две — неверны. — В статье «Карта полуострова Кореи» приводятся сведения о шести генеральных картах Кореи (см.: МСб. 1855. № 4. Ч. III. С. 78—80; подпись: «Г. А. П.......ъ»).
С. 612. Про Корею пишут, что, от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом, она бесплодна и бедна. — Сведения почерпнуты, вероятно, из книги Ш. Далле (см.: Корея. С. 9).
С. 612. У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия вместе с Ванкувером, только на другом судне. — Вильям Роберт Броутон (Broughton; 1762—1821) — офицер английского флота. В 1790—1793 гг. в качестве командира брига «Чатам» принимал участие в экспедиции Дж. Ванкувера к северозападным берегам Америки (см.: Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг света, совершенное в 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 и 1795 годах капитаном Георгием Ванкувером. СПб., 1827. Ч. 1—3). В 1793 г. Броутон вернулся в Англию, чтобы принять командование шлюпом «Провидэнс», который должен был стать третьим судном эскадры. Однако, достигнув в 1796 г. берегов Северной Америки, Броутон обнаружил, что корабли Ванкувера ушли из
- 742 -
порта Монтерей «18 месяцев назад». Вследствие этого Броутон принял решение следовать к берегам Азии для описания наименее известных южных областей (см.: Broughton W. R. A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean: In which the Coast of Asia <...> have been examined and surveyed: Performed in His Majesty’s Sloop «Providence», and her Tender, in the Years 1795, 1796, 1797, 1798. London, 1804. Vol. 1. P. 64); упоминаемая Гончаровым карта была приложена к этой книге. О Ванкувере см. выше, с. 541—542, примеч. к с. 9.
С. 612. Он разбился у островов Меджикосима... — В мае 1797 г. судно «Провидэнс» потерпело крушение в районе острова Типинзан (один из островов архипелага Маджико, или Меджикосима). Команда корабля спаслась на посыльном судне шлюпа и благополучно достигла Макао (см.: Broughton W. R. A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean: In which the Coast of Asia <...> have been examined and surveyed: Performed in His Majesty’s Sloop «Providence», and her Tender, in the Years 1795, 1796, 1797, 1798. London, 1804. Vol. 2. P. 195—198). Риф, послуживший причиной катастрофы, впоследствии обозначался на картах, как «Риф „Провидэнс”» (см., например: Атлас к Путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. СПб., 1813. С. 44).
С. 612—613. ...севернее против карты, открылся большой залив. ~ Войдя в средину залива, в шхеры, мы бросили якорь. — Фрегат «Паллада» стал на якорь в заливе Броутона (современное название — Восточно-Корейский залив, Тонгчиосеман) в виду порта Лазарева (ныне Ёнгхынгман). Севернее этого места в заливе расположен остров, названный именем Гончарова (ныне остров Марянгдо). Ср.: «Остров Гончарова имеет утесистые берега, разделяется довольно узким ущельем на две части и образует с ближайшим берегом пролив шириною до полумили» (Описание восточного берега полуострова Кореи // МСб. 1855. № 1. Ч. III. С. 25; без подписи).
С. 613. ...как у про́клятой смоковницы... — См.: Мф. 21: 19—22; Мк. 11: 13—14, 20—23.
С. 616. Скучно с этими детьми. — См. выше, с. 739, примеч. к с. 602.
С. 616. ...южнее от них, на день езды, есть место ~ большое и торговое, куда свозятся товары в государстве. — Имеется в виду порт Вонсан (яп. Гэнсан). Открыт для торговли с иностранными государствами в 1883 г. Еще до открытия иностранной торговли порт Гэнсан, куда свозилось податное зерно со всей северной Кореи, причислялся к трем большим гаваням (чжин) Кореи; славился также своими сезонными ярмарками.
С. 617. Корейцы называют себя, или страну свою, Чаосин или Чаусин... — Имеется в виду первое политическое объединение на территории Кореи (современная транслитерация — Чосон). Сведения о Древнем Чосоне появляются в древнекитайских хрониках с VII в. до н. э.; после длительного периода феодальной раздробленности (Когурё, Силла, Коре) название Чосон восстановлено правителем Ли Сонге в 1393 г. (см. ниже, с. 748, примеч. к с. 622).
С. 617. ...название Корея принадлежит одной из их старинных династий. — Сведения почерпнуты из книги Н. Я. Бичурина (Иакинф 1842. С. 22—23, 253; см. также: Иакинф 1950. С. 51), который связывал когурёсский период истории Кореи с приходом к власти дома Гао, правившего около 600 лет.
- 743 -
С. 618. ...множество трубок медных с чубуками из тростника. — «Корейская трубка состоит из длинного бамбукового чубука с медным или фарфоровым наконечником и из маленькой, медной чашечки. Трубка напоминает китайскую трубку; по всей вероятности, она введена была в Корею из Китая» (Поджио. С. 249).
С. 618. Третьего дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника ~ не должно брать подарков. — Более подробно этот эпизод описан участником поездки К. Н. Посьетом: «В порте „Лазарев” мы стояли трои сутки и поднимались по реке Иокен верст на двадцать. Селения здесь из низких, соломою крытых изб; поля тщательно обработаны то по чернозему, то по красноватому песку.
Мы доехали до города или большой деревни и имели оригинальное свидание с начальником его. Зная из опыта докучливость любопытных и дерзких корейцев, мы остановились для закуски на маленьком островке. <...> Вскоре мы увидели, что из города потянулась к нам целая процессия. Впереди, на лошадке, начальник города, весь в синем и в большой своей шляпе; по сторонам его несли четыре фляжки и знамя, вроде большого плоского зонтика, за ним: сперва шесть человек музыкантов с пискучими кларнетами и пастушьими трубами да два барабана, вроде бубен, и, наконец, толпа человек в тысячу. Когда он приблизился к берегу реки, адмирал послал меня с переводчиком китайского языка пригласить его на наш островок. Мы переехали на гичке, и когда взошли на берег, народ раздался, и мы увидели старичка с редкою длинною бородою, с умным, но мнительным лицом. Он сидел на волчьем меху, постланном прямо на землю, и окруженный низенькою ширмою, вплоть к которой придвинулась толпа. Перед ним лежали его соломенные башмаки, трубка и табачный кисет, тушь и кисть для письма и веер. Мы присели тоже на землю, протянули по очереди ему руки, с которыми он не знал сначала, что делать, и начали приглашение. Прежде чем он ответил, он спросил, какая цель привела нас с большого моря так далеко внутрь земли? Мы отвечали, что любопытствуем видеть чужие земли; что имели бумагу к их правительству, которую отдали в устье реки, и повторили приглашение. Когда он поднялся, раздирающая уши музыка опять зашумела. Надобно было видеть его любопытство и страх, когда он сидел на гичке. Адмирал обласкал его и угостил всем лучшим, что было у нас с собою. На вопросы, которые ему делали, он отвечал неопределительно, боясь, конечно, сказать что-либо лишнее. Наконец ему предложили в подарок кусок синего сукна. Он сказал, что хотя и желал бы иметь одежду из такой материи, но не смеет принять подарка. <...> мы стали собираться, и старик, вместе с другими старшинами, отправился обратно вброд, верхом на своих корейцах, не желая нас задерживать перевозкою его персоны.
На следующий день он обещал быть на фрегате, но не приехал» (Посьет ОЗ. № 4. С. 126—127).
С. 618. ...а привели одного мужчину, положили его на землю и начали бить какой-то палкой в виде лопатки. — Ср.: «...корейцы не секут, подобно китайцам, по пятам, но зато у них удары наносятся ad posteriora <по седалищу — лат.> особой деревянной лопаточкой в 4 фута длины. Обыкновенно до приведения в исполнение наказания палач, по указанию судьи, отмечает тушью то место на теле, по
- 744 -
которому следует наносить удары. Каждый полицейский чиновник вооружен подобной лопаточкой, которая носится за поясом, сбоку, как шпага» (Поджио. С. 93).
С. 620. Скоро должна быть пограничная с Маньчжуриею река Тамань, или Тюймэн, или Тай-мень, что-то такое. — Река Туманганг (кит. Тумыньцзян) является одной из самых крупных рек Кореи (общая протяженность — 521 км).
С. 620. ...подробное и специальное описание всего корейского берега и реки ~ делает сосед мой Пещуров, сильно участвующий в описи этих мест — Статья «Описание восточного берега полуострова Кореи» была опубликована без подписи в первом номере «Морского сборника» за 1855 г. Во второй статье «Карта полуострова Кореи» сообщалось: «Опись и съемка берегов производилась поручиком корпуса флотских штурманов Поповым и мичманом Пещуровым, самая карта составлена первым из них, а описание оной принадлежит последнему» (МСб. 1855. № 4. Ч. III. С. 82; подпись: «Г. А. П.......ъ»).
С. 620—621. ...а между тем посмотрите, что отец Иакинф рассказывает во 2-й части статистического описания Маньчжурии, Монголии и проч. об этой земле, занимающей 8° по меридиану, — Гончаров имеет в виду книгу: Иакинф 1842. Ч. 2 этого труда была посвящена описанию «подвластных Китаю Маньчжурии, Монголии, Восточного Тюркистана и Тибета»; в «Прибавлениях» в небольшой главе «Королевство Чао-Сянь» рассказывалось о Корее (см.: Иакинф 1842. Ч. 2. Гл. 14. С. 250—263).
С. 621. Корейское государство, или Чао-сян, формировалось в эпоху троян, первобытных греков. ~ Город, вроде Илиона, называли Пьхин-сян. — Ср.: «История первых времен сего полуострова темна и проясняется несколько около времен Троянской войны. Когда Дом Чжеу овладел престолом Китайской империи <...> то Ци-цзы, один из ближайших родственников павшей династии Шань, удалился на северо-восток, где получил во владение страну, названную им Чао-сянь, и основал столицу Пхин-сян, что ныне город Ван-сянь-чен. Сей князь первый ввел в своей стране гражданское образование; научил подданных земледелию и шелководству, и весьма вероятно, что он же ввел в Чао-сянь китайское письмо и положил основание тому китайскому наречию, которым ныне корейцы говорят» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 251). По современным источникам, столица Древнего Чосона, располагавшаяся в районе современного Пхеньяна, называлась Вангомсон (см.: История Кореи с древнейших времен до наших дней: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 26).
С. 621. ...корейская королева, покорив соседнюю область, сама сочинила оду на это событие ~ пишет Иакинф. — Речь идет о победоносных военных действиях государства Силла против своих соседей (сер. VII в.): «В 650 году королева (Чжень-дэ) одержала совершенную победу над владетелем в Бо-цзи и отправила Бай-фа-минь с донесением к китайскому двору, причем послала государю оду на мир из пятисловных стихов, вытканных на шелковой материи. Государь был очень доволен» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 262). Подробнее о силласком периоде истории Кореи см. ниже, с. 745—746, примеч. к с. 621.
С. 621. ...Вэй-мань, Ци-цзы, Вэй-ю-цюй и т. д. — Вэй-мань (Ман, Виман) — один из правителей Древнего Чосона, захвативший власть силой около 200 г. до н. э.: «Вэй-мань, подданный китайского княжества
- 745 -
Янь, собрал сообщников до 1000 человек и ушел с ними на восток за границу. Там он присоединил к себе разных инородцев и китайцев <...> вторгнулся в Чао-сянь и, выгнав оттуда потомков Ци-цзы, овладел престолом их» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 251—252). Н. Я. Бичурин считал Вимана основателем династии Вэй, царствовавшей в Чосоне около 100 лет (см.: Иакинф 1950. С. 15). Ци-цзы (корейский эквивалент имени — Киджа (Кыйчжа)) — культурный герой корейской мифологии; основатель династии Ни, владевшей королевством Чосон около 900 лет (см. выше). Существует несколько легенд об основании Древнего Чосона; легенда о Кидже, впервые изложенная в книге «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня (I в. до н. э.), признается единственно верной в конфуцианской историографии (перевод фрагмента книги «Ши цзи», рассказывающего о Кидже, см. в издании: Иакинф 1950. С. 10—16). Вэй-ю-цюй (Юцюй, Юкюй, Югуй, Уго) — последний правитель Древнего Чосона, внук Вимана. Был убит летом 108 г. до н. э. во время осады Вангомсона войсками ханьского императора У-ди. Столица была сдана, и на месте единого ранее государства были учреждены четыре китайские провинции: Аннан (кит. Лолан), Чинбон (кит. Чэньфань), Хёнто (кит. Сюаньту) и Имдун (кит. Липтунь). Эти события подробно описаны в «Истории старшего дома Хань» («Цяньханьшу», конец I в. до н. э.), принадлежащей Бань Гу (перевод: Иакинф 1950. С. 16—20).
С. 621. Первобытные жители ~ были одних племен с маньчжурами, которых сибиряки называют тунгусами. — Ср. у Н. Я. Бичурина: «Что касается до корейцев, они произошли из смеси тунгусов с китайскими переселенцами и, попеременно находясь под владычеством китайцев, тунгусов и монголов, не составляли отдельного, самобытного народа» (Бичурин Н. Я. (Иакинф). Ответ г-ну Клапроту на замечания касательно книг, изданных Иакинфом Бичуриным и относящихся к истории монголов // Моск. телеграф. 1831. Ч. 39. № 9. С. 85); см. также: «...слово „тунгус” заимствовали мы у остяков. На языке их слово это означает дальнего жителя» (Щукин Н. Географическая и этнографическая терминология Восточной Азии // ВестнРГО. 1856. Ч. 17. С. 261). В современной науке вопрос об этногенезе корейцев остается открытым.
С. 621. ...один из тунгус, Гао, основал царство Гао-ли. — В описываемый Гончаровым период на территории современной Кореи существовало три государства — Когурё (Гаоли) на севере, Пэкче (Боцзи) на юго-западе и Силла (Синьло) на юго-востоке. Самым ранним и могущественным из них было Когурё (официальная дата основания этого государства, принятая современными корейскими историками, — 37 г. до н. э.). Легендарная традиция, зафиксированная сначала в китайских летописях, а затем в «Самгук Саги» («Исторические записки трех государств», составленные Ким Буси-ком в середине XII в.), приписывает основание царства Когурё опальному пуёскому принцу Чумону (Чхумо, Тонмён, Чжумын). «В третьем столетии по Р. Х., — писал Н. Я. Бичурин, — тунгус Чжу-мын, по прозванию Гао, сын владетеля в Фу-юй, переправился через реку Да-тхун-хэ на юг, занял земли, составляющие нынешнюю дорогу Сань-цзин-дао, и основал здесь новое царство, названное им Гао-ли, потом Гао-цзюй-ли» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 253). Столицей Когурё стал г. Хвандо. Позднее, при ване Чансу, столица была
- 746 -
перенесена в г. Пхеньян. Тяжелые войны с Китаем (династии Суй и Тан) сильно ослабили государство, несомненно претендовавшее на роль объединителя Кореи. Положение осложнялось также внутренними противоречиями на территории полуострова. В особенности угрожающим для Когурё оказался союз соседнего государства Силла с танским Китаем: в 660 г. танской армией при поддержке силласких войск было завоевано государство Пекчэ, а в 668 г. — осажден и сдался на волю победителя г. Пхеньян. Территория полуострова была поделена между Танской империей и царством Силла (со столицей в г. Кымсон (Кёнджу)). Окончательное утверждение границы по реке Тэдонган произошло в 735 г. Государство Силла (во главе с «домом Да» по Иакинфу) просуществовало около 200 лет, его расцвет приходится на середину VIII в. Распад централизованного государства на многочисленные уделы связывают с порочным правлением вана-женщины Чинсон (887—897).
С. 621. ...«Кори, Кори!» — и тут же, через отца Аввакума, объяснили, что это имя их древнего королевского дома. — Воссоздание единого Корейского государства связано с именем Ван Гона (Vang Кôn), «происходившего из древнего королевского рода, который когда-то управлял в государстве Когурё» (Описание Кореи: Сокращенное переиздание. М., 1960. С. 32). Выдвинувшись как крупный военачальник, Ван Гон в 918 г. возглавил государственный заговор и захватил власть в стране. Провозгласив себя ваном, он дал государству новое название — Коре, подчеркнув тем самым преемственную связь с Когурё. «В короткий срок он подчинил себе весь Корейский полуостров и положил, таким образом, начало новой, независимой от Китая династии. <...> Местопребыванием своим Ван Гон избрал г. Сондо, нынешний Кэсон, как занимающий более центральное положение, нежели Кёнчжу — столица Силла, и Пхеньян, резиденция древнего Когурё» (Там же. С. 32). Император Китая формально признал государство Коре в 939 г. «Дом Ван царствовал в Гао-ли около четырех столетий. Они находились под покровительством Китайской Державы, но вместе с тем числились вассалами соседних с ними Домов Монгольского Ляо и Тунгусского Гинь» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 256).
С. 621—622. ...судьба, в виде китайцев, японцев, монголов, пошла играть им, то есть покорять, разорять, низвергать старые и утверждать новые династии. ~ Китайцы то сделают Корею своею областью, то посовестятся и восстановят опять ее самостоятельность. — Завоевание Кореи китайцами относится ко II в. до н. э. (династия Хань) и VII в. (династия Тан). Главный конфликт с Японией вошел в историю Кореи под названием Имджинской отечественной войны (1592—1598). Объединитель Японии сёгун Тоётоми Хидэёси (Пьхинь-сю-цзи) рассматривал Чосон как плацдарм для покорения «Поднебесной». В короткий срок (с 25 мая по конец июля 1592 г.) японская сухопутная армия прошла расстояние от Сеула до Пхеньяна, взяв под контроль фактически всю территорию полуострова. Явное преимущество японцев на суше объяснялось более передовым вооружением (голландские мушкеты японцев против луков и стрел корейцев). На море, напротив, перевес был на стороне корейцев, впервые применивших крытые металлическими листами суда (кобуксон), неуязвимые для огня противника. Благодаря этому (корейский флот отрезал сухопутные войска японцев
- 747 -
от основных баз на острове Кюсю), а также помощи минской союзной армии, неприятель в конце 1592 г. отступил к Пусану, после чего попросил перемирия. Начались длительные переговоры (1593—1597). Осложнения, возникшие между дипломатическими миссиями Китая и Японии (1597), привели к новой экспансии японцев в Корею, которая оборвалась со смертью Тоётоми Хидэёси (1598). Результатом Имджинской войны явился полный экономический и культурный упадок Чосона, закат корейской цивилизации, изоляция от внешнего мира. О монгольском завоевании см. ниже.
С. 622. ...когда на Китай, в V веке, хлынули монголы, корейцы покорились и им. ~ случалось даже так, что китайцы покровительствовали корейцам и в то же время не мешали брать с них дань монголам и тунгусам. — Вероятно, Гончаров имеет в виду нашествие сюнну (гуннов), отторгнувших от Китая северные области (со столицей в Чанъан), которое открыло новую эпоху истории Китая, называемую периодом Северных и Южных династий. Под собственно монгольским нашествием принято, однако, понимать походы Чингисхана и чингисидов. В 1218 г. в пределы Коре вошло тридцатитысячное монгольское войско. Подвергнутый столь мощному военному давлению, правящий ван Коджон был вынужден принять послание Чингисхана, предлагавшего установление «дружественных отношений», что означало признание Коре вассалом и данником хана. Однако уже в 1225 г. при переправе через Амноккан были убиты посол и его свита, возвращавшиеся в Монголию с данью и дарами. Союзничество, таким образом, было разорвано, и в 1231 г. на территорию Кореи вторглась огромная монгольская армия под командованием Саритая. К началу 1232 г. Корея была полностью покорена — правительство бежало на остров Канхвадо, страна была обложена огромной данью, в крупнейших центрах государства оставлено 70 монгольских наместников (даругачей). Подневольное положение страны продолжалось недолго, так как «уже в 1234 г., — пишет Н. Я. Бичурин, — корейцы убили всех даругаци» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 253). Корея, таким образом, не вошла ни в состав Орды, ни в состав Юаньской империи, которая, в лице ее основателя хана Хубилая, согласилась признать в государстве Коре своего младшего союзника (1259). В этом качестве корейские войска принимали участие в двух монгольских походах против Японии (1274, 1281) (см. выше, с. 707, примеч. к с. 504), что на многие годы обусловило враждебные отношения Кореи со своим восточным соседом.
С. 622. ...корейцы пишут, чуть что поважнее и поученее, китайским, а что попроще — своим языком. Я видел их книги: письмена не такие кудрявые и сложные, как у китайцев. — Оригинальная корейская письменность была разработана группой видных ученых по инициативе и при участии корейского вана-просветителя Седжона. Она была обнародована в конце 1443 г. под названием «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильных звуках»). Предложенный алфавит состоял из 28 гласных и согласных букв и восходил к санскритской письменности, с которой корейцы познакомились благодаря буддийским текстам тибетского письма, ходившим в стране. Реформа не имела успеха, широкое применение корейской письменности началось лишь в конце XIX — начале XX в.
- 748 -
С. 622. Наконец, в исходе XIV века, вступил на престол дом Ли, который царствует и теперь... — В 1368 г. в Китае пала монгольская династия. На требование новой династии Мин, чтобы Корея признала себя ее вассалом (в 1388 г.), правительство Корё ответило отказом. На границу с Китаем были отправлены войска во главе с популярным военачальником, сторонником придворной «партии реформ» Ли Сонге (Yi Sông-gye). В дороге армия вышла из подчинения, восставшее войско вернулось в столицу и низложило правительство. Король, объявленный «недостойным и лишенным добродетелей», был отправлен в ссылку, после чего на престол вступил Ли Сонге, положивший начало правлению династии Ли, которая стояла у власти более 500 лет (1392—1910). В 1393 г. им было принято старое название государства — Чосон, а затем и решение перенести столицу в г. Ханъян на реке Ханган (современный Сеул).
С. 622. Корея разделяется на восемь областей или дорог, по сказанию отца Иакинфа. ~ и робко краду у него вышеприведенные отрывочные сведения о Корее — всё для вас. — «Ныне королевство Чао-сянь разделено на восемь губерний под названием Дорог (Дао)» (Иакинф 1842. Ч. 2. С. 258). Административное деление территории произведено при ване Тхэджоне (Ли Банвон, второй правитель из дома Ли; годы правления — 1401—1418); области, или провинции, назывались: Пхёнан, Хванхэ, Кёнги, Чхунчжон, Чолла, Кёнсон, Канвон, Хамгён. Русские путешественники сошли на берег в области Хамгён, занимающей весь север восточного побережья полуострова. По словам М. А. Поджио, северные провинции Кореи находились на положении окраины государства. У него же можно найти интересную характеристику обитателей этого края: «...корейцы, населяющие обе северные области <...> отличаются крепким телосложением и мужеством. Тут дворянские семьи почти не встречаются. Жители этих областей отличаются своим беспокойным характером, проявляющимся в частых возмущениях. <...> Неуважение частной собственности есть явление весьма нередкое среди этих северян» (Поджио. С. 203).
С. 622. ...с матсмайского берега... — Имеется в виду остров Хоккайдо. Матсмайя (Матсумаэ) — название города, расположенного на крайнем юго-западе острова Хоккайдо со стороны Японского моря, по этому городу иностранные путешественники называли весь остров; японское название острова — Есо (Эдзо).
С. 625. Здешние народы ~ называют себя орочаны, мангу, кекель. Что это, племена или фамильные названия? И этого не знаю. ~ общим именем тунгусов. — По всей видимости, Гончаров говорит о народностях, населяющих берега Татарского пролива; ср.: «В окрестностях Императорской гавани можно полагать жителей до 50 душ обоего пола. <...> Эти туземцы, равно как и все обитатели прибрежья Татарского пролива, носят название Орочи; от сел. Бучи около 47° N широты и далее к югу — носят название Кенальцев. <...> Летом и зимой живут они в шалашах из корья или еловых ветвей. Не раз мне случалось во время зимовки в Императорской гавани видеть матерей, греющихся у огонька, с грудными младенцами на руках, с едва накинутою на голое тело китайчатою рубашкою и шубою. <...> Вообще жизнь этих дикарей можно назвать бедною, даже в сравнении с амурскими гиляками. <...> В зимнее время <...> промышленные мангуйцы на легких нартах,
- 749 -
с товарами, едут для торговли в Императорскую гавань» (Бошняк Н. Экспедиция в залив Де Кастри: Опись Татарского берега и открытие гавани императора Николая // МСб. 1859. № 3. Ч. III. С. 208—209).
С. 625. Скоро пойдет периодическая рыба... — Имеются в виду лососевые, которые в период нереста направляются из моря в пресные воды рек.
С. 626. К нам часто ездит тунгус Афонька... — О «тунгусе Афанасии, говорившем по-русски» и состоявшем в переводчиках при Д. И. Орлове, см.: Невельской. С. 122.
С. 626. Про семейства гиляков рассказывают, что они живут здесь зимой при 36° мороза под кустами валежнику... — «В 1855 году я ехал вдоль западного берега Сахалина. Ночь 6 (18) февраля застала меня в лесу <...> Там столкнулся я с гиляками. <...> Падал сильный снег при умеренном северном ветре. Гиляки расположились на ночлег. Они вырыли в снегу яму около двух футов глубины; дно ее и стенки выложили ельником, а северную сторону, как занавеской, затянули брезентом из рыбьих шкур, разместив их на косо воткнутых в снег жердях. Скоро посредине запылал огонь и зашипел повешенный над ним котел» (Шренк Л. Об инородцах Амурского края: В 3 т. СПб., 1899. Т. 2. С. 14).
С. 627. Dahin! Dahin! — См. выше, с. 563, примеч. к с. 83.
VII
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ
С. 628. ...мы гуляли по прибрежному песку ~ и праздно ждали, когда скажут нам трогаться в путь... — Фрегат «Паллада» и транспорт «Байкал» подошли к устью Амура 1 июля, чтобы, согласно приказу Н. Н. Муравьева, войти в Амурский лиман (см.: Энгельгардт. С. 246—247). 15 июля Гончаров писал Майковым: «...мы укрылись в одно из самых новых наших заселений, где никто еще и не живет, а кочуют тунгусы, мангуны, орочаны, медведи, лоси, соболи и выдры; где еще ничего не заведено, кроме кладбища. На нем уже успело улечься прошлой зимой до 30 чел<овек>, умерших от цинги. Мы живем все на фрегате. Я думаю даже, что берег вреден для меня, и оттого схожу редко». Почти весь июль продолжались неудачные попытки ввести «Палладу» в устье Амура (подробнее см. ниже, с. 816, примеч. к с. 74). 22 июля из Аяна пришла шхуна «Восток» и в тот же день ушла на Сахалин пополнять запасы угля (см. ниже, с. 752, примеч. к с. 631). 26 июля к «Палладе» подошел фрегат «Диана», и большая часть команды «Паллады» перешла на него. 27 июля в 2 часа ночи на пароходе «Аргунь» прибыл Н. Н. Муравьев (о нем см. ниже); 29 июля он посетил все корабли, в том числе и «Палладу» (см.: Шарыпов, л. 65 об. — 66), и затем отправился в Николаевский пост (несколько иную хронологию перемещения судов см.: Невельской. С. 319). 2 августа был отдан приказ о переводе Гончарова вместе с Н. Н. Крюднером и П. А. Тихменевым на шхуну «Восток», и 4 августа они оставили «Палладу» (см.: Энгельгардт. С. 249). См. также ниже, с. 751, примеч. к с. 630.
- 750 -
С. 628. ...генерал-губернатор Восточной Сибири... — Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809—1881), губернатор Восточной Сибири с 1847 по 1861 г. По отзыву современника, «Н. Н. Муравьев обладал быстрым соображением и предприимчивостью, характера был настойчивого и необыкновенно деятелен, посвящая все время служебным занятиям и всегда готовый преследовать зло. В обхождении с подчиненными был очень прост и ласков. Он был чужд всякой военной формалистики и даже <...> свойственного военным тщеславия <...>. Вместе с тем Н. Н. Муравьев, как человек нервный и страдавший сердцем, был иногда до крайности раздражителен, что и было причиною некоторых с его стороны неуместных выходок и ошибочных поступков...» (Заборинский А. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский в 1848—1856 гг. // РС. 1883. № 6. С. 624). Гончаров писал, что это «патриот, человек бодрый, энергический, умный до тонкости и самый любезный из русских людей <...>. Имя его довольно популярно у нас: все знают, как сильно и умно распоряжается он в Сибири, не секрет уже и то, что он возвратил России огромный и плодоносный лоскут Сибири по реку Амур включительно, вопреки Министерству иностр<анных> дел, действуя под непосредственным надзором и полномочием царя, при множестве врагов, доносов и проч. Молодец!» (письмо к Майковым от 13 января 1855 г.). Весной-летом 1854 г. Муравьев организовал первую военную экспедицию для исследования Амура, в которой принял личное участие; по словам историка, «эта экспедиция окончательно познакомила нас с берегами судоходной реки и показала нам пригодность ее для сплава, удобство и возможность заселения берегов Амура <...> миролюбие местных ее жителей и слабость китайцев, словом, она проложила России путь к Восточному океану» (Барсуков 1891. Кн. 1. С. 373; подробнее см.: Свербеев Н. Д. Описание плавания по реке Амуру экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири в 1854 году // Записки Сибирского отделения Русского географического общества. 1857. Кн. 3. С. 1—78; Сгибнев А. С. Амурская экспедиция 1854 г. // Древняя и новая Россия. 1878. № 11—12; Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849—1855 гг. М., 1974. С. 144—151).
С. 628. Всех гостей было более десяти человек... — Список пассажиров шхуны «Восток» при переходе из устья Амура к Аяну см.: Римский-Корсаков. С. 348.
С. 629. Едва исследованное и еще не «положенное на карту» устье Амура... — Первая попытка составить карту устья Амура была предпринята в августе 1846 г., когда подпоручик А. М. Гаврилов на бриге «Великий князь Константин» впервые вошел с моря в Амур и затем на шлюпках произвел промеры глубин Амурского лимана. Однако, по свидетельству современника, «все промеры <...> были произведены бегло, без всякой системы и связи; почему и могут служить только некоторыми данными для определения немногих ям и банок в лимане, но не представляют никаких убедительных фактов, на основании которых можно бы было вывести какое-либо определенное понятие о степени удобопроходимости для судов устья Амура...» (Романов. С. 383; по другим источникам, свои исследования Гаврилов проводил в 1847 г. — см.: Барсуков 1891. Кн. 2. С. 49—50).
- 751 -
С. 629. ...бросили якорь у песчаной косы, перед маленьким нашим поселением, Петровским зимовьем. — Петровское зимовье было заложено 29 июня 1850 г. Г. И. Невельским, который назвал его «во имя праздника этого дня и в память Великого Петра» (цит. по: Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849—1855 гг. С. 54; см. также: Барсуков 1891. Кн. 2. С. 67; ср.: Невельской. С. 123). В первый же год в Петровском зимовье были построены казарма для команды, дом ее начальника, офицерский флигель, часовня, баня, лавка и юрта для приезжих. К Петровскому зимовью шхуна «Восток» подошла 11 августа; согласно дневнику капитана транспорта «Байкал» Н. И. Шарыпова, «14 августа <...> его высокопревосходительство (Н. Н. Муравьев. — Ред.) прибыл на шхуну „Восток”, на которой отправился в Аян, тогда с транспорта „Иртыш” и от нас салютовали по 11 выстрелов, на что со шхуны отвечали 10» (Шарыпов, л. 69). О пребывании Муравьева в Петровском зимовье см.: Баранов А. Е. На реке Амуре в 1854—1855 гг. // PC. 1891. № 8. С. 350—351.
С. 629. В 1849 году в первый раз военный транспорт «Байкал» решил не решенную Лаперузом задачу. — Речь идет об открытом в 1849 г. исследователем Дальнего Востока, адмиралом Г. И. Невельским, проливе между островом Сахалин и материком (подробнее см.: Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849—1855 гг. С. 36—44; Невельской. С. 103—110). Французский мореплаватель Жан-Франсуа Лаперуз (La Pérouse; 1741 — ок. 1788) во время кругосветной экспедиции 1785—1788 гг. открыл между островами Сахалин и Хоккайдо пролив, впоследствии названный его именем.
С. 630. Наконец тронулись далее. — Согласно дневнику капитана шхуны «Восток» В. А. Римского-Корсакова, 8 августа «в половине пятого часа утра мы снялись с якоря, имея лоцманами старых знакомых гиляков, и прошли очень скоро и благополучно в лиман. Переход Шхуны в Аян был вообще неудачен. Муравьеву нужно было зайти в Петровское зимовье, и там шхуне пришлось отстаиваться из-за свежих ветров четверо суток. Кроме того, на переходе в зимовье часто становились на мель и только 15 августа попали в Аян» (Римский-Корсаков. С. 348—349).
С. 630. ...он китолов. ~ Этого сорта суда находят в Охотском море огромную поживу и в иное время заходят туда в числе двухсот и более. — Иностранные китобойные суда пользовались у моряков и местного населения дурной репутацией: «...они распоряжаются в наших морях как в своих, ловят китов в противность общенародному морскому праву у самых наших прибрежье в и в бухтах; действуя же таким образом, совершенно истребляют в наших морях этих морских животных» (Романов. С. 372—373). Кроме того, китобои нередко совершали разбойные набеги на прибрежные населенные пункты: так, в Петропавловске они однажды «разбили караул, буйствовали и разобрали на дрова нашу батарею» (Там же. С. 372). Подробнее о подобных выходках американских китобоев см.: Тихменев. С. 131—142.
С. 630. В это самое время, именно 16 августа, совершилось ~ отражение многочисленного неприятеля горстью русских ~ в Камчатке. — В середине августа 1854 г. соединенная англо-французская эскадра из шести кораблей (всего 236 орудий) предприняла попытку взять штурмом г. Петропавловск при помощи десанта. Обороной руководили военный губернатор Камчатки генерал-майор В. С. Завойко (о нем см. ниже, с. 753, примеч. к с. 632) и капитан-лейтенант
- 752 -
И. Н. Изыльметьев. В их распоряжении было 930 человек, семь батарей береговой обороны, фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» (всего около 60 орудий). 18 августа эскадра вошла в Авачинскую губу; 20 и 24 августа 1854 г. произошло два сражения, окончившихся полным поражением противника (потери союзников составили около 350 человек, русских — около 30 человек убитыми и около 60 ранеными), который 27 августа был вынужден покинуть Петропавловск. Однако, видя невозможность успешной защиты города, Н. Н. Муравьев в апреле 1855 г. приказал гарнизону эвакуироваться (см. подробнее: Войт В. К. Камчатка и ее обитатели: С видом города Петропавловска, планом и описанием сражения 20 и 24-го августа. СПб., 1855. С. 28—35; Шумахер П. В. Оборона Камчатки и Восточной Сибири против англо-французов в 1854 и 1855 годах // РА. 1878. № 8. С. 399—404; Степанов А. А. Петропавловская оборона. Хабаровск, 1954).
С. 631. ...некупленый, добытый руками ее матросов на Сахалине уголь... — Залежи каменного угля на Сахалине, выходящие прямо на поверхность, были обнаружены в 1852 г. лейтенантом Н. К. Бошняком (подробнее см.: Алексеев А. И. Н. К. Бошняк и открытие Советской Гавани. Хабаровск, 1955; ср.: Невельской. С. 148, 152, 160—163); это открытие в то время имело важное стратегическое значение. Сведения об этом Е. В. Путятин получил от генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, который писал, что каменный уголь есть на Сахалине «в таком изобилии, что его находят разбросанным по берегам» (АВПР, л. 6—10). В письме от 26 июля 1854 г. В. А. Римский-Корсаков сообщал, что команда выполняет работу по погрузке угля на шхуну «Восток» «бойко и охотно» и что за один день он «набил себе полгруза, т. е. 40 тонн <...> и, следовательно, считая по петербургским ценам, доставил казне 1200 рублей ассигнациями, а по ценам Тихого океана — столько же на серебро» (Римский-Корсаков. С. 184). См. также: Линден. С. 110.
С. 631. «Вон нора, должно быть, бобра!»... — Имеется в виду калан, крупное морское животное, обитающее в неглубоких прибрежных зонах северной части Тихого океана. В XIX — первой половине XX в. его чаще называли камчатским, или морским, бобром, так как слово «калан» — локального происхождения (ср. примечание П. А. Словцова к его стихотворению «Материя» (<1796>): «Бобр по-камчатски называется калан» — Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 213).
С. 632. ...зеленый купол церкви с золотым крестом. — Аянская церковь, «деревянная, греческой архитектуры, отличной постройки, с иконостасом и иконами в серебряных ризах, утварью и ризницею, стоящими более 5000 рублей серебром» (Иннокентий. Творения. Кн. 2. С. 195), была заложена 2 сентября 1845 г. и освящена Иннокентием 21 июля 1846 г. В одном из писем он сообщал, что «прежде, нежели устроены жилища для людей, построена церковь — на месте, где за три года пред сим, можно сказать, не было и следа человеческого и не более 1 ½ года, как начали селиться. Церковь построена на счет Компании, но построение оной и в столь короткое время, и прежде жилищ надобно отнести прямо к благочестивому усердию обитателей, и в особенности самого начальника фактории г. Завойко, который, кроме того, пожертвовал на украшение церкви 1000 р. серебром» (Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 154).
- 753 -
С. 632. ...направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна... — Из-за недостатка в окрестностях Аяна леса и других причин постройка заложенной на его верфи небольшой шхуны так и не была завершена (см.: Романов. С. 381; МСб. 1855. № 11. Ч. II. С. 6).
С. 632. ...фактория Американской компании. — Имеется в виду торгово-промышленное акционерное общество «Российско-Американская компания», основанное в 1799 г. русскими купцами и находившееся с 1844 г. под покровительством правительства; занималось освоением земель и торговлей на Аляске и Дальнем Востоке. О ней см.: Тихменев Л. А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени СПб., 1861—1863. Ч. 1—2 (ч. 1 этого издания имелась в библиотеке Гончарова — см.: Библиотека. С. 88); Окунь С. Б. Российско-Американская компания. М.; Л., 1939.
С. 632. Она возникла лет десять назад ~ положено основание Аянского порта — К 1840-м гг. неудобства местоположения Охотского порта стали очевидны, и в 1842 г. В. С. Завойко и поручик Д. И. Орлов в поисках нового места для фактории Российско-Американской компании посетили залив Аян. После предварительного осмотра залива они признали его годным для основания нового порта, и Завойко отправился обратно в Охотск, а Орлов и прибывший позднее поручик А. М. Гаврилов подробно исследовали залив. В следующем году на берегу залива были построены первые здания, а через два года состоялся окончательный перенос фактории в Аян; в 1846 г. высочайшим повелением фактория была переименована в порт (подробнее см.: Тихменев. С. 7—24; Мамышев Вс. Американские владения России // БдЧ. 1855. № 4. Ч. III и IV. С. 285—286). Но, как пишет современник, «перенос фактории в Аян, хотя и был в некотором отношении полезен для компании, полезен вообще и тем, что на Охотском море сделалось одним пунктом более, но <...> устройство и поддержание дороги в Якутск и, наконец, увеличение на фактории команды и гребных судов и постоянное содержание этой команды на всю зиму и проч. потребовали значительного увеличения расхода на факторию противу того, какой был в Охотске. <...> Вследствие этого содержание дороги из Аяна в Якутск правительство приняло на себя и употребило значительный капитал для поселений на р. Мае, ибо в то время имелось в виду основать военный порт в Аяне. Но опыт показал, что на Мае оседлость прививалась весьма трудно, и Аян остается до сих пор тем же ничтожным селением, как и в первые годы своего основания» (Романов. С. 381). См. также: Марков А. И. Аян и новый путь от Аяна до Якутска // МВед. Приб. 1849. 23 июня. № 75; 25 июня. № 76; Залив Аян (Из записок капитан-лейтенанта Завойко и подпоручика Савина) // Записки Гидрографического департамента Морского министерства. СПб., 1846. Ч. 4. С. 79.
С. 632. Трудами преосвященного Иннокентия... — Речь идет об архиепископе Камчатском, Курильском и Алеутском Иннокентии (1797—1879; в миру — Иван Евсевиевич Попов; в 1814 г. фамилия изменена на Вениаминов; постриг принял в 1840 г.), впоследствии митрополите Московском и Коломенском. Гончаров говорил о нем в письме к Майковым от 13 января 1855 г.: «Здесь есть величавые
- 754 -
и колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий: как бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут-то бы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а всё потому, что кончил ученье не в академии, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии, и жизни алеутов, колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот. Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, при каждой счастливой вести о наших победах». Об Иннокентии см. также главу «Из Якутска», очерк «По Восточной Сибири» и примечания к ним (наст. т., с. 769—771, 813—815). Гончаров неточен, приписывая Иннокентию заслугу основания Аянского порта и отыскания пути до Охотского моря: в Аяне Иннокентий побывал лишь в 1846 г. (или в 1847 г. — см.: Мамышев Вс. Американские владения России. С. 286) и тогда же впервые совершил поездку из Аяна в Якутск, частично по старому Охотскому тракту; по Аянскому тракту от Якутска до Аяна Иннокентий впервые проехал незадолго до Гончарова, в 1852 г. (см.: Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 374—377). Первым путь от Якутска до Аяна прошел в 1843 г. приказчик Российско-Американской компании А. П. Березин; в следующем году тем же путем прошел Д. И. Орлов, подробно его исследовав и сделав заключение о возможности прокладки тракта (см.: Тихменев. С. 12—20).
С. 632. ...бывшего губернатора камчатского, г-на Завойки... — Василий Степанович Завойко (1809—1898), участник Наваринского сражения (1824), кругосветного плавания 1835—1838 гг.; с 1839 г. служил в Российско-Американской компании; управляющий Охотской, затем Аянской факторий; с 1850 по 1855 г. — губернатор Камчатки.
С. 633. ...фризовые капоты... — Фриз — толстая ворсистая ткань.
С. 633. Конец благополучну бегу, Спускайте, други, паруса! — Начальные строки стихотворения И. И. Дмитриева «К Волге» (1794); это же стихотворение цитирует в «Обрыве» Райский (часть вторая, глава II).
С. 634. ...в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницы... — Гончарову, очевидно, было известно, что в 1853 г. Н. Н. Муравьев-Амурский обращался в Министерство внутренних дел с просьбой разрешить выделить деньги на постройку в Аяне особого помещения для приезжающих чиновников, но получил отказ; для приезжающих выделялась одна комната в станционном доме (см.: РГИА, ф. 1265, оп. 2, № 71). Именно в этой комнате, где уже проживал ранее приехавший в Аян М. С. Волконский (см. ниже, с. 755, примеч. к с. 635), и остановился Гончаров с товарищами.
С. 634. ...на князя Оболенского... — Имеется в виду офицер с фрегата «Диана» Александр Васильевич Оболенский (1823—1865).
С. 634. Это был начальник порта. — Т. е. капитан-лейтенант Александр Филиппович Кашеваров (Кошеваров; 1809—1866). Современники отзывались о нем как о гостеприимном хозяине (см.: Струве. С. 147); по словам В. А. Римского-Корсакова, «дом начальника порта просторен, удобен и очень порядочно отделан; даже есть бильярд. Кашеваров и все служащие в Аяне, конечно, могут жить без лишений» (Римский-Корсаков. С. 344). 18 августа на ужине у Кашеварова присутствовал прибывший в тот день в
- 755 -
Аян Н. И. Шарыпов, который писал: «...за столом сидело до 20 человек, окончился ужин в 10 ½ ч.» (Шарыпов, л. 69 об.).
С. 634. «Il у а ипе providence pour les voyageurs! — Парафраза крылатого французского выражения «Il s’est fait la providence des malheureux» («Есть провидение для несчастных», которое приводится в очерке «На родине» (1888)).
С. 635. ...и пишу письма в Москву, к вам, на Волгу. — Из этих писем сохранилась лишь короткая записка к М. А. Языкову, датированная 17 августа 1854 г.
С. 635. ...и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, М. С. Волконский... — Михаил Сергеевич Волконский (1832—1909), сын декабриста С. Г. Волконского; по отзыву В. А. Римского-Корсакова, «настоящий джентльмен» (Римский-Корсаков. С. 343); в 1854 г. занимал должность чиновника по особым поручениям при Н. Н. Муравьеве. Весной 1854 г. Волконский был «командирован <...> на Якутско-Аянский тракт для обозрения, в хозяйственном отношении, с полною подробностию всех расположенных на этом тракте новых крестьянских заселений, а также для осмотра дороги от Якутска к Анну и соображений об устройстве оной» (Формулярный список М. С. Волконского // ИРЛИ, ф. 57, оп. 3, № 16, л. 10 об. — 11); он «перевел шесть станций на места, более для них удобные, и доставил начальству подробные сведения о положении переселенцев, которое оказалось далеко не так плачевно, как его описывали многие из проехавших из Аяна в Иркутск» (Якушкин. С. 392—393 (письмо И. Д. Якушкина к И. И. Пущину от 30 сентября 1854 г.)). За эту командировку Волконский был представлен к чину титулярного советника. 16 августа 1854 г. Волконский писал родителям: «Какое интересное общество собралось теперь в моей комнате; хохот и говор не дают мне писать; рассказам нет и конца. Гончаров, наш знаменитый писатель, которого „Обыкновенная история” пробежала из конца в конец всю Россию, остановился у меня на все время, пока я здесь. <...> Все это помещается в моей клетке, снаряжается мною, — человеком бывалым, — в дорогу и пользуется всем, что мои знания края и дороги могут им доставить. Такой интересный и образованный круг, конечно, заставит в один день забыть то время, которое я провел среди аянских лакеев — по их понятиям и образу мыслей» (ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 182, л. 56—56 об.). Сохранилось 7 писем Гончарова к Волконскому. См.: Демиховская О. А. И. А. Гончаров и декабристы // РЛ. 1975. № 4. С. 111—113, а также ниже, с. 819, примеч. к с. 76.
С. 635. Нас всех ~ разделили на три партии... — 17 августа уехали курьеры П. В. Казакевич, Н. Н. Савич и Н. А. Крюднер, 20 августа — Н. Н. Муравьев со свитой и после них (очевидно, 23 августа) — Гончаров, князь А. В. Оболенский и П. А. Тихменев.
С. 635. ...теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе... — Парафраза строки из «Последнего стихотворения» (1827) Д. В. Веневитинова: «Не много истинных пророков / С печатью тайны на челе...».
С. 635. ...и со мной Тимофей, повар. — Ср. выше, с. 443—444. В черновиках очерка «По Восточной Сибири» слуга Гончарова назван Егором (см.: наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 355).
- 756 -
С. 635—636. Летом надо ехать верхом верст двести ~ всё, что ни захочешь, даже книги. — Ср. письмо к Майковым от 14 сентября 1854 г: «В Аяне объявили мне, что вещей с собой много брать нельзя, что вся поклажа везется не на повозках, а на вьючных лошадях, что на каждую лошадь вьючат от 3 до 5 пуд. Я подарил все свои книги одному из наших новых поселений в Татарском проливе и роздал на фрегате весь запас манильских сигар. Потом сказали мне, что 220 верст надо ехать верхом, потом 600 в<ерст> рекой Майей, потом 180 в<ерст> опять верхом, потом уже 200 верст до самого Якутска на телегах...».
С. 636. Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом (а я не хочу), то можно ехать в качке...; см. также с. 640: «Качки нет, — сказал мне Б., — не поспела». — Ср. то же письмо: «Двадцать лет я не садился на лошадь, да когда и садился, так всегда чувствовал себя совершенно в ее распоряжении. „А нет ли другого способа езды?” — спросил я. „Есть, в качалке, на двух лошадях, одна спереди, другая сзади”, — говорят мне. „Так вот и прекрасно, я поеду”. Но мне говорят, что в качалке возят больных старух. И это не поколебало меня, равно как и то, что вот такая-то женщина приехала верхом (сидя по-мужски: дамских седел нет), а такая-то уехала. Я все-таки заказал качалку и, может быть, поехал бы. Но один из приятелей, зная мой характер, ни слова не говоря, в день отъезда велел подвести к крыльцу оседланную лошадь. Спрашиваю, где качалка? говорят, не готова».
С. 639. «А есть ли у вас переметные сумы?» ~ и нашим и вашим...». — Имеется в виду переносное значение выражения «переметная сума»: «Непостоянный, кидающийся туда и сюда, ненадежный товарищ» (Даль. Т. 3. С. 68).
С. 639. «Сары — это якутские сапоги из конской кожи... — Один из современников описывал сары подробнее: эти «сапоги, которые <...> шьют из кожи на конце спины у коня <...> не только не пропускают воду, но и не позволяют нисколько намокнуть твоей ноге, если даже бы и должен был бы ходить четыре или пять дней подряд по воде» (Уваровский А. Я. Воспоминания // Бётлингк О. Н. О языке якутов / Пер. с нем. В. И. Рассадина. Новосибирск, 1990. С. 106).
С. 640. Ч. и Ф., без сюртуков... — Очевидно, Ч. — это содержатель аянских магазинов Российско-Американской компании Чагин (см.: МСб. 1855. № 11. Ч. II. С. 1), а Ф. — бухгалтер аянского порта Юлий Иванович Фрейберг (см.: Адрес-календарь. 1855. СПб., 1854. Ч. 1. С. 309).
С. 640. «Прощай, свободная стихия! в последний раз...» — начальные строки стихотворения Пушкина «К морю» (1824).
С. 642. ...якут на станции ~ вооружился ~ ружьем, которое было в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. — Очевидно, Гончаров описывает ружье местного изготовления: по свидетельству Н. С. Щукина (о нем см. ниже, с. 765, примеч. к с. 679), «якуты с некоторого времени начали делать сами винтовки, но они далеки еще от совершенства» (Щукин. С. 227—228).
С. 645. ...и заварили свои два блюда: варенную в воде муку с маслом и муку, варенную в воде, без масла. — Способ приготовления этого якутского лакомства описан и у других авторов: «В горшок с кипящею водою, приправленною молоком и маслом, они всыпают горсти
- 757 -
две-три муки; варят с час на огне, мешая мутовкою, и кушанье готово: это если не хлеб, то хлебное блюдо» (Пежемский П. И. Якуты: (Отрывок из рукописи) // Иллюстрация. 1848. № 24. С. 380; см. также: Щукин. С. 212).
С. 645. Кучер Иван ~ приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет ~ Не знаю, правда ли. — Один из современников писал, что «рассказы якутов о старости, достигаемой лошадьми, доходят до пределов сказок. Говорят весьма многие, что были известны кони, жившие до 40 лет» (Гольман В. Заметки о коневодстве в Якутской области // Памятная книжка Якутской области на 1871 год. СПб., 1877. С. 136). Ранее Ф. П. Врангель, подтверждая эти сведения, сообщал, что якутские лошади «остаются молодыми несравненно долее наших, так что двадцатилетние почитаются у якутов еще не старыми и служат обыкновенно сплошь по тридцати лет» (Врангель. С. 120).
С. 646. Резигнация (фр. résignation) — здесь: покорность.
С. 646. ...прекрасную новую юрту ~ с окнами, где слюда вместо стекол...; см. также с. 648—649: ...в окнах слюда вместо стекол: светло и, говорят, тепло. — По свидетельству Н. С. Щукина, «сибирские крестьяне любят еще придерживаться слюдяных окон; они говорят, если слюда и темнеет, зато она крепче стекла, хотя стеклянное окно дешевле слюдяного. Делание слюдяных окон составляло прежде особенное искусство <...>. Окно делится на две или на четыре части железными прутиками, пластинки слюды, в натуральных своих фигурах, подбираются одна к другой так, чтоб в целом вышла какая-нибудь фигура в готическом вкусе. На слой пластинок накладывается с обеих сторон по жестяной узкой полоске, которые соединяются тонкими железными гвоздями» (Щукин. С. 50—51). См. также с. 779, примеч. к с. 708.
С. 647. ...король Сандвичевых островов ~ пожал ему руку. — О Сандвичевых островах см. выше, с. 739—740, примеч. к с. 604. Фрегат «Диана» посетил Сандвичевы острова в мае 1854 г.; в это время их королем был Камеамеа III (Kamehameha; 1814—1854), взошедший на трон в 1833 г. Офицеры фрегата представлялись ему 5 (17) мая; 7 (19) мая король вместе с супругой посетил фрегат (см.: Махов. С. 29—30); упоминаемый Гончаровым эпизод случился, по всей видимости, именно в этот день.
С. 648. В Нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. — Побывавший в Нелькане за несколько лет до Гончарова путешественник писал, что это «селение, состоящее из 5-ти домов», в которых «живут поселенцы, привезенные в 1845 году из Охотска с той целию, чтобы они занимались постройкою лодок, на которых Компания будет возить пассажиров и нужные продукты в Якутск, и, сверх того, разводили хлебные посевы» (Марков А. И. Аян и новый путь от Аяна до Якутска // МВед. Лит. приб. 1849. 25 июня. № 76; см. также: Тихменев. С. 25—26).
С. 649. Всё это переселенцы; см. также с. 652: Русские все старообрядцы, все переселенцы из-за Байкала. — Для устройства Якутско-Аянского почтового тракта и заселения мест, назначаемых для почтовых станций, были вызваны желающие переселиться на реку Маю из крестьян Иркутской губернии и Забайкальской области. Летом 1851 г. были выбраны места для этих поселений, а к маю 1852 г. «100 семейств, составлявших более 600 душ обоего пола, со всем их
- 758 -
домашним и полевым скарбом, с годовым запасом муки, крупы и зерна для первого засева полей, в сопровождении <...> конного и рогатого скота», были отправлены к Усть-Майской пристани, «откуда должно было начаться заселение на 26 прибрежных и далее на 2 станциях от Нелькана до Аяна» (Струве. С. 133—134). Как пишет позднейший исследователь, «прибыв на место, эти переселенцы, отличные пахари на родине, попали в очень грустное положение: при суровом климате хлеба недозревали, и поневоле они обратились в рыболовов и охотников, с трудом пропитываясь добычею этих промыслов. Голод и болезни сократили значительно число бедняков, прежде чем они получили возможность переселиться в Южно-Уссурийский край на средства казны» (Степанов М. Южно-Уссурийский край // Древняя и новая Россия. 1880. № 3. С. 451—452; о бедственном положении переселенцев см. также: Заборинский А. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский в 1848—1856 гг. С. 625). В 1869 г., через два года после закрытия Аянского тракта, половина семей с Май переселилась на озеро Ханко, а другая половина — на Камчатку. См. также: Майнов И. И. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб., 1912. С. 6—8.
С. 651. Они возят зимой на оленях, но, говорят, эта езда вовсе не так приятна, как на Неве, где какой-то выходец из Архангельска катал публику... — Зимой 1838—1839 гг. кемский купец Николай Спиридонович Черняев привел на продажу в Петербург стадо из 117 оленей, которое расположилось «возле деревни Коломяги, в полуторе версте от Парголова. В лесу устроен самоедский чум <...> в котором горит вечный огонь и живут три самоеда с своими собаками, стражами оленей. Стадо ходит вокруг этого чума, добывая корм из-под снега. <...> Ему советовали потешить петербургских жителей лапландскою ездою, и он <...> с масляницы выставил четверо саней (по 4 оленя в каждых), на бегу, против Зимнего дворца. Охотников кататься было множество на маслянице. Езда вокруг бега стоит рубль с особы. Возят самоеды в национальном костюме. Олени стоят на бегу от 9 часов утра до 3 пополудни. До сих пор не случилось никакого неприятного происшествия, и езда эта столь же безопасна, как на смирных лошадях. Бегут олени чрезвычайно шибко, но о скорости их бега нельзя судить иначе, как в дальней езде. Купец Черняев возил на оленях двух иностранцев в Кронштадт (за 25 рублей). Путь туда и обратно совершен в час с небольшим. Отправясь вместе с паровозом в Царское Село, Черняев на своих оленях прибыл туда тремя минутами ранее паровоза и готов биться об заклад, что приедет семью и даже десятью минутами ранее, если захочет. <...> Олени мчат вихрем, и санки чрезвычайно покойны, для одного седока» (<Без подписи>. Стадо оленей в Санкт-Петербурге // СПч. 1839. 10 февр. № 31). Езда на оленях настолько понравилась в Петербурге, что Черняев стал приводить оленей каждый год, вплоть до 1850-х гг. (см.: Щукин Н. С. Езда на оленях // СПбВед. 1850. 31 марта. № 73). О езде на оленях в Сибири Щукин писал, что она «для непривыкшего <...> есть мучение: седло вертится под ним с боку на бок, и, чтоб не упасть, надобно прижаться коленами к шее животного. Далее — ноги седока задевают за пни и колоды или тащатся по снегу. Олень идет всегда скорым шагом; уставши, ложится; отдохнув же несколько минут, встает и продолжает свою дорогу» (Щукин. С. 87).
- 759 -
С. 651. Якуты ~ должно быть, южного происхождения и родня каким-нибудь маньчжурам. — В первой половине XIX в. не было единого мнения по вопросу о происхождении якутов (см.: Щукин. С. 193—197; <Остолопов Н. Ф.?> О происхождении, вере и обрядах якутов // Любитель словесности. 1806. Ч. I. № 2. С. 118—119, а также статьи, указанные на с. 773 в примеч. к с. 693).
С. 651—652. Они едят что попало, белок, конину и всякую дрянь... — Н. С. Щукин пишет о якутах, что «поганого и мерзкого у них ничего нет: едят еврашек, кротов и падаль. Если отелится корова или кобыла, то у мокрого еще детенка вырезывают из-под копыта хрящик и сырой съедают, почитая сие за деликатес; едят насекомых и другую мерзость <...>. Вообще якуты славятся обжорством, в чем почитают величайшее наслаждение. Самого тощего якута в две недели можно откормить как лошадь» (Щукин. С. 212—213; см. также: Описание якутов. С. 376).
С. 652. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников. — Начало крещения якутов было положено в 1714 г.: 6 декабря митрополиту Сибирскому Федору был послан указ Петра I «Об уничтожении кумиров и кумирниц у вогуличей, у остяков, у татар и у якутов и о крещении сих народов в христианскую веру», в котором, в частности, говорилось: «...где найдешь их кумиры и кумирницы и нечестивые их чистилища, и то по сему нашему великого государя указу пожечь, а <...> всех иноземцев Божиею помощию и своими труды приводить в христианскую веру и о том явить им словесно и сей наш указ сказать: и которые <...> иноземцы крестятся, тем нашего царского жалованья давать холст ко крещению, на рубахи, и в ясаку им льгота будет» (ПСЗ-1. Т. 5. С. 133). В дальнейшем по Якутии ездили многие миссионеры. В 1799 г. протоиерей Григорий Слепцов основал походную Николаевскую церковь и прошел с ней по всей Якутии; он также был инициатором постройки ряда церквей. Вслед за ним с миссионерскими целями в Якутии побывали священники А. Дычковский, М. Попов, И. Ощепков и др. Подробнее см.: Мушкин П. Русские миссионеры у чаукчей // МВед. Лит. отдел. 1853. 9 июля. № 82.
С. 652. ...русские определены содержателями станций и получают все прогоны... — На Аянском тракте ямщики получали от казны по 320—400 руб. за одну станцию в год.
С. 652. «Можно реветь?» ~ «Ну реви!» — Глагол «реветь» в Сибири употреблялся в значении «звать» (см.: Даль. Т. 4. С. 89).
С. 652. ...понеслись фальцетто... — О фальцетто см. выше, с. 586, примеч. к с. 201.
С. 653. Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову: «Не прикажете ли бросить этот камень?» ~ «Белья некуда девать ~ И что за камень? хоть бы для точила годился!» — Ср. рассказ об Иване Григорьеве в письме Гончарова к Майковым от 14 сентября 1854 г.: «С одним из моих спутников, именно князем Оболенским, приехал из деревни, кругом Америки, на „Диане”, его кучер. Тот тешил меня еще больше Тимофея своим воззрением на виденные им страны, Сандвичевские острова, Апаразию (Вальпараисо) etc., его обращение с змеиными шкурами, разными редкостями, взятыми князем, и, между прочим, камнями с разных гор. Он просил сделать божескую милость позволить выбросить камни, говоря, что белья и других хороших вещей некуда деть, а тут каменья вози, а
- 760 -
уж ежели возить каменья, так просил взять один камень для точила, который увидал где-то в Бразилии».
С. 654—655. Одно неудобно: у нас много людей. ~ «У них уж завелась лакейская ~ Их не добудишься, не дозовешься, ленятся, спят ~ курят наши сигары». — О том же Гончаров писал Майковым в указанном выше письме: «Худо то, что люди наши, из которых каждый, будучи взят отдельно, препорядочный малый, а вместе все они образовали быстро лакейскую, со всеми ее гнусностями, не исключая и запаха. Лень, сон, вялость и прожорливость не знали границ. Когда надо, их не докличешься, когда не надо, они стоят и слушают, разиня рот, не касающийся до них разговор, быстро уничтожают целые головы сахару и проливают по горам вино».
С. 655. Вина в самом деле пока в этой стороне нет...; см. также с. 695: Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина; против тайного провоза его приняты очень строгие меры. — Согласно разработанному при непосредственном участии М. М. Сперанского и высочайше утвержденному 22 июня 1822 г. уставу «Об управлении инородцами», «ввоз и продажа горячих напитков в стойбищах и на ярмарках кочующих строжайше запрещается», а «за ввоз и продажу кочующим горячих напитков непосредственно ответствует Инородная управа и потому имеет право таковую продажу остановить, напитки отобрать и виновных представить начальству для поступления по законам» (ПСЗ-1. Т. 38. С. 397, 405—406). Однако, по высочайше утвержденному 29 ноября 1833 г. положению Сибирского комитета «О ввозе вина к инородцам кочевым и бродячим», не запрещалось «самим инородцам покупать вино в местах откупной продажи и провозить оное к своим семействам для собственного их домашнего употребления. Они токмо не должны перепродавать или, как они выражаются, променивать или одолжать оное никому другому и строжайше за сие ответствуют наравне с другими подобными продавцами оного» (ПСЗ-2. Т. 8. Отд. I. С. 710). Положение от 21 июня 1834 г. «Условия для содержания питейных сборов в Сибирских губерниях: Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской, и в Омской области с 1835 по 1839 год» оговаривало наличие питейных домов в Сибири: «...в городах <...> Якутской области: Олекминске, Оленске, Верхоянске, Среднеколымске, в самом Охотске и по Камчатскому краю в Петропавловской гавани — дозволяется иметь по одному только питейному дому в каждом из означенных городов. <...> Перемещения же питейных домов из городов в селения и из селений в города не дозволяется» (ПСЗ-2. Т. 9. Отд. I. С. 543—544); по аналогичному закону 1850 г. запрещалось иметь питейные дома в Охотске и на Камчатке (см.: ПСЗ-2. Т. 25. Отд. I. С. 352). Запрет на торговлю спиртным с местным населением был оговорен даже в уставе Российско-Американской компании, утвержденном 10 октября 1844 г... «Крепкие напитки и огнестрельные снаряды исключаются из предмета мены, в том уважении, что могут обратиться во вред жителей. При угощениях не воспрещается, однако, давать и крепкие напитки в малой мере» (ПСЗ-2. Т. 19. Отд. I. С. 638). Однако запреты эти постоянно нарушались, и контрабанда спирта в Восточной Сибири к середине XIX в. приобрела широкий размах.
С. 655. Подстава — лошади, выставленные впереди по пути следования для замены уставших.
- 761 -
С. 657. ...потомок Атласова, одного из самых отважных покорителей Камчатки... — Имеется в виду первопроходец Василий Васильевич Атласов (ок. 1661/1664—1711), в 1697—1699 гг. совершивший первые походы по Камчатке; об Атласове Гончаров знал из книги С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (СПб., 1755. Т. 2. С. 192—206), о чтении которой он упоминал в Автобиографии 1874 г.
С. 658. По платью их не отличишь от мужчин, только и можно узнать по серьгам. — Как пишет один из этнографов того времени, якутские женщины «носят такое же платье, как и мужчины, но шубы их ниже колен <...> В ушах имеют по три и по четыре серьги, сделанные из больших серебряных колец, и вместо подвесок на оных вздевают по три и четыре китайские королька двух цветов, белого и черного, а на конец тонкие серебряные круглые бляшки, величиною в денежку» (Описание якутов. С. 373).
С. 658. Дормез — большая карета, приспособленная для сна в пути (фр. dormeuse; букв. — соня).
С. 659. ...до Амгинский слободы, заселенной русскими... — Амгинская слобода была основана казаками в 1735 г. О ней Гончаров писал в письме к А. А. Краевскому в сентябре 1854 г.: «Здесь есть целая русская слобода, Амгинская, на реке Амге, где почти ни один русский не говорит, то есть не знает, по-русски, а всё по-якутски». Об этом же свидетельствует и Н. С. Щукин, писавший, что она состоит «из русских крестьян; но крестьяне сии совершенно не умеют говорить по-русски и ничем не отличаются от якутов» (Щукин. С. 165; ср. также: Струве. С. 67).
С. 660. Нет сомнения, что будет езда и дальше по Аянскому тракту. Всё год от году улучшается... — Прогнозы Гончарова не оправдались, так как «в 1854 году началось плавание по Амуру и таким образом открылось для Восточной Сибири сообщение с Тихим океаном, минуя Якутск и Аян, и в тракте Якутско-Аянском надобности насущной не представлялось» (Струве. С. 146). В 1867 г. Аянский тракт был официально закрыт. См. также: Линден. С. 115—116.
С. 660. Если б видели наши столичные чиновные львы ~ они бы покраснели за свои так называемые неусыпные труды... — Ироничное высказывание о «неусыпных трудах» петербургских чиновников ср. в «Обрыве» (часть I, глава I). О «львах» см.: наст. изд., т. 1, с. 472—473, 787—788.
С. 661—662. В слободе есть деревянная церковь во имя Спаса Преображения. — Сооружена в 1824 г.
VIII
ИЗ ЯКУТСКА
С. 667. Мы вошли в ~ урасу. Это просто большой шалаш, конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил насквозь. ~ Посредине открытый очаг, вверху отверстие для дыма. — Ср. описание урасы у Н. С. Щукина: «Если тунгус вздумает остановиться где-нибудь на житье <...> тотчас срубает несколько шестов, ставит их конусом и бока до самого верху покрывает берестом или лосиными кожами, оставя небольшое отверстие для выхода дыма. Береста для сего сшивается
- 762 -
конскими волосами в длинные и широкие пласты. <...> Посреди урасы он разводит огонь и на три камня, воткнутые в землю, ставит котел» (Щукин. С. 84).
С. 667. ...в нем всего две тысячи семьсот жителей. — По данным 1849 г., население Якутска составляло 2960 человек (см.: Месяцеслов на 1854 год. СПб., [1854]. С. 84).
С. 668. ...«Плотников — моя фамилия» ~ и мне живо представилась подобная же сцена из «Ревизора». — Имеется в виду просьба, с которой Бобчинский обратился к Хлестакову (д. IV, явл. 7): «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. <...> Да если эдак и государю придется, то скажите и государю...» (Гоголь. Т. IV. С. 66—67).
С. 671. Мальчишка достал ~ грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда ~ табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и подкрошил туда же ~ «Зачем дерево кладешь в табак?» ~ «Крепше!»... — На этот обычай народов Восточной Сибири указывает и Ф. П. Литке; он пишет, что для экономии табака «изобрели они трубки, выдалбливаемые из толстого куска дерева: в пустоту кладутся мелкие деревянные стружки, которые от проходящего через них дыма так напитываются табачным маслом, что скоро делаются крепче (и, стало быть, на их вкус лучше) самого табаку: эти стружки служат для других, и так до нескольких раз» (Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин». 1826—1829. 2-е изд. М., 1948. С. 224).
С. 671. ...между ними бродит стадо коров да два-три барана, которых я давно не видал. ~ Якутск построен на огромной отмели... — Как писал Н. И. Шарыпов, побывавший в Якутске через два года после Гончарова, «город Якутск стоит на ровном месте, окружен сенокосными полями, способствующими большому скотоводству; а потому здесь скотское мясо около 1 р. сер. пуд, хлеб около 70 коп. сереб. и молоко нипочем...» (Шарыпов, л. 93 об.).
С. 672. Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. ~ Этак, пожалуй, и мы с вами кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское Село, Ораниенбаум. — Возможно, здесь Гончаров иронизирует над положениями устава «Об управлении инородцами» (о нем см. выше, с. 760, примеч. к с. 655), по которому «все обитающие в Сибири инородные племена <...> по различной степени гражданского их образования и по настоящему образу жизни, разделяются на три главные разряда», а якуты относятся к разряду «кочевых, занимающих определенные места, по временам года переменяемые» (ПСЗ-1. Т. 38. С. 394).
С. 673. ...Якутская область, с первого января 1852 года ~ отделена от зависимости иркутского губернского начальства и управление ее вверено особому гражданскому губернатору. Впрочем, она ~ подчинена главному управлению генерал-губернатора Восточной Сибири. — 11 июля 1851 г. было высочайше утверждено и 16 августа опубликовано положение о управлении Забайкальской областью, вторым пунктом которого значилось: «Оставив Якутскую область в настоящих ее пределах, отделить оную от зависимости иркутскому губернаторскому
- 763 -
начальству», а управление ею вверить гражданскому губернатору, которого подчинить непосредственно генерал-губернатору и Главному управлению Восточной Сибири (ПСЗ-2. Т. 26. Отд. I. С. 476). В тот же день было утверждено и положение «Об управлении Якутской областию» (Там же. С. 480—483), регламентирующее чиновничий штат (подробнее см.: Новое разделение и устройство составных частей Восточной Сибири // ЖМВД. 1851. № 10. С. 147—156). Официальное открытие области состоялось в Якутске 1 января 1852 г.; в тот же день по этому случаю в городе прошел праздник (подробнее см.: С......... Письмо в редакцию «Московских ведомостей» // МВед.1852. 6 марта. № 29).
С. 673. ...я въехал в кучу почерневших от времени, одноэтажных, деревянных домов... — Как писал в дневнике Н. И. Шарыпов, «объехавши несколько раз Якутск кругом, я не встретил ничего примечательного, все тут весьма обыкновенно, город чрезвычайно древний, очень много видно бедности, хотя есть один каменный дом, и тот весь развалился, прочие же все деревянные, большею частию жалкой архитектуры...» (Шарыпов, л. 93—93 об.). Сам Гончаров о якутских домах писал А. А. Краевскому в сентябре 1854 г. так: «Есть еще здесь <...> сотни три-четыре домов, все деревянные, кроме одного, и все похожие на дом Бабы-Яги, не исключая и губернаторского»; в письме к Ю. Д. Ефремовой от 15 сентября 1854 г. он назвал Якутск «деревней с претензиями быть городом».
С. 673. Вот гостиный двор, довольно пространный ~ В гостином дворе ~ я видел много входящих и выходящих якутов ~ Прочие горожане закупают всё, что им нужно, раз в год на здешней ярмарке. — Каменный гостиный двор в Якутске был построен в 1836 г. Более подробное его описание Гончаров дал в указанном выше письме к А. А. Краевскому: «Гостиный двор — здание превеличественное, облезлое, выцветшее, заплеванное, засморканное и запиханное, что всё придает ему зеленовато-античный вид. Его засморкало время, больше некому, купцов нет, они все сидят дома, и лавки отпираются, когда являются покупатели». В Якутске был и еще один, деревянный, гостиный двор, построенный двумя годами ранее каменного; как пишет Н. С. Щукин, каменный гостиный двор «стоит на Никольской улице и называется Большим базаром; а другой на берегу Лены, в котором преимущественно продается мука, носит название Малого базара. Сии лавки во время ярманки бывают открыты; город делается многолюдным, и каждый спешит в гостиный двор запастись припасами на целый год, потому что после ярманки цены обыкновенно поднимаются» (Щукин. С. 142). Ярмарка в Якутске была учреждена в 1768 г. и проходила с 10 июля по 1 августа; в конце декабря проходила еще одна, «малая», ярмарка, но на нее никаких товаров не привозилось, а продавались «оставшиеся от июльской ярмарки товары и привезенные якутами разные припасы и изделия» (ПКЯО. С. 74).
С. 673. ...вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом. — Этот дом был построен в 1707 г. для воеводской канцелярии.
С. 673. Я ехал мимо старинной, полуразрушенной стены и несколько башен: это остатки крепости ~ и скоро в Якутск прибыл воевода. — Якутский острог был основан казачьим сотником Петром Бекетовым в 1632 г. на правом берегу Лены; в 1636 г. был перенесен на левый
- 764 -
берег Лены, на 70 км выше, и тогда же начато строительство деревянной крепости. В 1683 г. воевода И. В. Приклонский перенес эту крепость на 580 саженей выше по течению Лены. В 1922 г. острог был разобран и употреблен на растопку электрической станции г. Якутска; сохранилась только одна башня. Первым якутским воеводой был назначенный на эту должность в 1638 г. стольник Петр Петрович Головин; он прибыл в Якутск 1 июня 1640 г. вместе со своими помощниками стольником Матвеем Богдановичем Глебовым и дьяком Ефимом Филатовым. Исторические сведения о якутской крепости Гончаров почерпнул, по всей видимости, из книги Н. С. Щукина (см.: Щукин. С. 114—115; 130—134). Ср. также описание крепости в упомянутом выше письме А. А. Краевскому: «Крепость построена казаками, за 200 лет, для защиты от набегов якутов, которых казаки сами же и притесняли. Твердыня очень тверда, топор не берет дерева, отчего оно и предпочитается здешними мещанами, при постройке домов, всякому новому еловому и сосновому дереву, за которым еще надо ездить в лес, тогда как это лежит готовое на площади. Губернатор велел, однако, огородить эту древность забором, не против набегов мещан и не из антикварских побуждений, а потому, что стены и башни клонятся все на сторону, между тем якутки ходят садиться в тень ее, затем ли, чтоб оплакивать свой Иерихон, или с другою, более практическою целью, этого я, в своих ученых исследованиях, добиться не мог». Якутский острог был обнесен круговым забором по приказу губернатора в 1854 г. «для предохранения от повреждений» (РГИА, ф. 1285, оп. 4, № 109, л. 21). Подробнее о Якутском остроге, а также его изображения см.: Султанов Н. В. Остатки Якутского острога и некоторые другие памятники деревянного зодчества в Сибири. СПб., 1907. С. 31—62.
С. 674. «Вам какую угодно ~ тарабаганью... — Т. е. шубу из шкурок тарбагана, небольшого грызуна отряда сурков.
С. 674. ...вот если б летом изволили пожаловать, тогда дивно бывает мехов... — Согласно официальной статистике, в 1854 г. на ярмарку в Якутск было привезено, в частности, шкур черной белки — 190 000 шт., серой и бусой (т. е. дымчатой) белки — 46 000 шт., горностая — 26 000 шт., белых песцов — 4 500 шт., красной лисицы — 4 200 шт., хорьков — 1 200 шт., куниц — 300 шт., медведей — 55 шт., выдр — 30 шт., волков — 20 шт., рысей — 10 шт. и т. п. (см.: ПКЯО. С. 76—77).
С. 675. «Но, главное, помните, меховые панталоны», — сказал мне серьезно один весьма почтенный человек. ~ «Ну, помянете меня!» — сказал он пророческим голосом. «Не забудьте также мехового одеяла», — прибавил другой. ~ «А если попадете на наледи...» — О советах, данных ему по поводу дорожной одежды, Гончаров вспоминает в письме к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1854 г.: «Я недаром противился советам преосвященного (Иннокентия. — Ред.) насчет дороги: морозы созданы как будто не для меня, или уж я чересчур нагрелся в тропиках, только я в одной дохе сносил их весьма равнодушно, ни разу не почувствовав нужды ни в медвежьем одеяле, ни в меховых горностаевых панталонах, которыми советовал запастись его преосв<ященство>. И мне остается пожалеть, что не заказал себе таких панталон разве только потому, что, по приезде в Петербург, нечего будет подарить дамам на шапки и на муфты. Наледей я, правда, видел много, но только больше у себя под носом».
- 765 -
С. 676. Вот теперь у меня в комнате лежит ~ беличий тулуп... — Этот же тулуп упоминается Гончаровым еще раз; в очерках «Слуги старого века» (1888) среди вещей, украденных из его квартиры на Моховой, назван «отличный тулуп на беличьем меху, привезенный <...> из Сибири, крытый китайским атласом. <...> Тулуп из отборных белок, сделанный в Якутске, я тоже никогда не надевал, чтоб не приучать тело к излишнему теплу. Но мне все-таки было жаль его: так он был хорош».
С. 677. ...творится то же, что творится, по словам Гумбольдта, с материками и островами посредством тайных сил природы. — Гончаров имеет в виду идеи А. фон Гумбольдта (о нем см. с. 542, примеч. к с. 10), изложенные в его книге «Космос: Опыт физического мироописания» (СПб., 1848. Ч. 1. С. 110 и след.; глава «Земля. Обзор земных явлений»).
С. 677. ...как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. — Неясно, что имеет в виду Гончаров; об инициаторах постройки пирамид и о методах их строительства подробно писал еще Геродот («История», II, 124 и след.).
С. 677—678. ...те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными... — См. выше, с. 577, примеч. к с. 157.
С. 678. ...плод от брошенного Им зерна. — Имеется в виду притча о сеятеле из Евангелия от Иоанна: «...если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (12: 24).
С. 678. «А берегом?» ~ «Горой ехать?... — Слово «гора» на севере употребляют также в значении «земля», «суша», «берег» (см.: Даль. Т. 1. С. 375).
С. 679. ...и садятся за бостон... — Бостон — карточная игра для четверых игроков, играющих двумя колодами карт; относится к разряду «коммерческих» игр (см.: наст. изд., т. 1, с. 757).
С. 679. ...пробегая одну книгу о Якутске («Поездка в Якутск»)... — Гончаров упоминает книгу писателя и краеведа, автора многочисленных работ о Сибири, Николая Семеновича Щукина (1792—1883) «Поездка в Якутск» (СПб., 1833; 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1844; 1-е изд. перепечатано в сб.: Записки иркутских жителей / Сост., примеч. и послесловие М. Д. Сергеева. Иркутск, 1990), оба издания которой заслужили положительные отзывы критики (рецензии указаны в кн.: Межов В. И. Сибирская библиография. СПб., 1903. Т. 2. С. 307). Гончаров пользовался, судя по всему, первым изданием книги, почерпнув из нее многочисленные факты исторического и этнографического характера.
С. 679. Автор жалуется на господствующую будто бы здесь страсть к ябедничеству (стр. 126), на недостаток веселости в собраниях, на общее друг к другу недоверие и т. п. В приведенной книге даже сказано, что будто приглашенные вечером гости, просидев часу до второго, возвращаются домой к своему ужину. — Гончаров пересказывает следующие фрагменты книги Щукина (находящиеся на с. 162, а не 126): «Наклонность к тяжбам и ябедам нигде, кажется, так не господствует, как в Якутске: сею болезнию заражены и русские, и якуты. <...> Здешние дельцы, живущие в Иркутске, друзьям своим и знакомым, как редкость или новость, присылают копии с ябед и прошений своих. <...> все твердят, что прежде у
- 766 -
них было гораздо веселее <...> может быть, это и правда, потому что теперь несносная скука. Я был на обеде в первом здешнем купеческом доме. Гостей посадили за стол по чинам и отношениям <...>. Каждый сидел молча, углубив нос в тарелку, изредка кидая недоверчивые взгляды на своих соседей <...>. Обед был огромный, во вкусе наших предков, и продолжался часа четыре. После стола нас всех пригласили на вечер. Вечерние собрания оживляются европейскими танцами. Нечего говорить о музыке и танцовщиках! Зато здесь каждый танцует; но всего удивительнее, что гости, просидев часу до 2-го, возвращаются домой к своему ужину» (Щукин. С. 162—163).
С. 680. Говоря о ябедничестве, автор, может быть, относил эту слабость к якутам: они действительно склонны к ябедничеству... — О ябедничестве якутов подробно писали в те годы; ср.: «Коварный нрав сего народа до того простирается, что якуты, поссорившись между собою, друг на друга приносят начальству жалобы в своих претензиях, и <...> происходят тяжбы между ими от дружеских связей. У них существует обыкновение, что когда один к другому приглашается в назначенное время в гости, то для угощения хозяин убивает скотину по своему рассуждению, от которой оставшееся за обедом и ужином отдает гостю для отвоза в дом; при сем дарит гостя скотом, рухлядью или деньгами; но для воздаяния угостивший также должен ехать в гости, и если при сем случае хотя самомалейший окажется недостаток к его угощению или отдарки за его подарки не будут соответственными, тогда дружба прекращается и дело доходит до ссоры и тяжбы. При сем достопримечательнее то, что часто случаются таковые неудовольствия от самой малости, иногда от пяти рублей; но для получения подобной безделки не щадят они своих убытков, которые часто бывают вчетверо, только для того, чтобы взять верх. По сему видно, что они заводят тяжбы единственно из упрямства и в цели нанести своему сопернику издержки и беспокойствие» (Описание якутов. С. 287—288; см. также: Иннокентий. Творения. Кн. 2. С. 163; Уваровский А. Я. Воспоминания // Бётлингк О. Н. О языке якутов / Пер. с нем. В. И. Рассадина. Новосибирск, 1990. С. 105).
С. 680. ...(см. фельетон «С.-П<етер>б<ургских> ведомостей», № 176, 11 августа 1854 г.)... — См. об этом выше, с. 471.
С. 680. ...свежи еще в памяти у нас мрачные предания как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений? — Сведения о злоупотреблениях и бесчинствах сибирских чиновников Гончаров мог почерпнуть из публиковавшейся в 1847 г. в «Отечественных записках» книги П. И. Небольсина «Рассказы о сибирских золотых приисках» (см.: ОЗ. 1847. № 8. Отд. VIII. С. 126—128) и из устных рассказов И. С. Москвина (о нем см. ниже, с. 767, примеч. к с. 686).
С. 684. На Мае есть, между прочим, отставной матрос Сорокин... — О «ссыльно-поселенце Усть-Майской пристани» Сорокине упоминает и Б. В. Струве, отмечая, что тот оказал большую помощь при заселении Аянского тракта (см.: Струве. С. 134).
С. 686. Только в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. — Н. С. Щукин писал: «Якутский архив есть один из примечательнейших во всей Сибири, как по своей древности, так и по рукописям, в нем сохранившимся. Архивы прочих городов Сибири истреблены пожарами,
- 767 -
но якутский оставался <...> во всей полноте. <...> Но в каком уважении находятся теперь <...> драгоценные исторические факты! Они брошены на жертву времени и стихиям в анбар, сквозь худую кровлю которого течет дождевая вода, и бедные свитки исчезают. Некоторые из них превратились в прах; других нельзя уже развернуть, от сырости они слились в одну массу. Множество рукописей растащено и употреблено на заклейку окон и стен...» (Щукин. С. 137—138). В официальном же отчете якутского губернатора за 1854 г. говорится, что «старые дела <...> сохраняются в одном помещении, прочном и защищенном от сырости. <...> Ныне по разборке сих свитков замечательнейшие из них <...> посланы в списках в Иркутский отдел Географического общества. К сожалению, много пропало особенно замечательных свитков, заключающих в себе важные исторические факты <...>. По поручению генерал-губернатора Восточной Сибири разбор древних свитков делается под личным наблюдением гражданского губернатора и принимаются все меры к отысканию потерянных» (РГИА, ф. 1285, оп. 4, № 109, л. 36—37).
С. 686. Некоторые занимаются здесь ~ разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. — Гончаров имеет в виду прежде всего якутского купца И. С. Москвина (ум. до 1863), о знакомстве с которым сообщал в письме к А. А. Краевскому в сентябре 1854 г. Большую и богатую материалами статью Москвина «Воеводы и начальники г. Якутска и их действия» в сокращении см.: ПКЯО. С. 165—202.
С. 686. Упомяну прежде о наших миссионерах ~ священники Хитрое и Запольский. — Имеются в виду протоиерей Дмитрий Васильевич Хитров (в монашестве Дионисий; 1818—1896), впоследствии епископ Уфимский и Мензелинский, и протоиерей Никита Николаевич Запольский (ок. 1818—1863).
С. 686. Они постоянно разъезжают по якутам, тунгусам ~ к другим для обращения. — В 1844 г. по высочайшему повелению в Якутске были учреждены две походные церкви, Благовещенская и Николаевская, начавшие действовать с 1845 г. Священниками при них были определены Хитров и Запольский; первый в своих записках так вспоминает об этом: «Оба мы <...> каждый год совершали пути до 10 тыс. верст, посещая почти все приходы Верхоянского и Колымского округа, а также отдаленнейшие места и Якутского округа <...> и, сверх того, кочевья тунгусов, скитающихся в вершине реки Олекмы, а Запольский даже пробрался чрез Яблонный хребет на реку Зею и, по Амуру отплыв в Восточный океан, воротился чрез Аян, Нелкан и Устьман (правильно: Устьмай. — Ред.) в Якутск. Разъезды эти соединены с неимоверными трудностями. По нескольку месяцев сряду мы ночевали на снегу под открытым небом при трескучих полярных морозах, отчего некоторые из нас, священников, преждевременно сходили в могилу, другие, страдая несколько лет от цинги, до конца расстроили свое здоровье. От простуды помер о. Лаврентий Винокуров, а от цинги и расстройства печени — протоиерей Запольский» (Автобиографические записки преосвященного Дионисия, епископа Уфимского и Мензелинского // Уфимские епархиальные ведомости. 1900. № 6. С. 179). См. также: Мушкин П. Русские миссионеры у чаукчей // МВед. Лит. отдел. 1853. 9 июля. № 82; 11 июля. № 83.
- 768 -
С. 686. «В иных местах есть поварни»... — Поварни были построены в 1820-х гг. по инициативе верхнеянского окружного исправника Тарабукина для удобства проезжих. «Сии строения, — пишет Ф. П. Врангель, — состоят только из четырех стен и плоской кровли, в которой находится дыра для дыма: в середине комнаты помещается очаг, а по краям лавки. Несмотря на несовершенное и щелистое устройство, поварни <...> доставляют <...> достаточную защиту от непогоды и вьюги» (Врангель. С. 122).
С. 687. «Мы однажды добрались в пургу до юрты ~ а товарищи отстали ~ их нашли у дверей юрты. Последнюю ночь они провели тут, не подозревая жилья». — Этот случай произошел не с Н. Н. Запольским, а с Д. В. Хитровым, он рассказывает о нем в своих записках: «Числа 25 апреля (1846 г. — Ред.) я опять из-за дьячка своего натерпелся страху. При переезде от поварни Большой Чукочи на Малую Чукочу <...> стал свежеть ветерок и начинало темнеть. Ямщики, посоветовавшись между собою, присудили: если пурга усилится и кто из них засветло не доедет до Малой Чукочи, — следует остановиться для ночлега среди тундры, иначе можно заехать бог весть куда. Я и со мной еще две нарты прибыли в Малую Чукочу часа через два. К нашему счастию, мы пристали в такую квартиру, в которой хотя не было жителей, но она была тепла и чиста; видно, что только что кто-то выехал из ней. Сварили чай и ужин, но пища нам на ум нейдет, потому что дьячка нет, а пурга так усилилась, что в двух шагах не видно предмета. Всю ночь просидели мы в ожидании дьячка. Утром и весь другой день такая страшная была пурга, что из сеней до нарты за провизией отпускали проводников на веревочке; иначе им не найти бы и дверей. На 3-й день я встал ранее обыкновенного и, собрав своих проводников, просил их совета, как пособить горю. Ответ был один: не знаем, что делать. <...> Ветер не переставал дуть с прежней силой, но снегу несло менее, отчего и сделалось гораздо светлее, так что можно было видеть иногда сажен на 20-ть и даже на 30-ть; и вот мы все — я и трое проводников, — как бы сквозь туман, но осязательно видим <...> человека по направлению к нашей хижине; видение это становится яснее и яснее, и мы с радостью узнаем в этом человеке дьячка своего Ивана Филипповича и бежим ему навстречу. Думали, что и Иван Филиппович, видя товарищей своих, обрадуется им; напротив, он стал выть и укорять, что его бросили и оставили. Все спутники его, как будто и в самом деле виноватые, молчали пред ним, дав ему выплакаться досыта. Потом, дав ему чашечку любимого им алкогольного бальзама и горячего чая, спросили: где же он все время находился и где его проводник Филипп Черемхин? „Все время и лежали мы, — говорит он, — на том месте, где вы увидали меня. Если бы не было приказано остановиться там, где застанет пурга, мы бы доехали благополучно до вашего ночевья, — собак сколько ни привязывали мы, они всё вставали и лаяли, чуя вас”» (Автобиографические записки преосвященного Дионисия... // Уфимские епархиальные ведомости. 1900. № 7. С. 218—221).
С. 687. На днях священник Запольский получил поручение ехать на юг, по радиусу тысячи в полторы верст или и больше ~ узнать всё, что касается до его обязанностей. — О миссионерских поездках Н. Н. Запольского писал его биограф: «Будучи миссионером, о. Никита почти каждый год предпринимал самые далекие и
- 769 -
трудные путешествия. Едва ли осталось какое-нибудь пустынное место в Якутской области, куда бы он по несколько раз не проникал с проповедью слова Божия. Начиная с берегов Ледовитого океана до притоков Амура, всюду можно видеть следы его миссионерской деятельности» (Трифонов А. Воспоминание об о протоиерее Н. Запольском // Иркутские епархиальные ведомости. 1871. № 34. С. 661).
С. 688. Вам известен он как автор книги «Записки об Уналашкинском отделе Алеутских островов», изд<ание> 1840 г. протоиерея ~ Вениаминова. — Имеется в виду книга «Записки об островах Уналашкинского отдела» (СПб., 1840. Ч. 1—3), встреченная положительными отзывами. Так, один из рецензентов писал, что ее отличают «простота и благородство изложения и вместе увлекательность рассказа о самых обыкновенных и даже прозаических вещах...» (ЖМНП. 1841. Ч. 31. Отд. VI. С. 186), а другой советовал «всякому любознательному читателю обратить на нее внимание и ознакомиться с нею покороче. Предмет так нов и интересен и автор так хорошо умел им воспользоваться, что, рекомендуя книгу его просвещенным читателям, мы надеемся доставить им полное наслаждение» (ОЗ. 1841. № 1. Отд. IX. С. 21); см. также: СО. 1841. № 3; Маяк. 1841. Ч. 16. Отд. IV. С. 217—246 (автор — С. Б. (С. О. Бурачок)); СПч. 1841. 2 июня. № 119 (автор — Л. Л. (В. С. Межевич)). В 1841 г. «Запискам...» была присуждена Демидовская премия.
С. 688. ...им же изданы алеутский и алеутско-кадьякский буквари ~ То же самое ~ сделано и для колош. — Алеуты — жители Командорских островов; по словам Иннокентия, «алеуты, число коих простирается не более 2500 душ <... > имеют на своем родном языке Слово Божие писанное, в их церквах и молитвенных домах много читается и поется на их языке <...>. Лишь только алеуты увидели книги на своем родном языке, в них возбудилось такое желание учиться читать сии книги, что не только взрослые мужчины и женщины стали учиться тому друг от друга, но даже и седые старики...» (Иннокентий. Творения. Кн. 2. С. 321; ср.: Струве. С. 142). Кадьяки — алеутское племя, жившее на острове Кадьяк. Колоши (или колюжи) — «народы, населяющие северо-западный берег Америки <...> от реки Колумбии до горы Св. Илии, и преимущественно живущие на островах, прилежащих к материку Америки и известных под именем Архипелага Принца Валлийского и Короля Георга III. <...> они не монгольского, т. е. не того происхождения, к которому принадлежат алеуты и прочие северо-американские народы; но совершенно особого, американского», — писал Иннокентий и далее отмечал, что они «из всех их суть лучший народ по своим способностям и деятельности» (Вениаминов И. Записки об островах Уналашкинского отдела. Ч. 3. С. 26—27, 113; см. также: Тихменев. С. 340—350). Колоши были известны также своей жестокостью и воинственностью. Гончаров упоминает следующие книги Иннокентия: имевшийся в библиотеке писателя (см.: Библиотека. С. 15) «Алеутский букварь» (М., 1846; сопроводительную записку к изданию см.: Иннокентий. Письма. Кн. 3. С. 391—396), а также «Опыт грамматики (и словаря) алеутско-лисьевского языка» (СПб., 1846) и «Замечания о колошенском и кадьякском языках и отчасти о прочих российско-американских, с присовокуплением российско-колошенского словаря, содержащего
- 770 -
более 1000 слов, из коих на некоторые сделаны пояснения» (СПб., 1846). Все эти книги получили высокую оценку в печати (см. об этом: Барсуков 1883. С. 44—46, 92—98, 134—137).
С. 688. Если хотите подробнее знать о состоянии православной церкви в Российской Америке, то прочтите изданную, под заглавием этим, в 1840 году брошюру протоиерея И. Вениаминова. — Имеется в виду статья «Состояние православной церкви в Российской Америке» (ЖМНП. 1840. Ч. 26. № 6. Отд. V. С. 15—58; отд. отт.: СПб., 1840).
С. 688—689. Под его руководством перелагается евангельское слово ~ Я случайно был в комитете ~ Перевод вчерне уже окончен. ~ там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. ~ Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами. — В 1852 г. по инициативе Иннокентия духовные лица Якутска начали переводить священные книги на якутский язык. К 1854 г. часть работы была завершена, и 20 октября Иннокентий в одном из писем сообщал, что «начался пересмотр переводов <...> и это делается, по вечерам, у меня в доме 2 раза в неделю» (Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 425). Более подробно об этом он рассказывал в письме к А. Н. Муравьеву от 3 ноября 1854 г.: «...в прошедшем месяце начались в моих келиях заседания для пересмотра якутских переводов. <...> Но дело идет не очень быстро: едва одну главу успевают просмотреть; впрочем, это оттого, что много бывает толков о каждом слове, не вполне выражающем русский текст. И потому дело пересмотра не скоро кончится; да притом и после этого еще будет пересмотр не переводов, но только слов, не вполне соответствующих с русским текстом; и это будет уже в большом собрании многих лиц духовных и светских, и якутских, и русских» (Там же. С. 427; о проблемах переводов на якутский язык см. также: Иннокентий. Письма. Кн. 3. С. 384—391). Главнейшими деятелями комитета были протоиереи Е. В. Протопопов, Д. В. Хитров, Н. Н. Запольсккй и священники М. С. Ощепков, П. П. Попов и Д. В. Попов; в 1855 г. он получил официальный статус; 17 августа 1855 г. Синод постановил издать переведенные на якутский язык книги. В Москве в 1858 г. под наблюдением Д. В. Хитрова были напечатаны следующие переводы: «Книга Бытия», «Евангелие», «Деяния Св. Апостолов», «Божественная литургия Иоанна Златоуста и требник» и «Часослов и псалтир». 19 июля 1859 г. в Якутске прошла первая литургия на якутском языке, отслуженная Иннокентием (см.: ПКЯО. С. 126—128; ЖМНП. 1859. № 12. Отд. VII. С. 168—170; Иннокентий. Письма. Кн. 2. С. 188—193). О деятельности комитета со слов Гончарова рассказывает и Б. В. Струве (см.: Струве. С. 142—143).
С. 689. Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке ~ Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами... — О трудностях перевода Евангелия на якутский язык Иннокентий подробно писал К. С. Сербиновичу 10 января 1857 г.: «...первое Евангелие пересматривалось несколько раз, и каждый раз делались поправки и перемены, и это, главное, оттого, что сами наши отцы члены комитета нашего, можно сказать, до того времени не знали языка якутского как следует. Много говорящих по-якутски очень хорошо и в то же время знающих русский язык как нельзя лучше; но когда
- 771 -
пришлось переводить с русского на якутский, то какая иногда выходит гиль! и это частию от незнания вполне русского текста, а главное — от неумения передать по-якутски сообразно складу этого языка. Все прежние переводчики, не исключая и наших отцов членов, при переводе держались русского склада и смысла; и оттого выходило, что слова, взятые сами по себе, правильны во всех отношениях и стоят на местах, — и переводчику казалось, что перевод его ясен как нельзя лучше; но для якута он таков же, как наши церковные ирмосы: слова — наши, а понять нельзя скоро, потому что склад не русский, а греческий. Наконец, Господь вразумил и наших отцов, как нужно передавать якутам русскую речь, и теперь дело пойдет скорее» (Иннокентий. Письма. Кн. 2. С. 44).
С. 689. ...священник Хитров, занимается ~ составлением грамматики якутского языка ~ Она уже кончена. — Упомянутая «Краткая грамматика якутского языка» вышла в Москве в 1858 г.; о ее научном значении см.: Убрятова Е. И. Очерк истории изучения якутского языка. Якутск, 1945. С. 16—17.
С. 689. ...Евангелие окончено переводом на тунгусский язык ~ Составлена ~ и грамматика тунгусского языка, всё духовными лицами. А один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов. — Перевод Евангелия на тунгусский язык был сделан в 1852 г. охотским протоиереем Стефаном Поповым (см.: Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 394; ср.: Там же. Кн. 2. С. 184); почти через тридцать лет напечатано было только Евангелие от Матфея (Казань, 1880). Кроме того, С. Попову принадлежат «Тунгусский букварь» (М., 1858) и «Краткий тунгусский словарь» (М, 1859). О научном значении этих трудов см.: Горцевская В. А. Очерки истории изучения тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1959. С. 16—17. Факт публикации последнего упоминаемого Гончаровым труда не установлен.
С. 690. ...для якутской грамоты приняты русские буквы ~ посредством особых знаков ~ знаете это из книги г-на Бётлинка... — Имеется в виду книга жившего в России немецкого лингвиста Отто (Оттона Николаевича) Бётлингка (Böhtlingk; 1815—1904) «Ueber die Sprache der Jakuten: Grammatik, Text und Wörterbuch» (St-Petersburg, 1851), введение к которой, содержащее теоретическую часть исследования, было тогда же переведено на русский язык (О языке якутов: Опыт исследования отдельного языка в связи с современным состоянием всеобщего языкознания // Учен., зап. имп. Академии наук по Первому и Третьему отделениям. СПб., 1853. Т. 1. С. 377—446); полный перевод книги был осуществлен лишь в наши дни: Бётлингк О. Н. О языке якутов / Пер. с нем. В. И. Рассадина. Новосибирск, 1990. Подробнее о Бётлингке и его трудах см.: О. Н. Бётлингк и его труд «О языке якутов»: (Материалы конференции, посвященной 120-летию выхода в свет труда О. Н. Бётлингка «О языке якутов»). Якутск, 1973.
С. 691. Сам г-н Бётлинк ~ ссылается на другие авторитеты. — В конце введения к своей книге О. Бётлингк перечисляет 14 источников, сведения из которых использовал в своей работе.
С. 691. Один определил склонение магнитной стрелки... — Знание склонения магнитной стрелки в различных районах земли необходимо для выяснения точного местонахождения судна, так как географический и магнитный полюсы Земли не совпадают. Подробно
- 772 -
о первых исследованиях по описанию магнитного поля Земли писал А. фон Гумбольдт в упомянутой выше (см. выше, с. 542, 765, примеч. к с. 10 и 677) книге «Космос: Опыт физического мироописания» (Ч. 1. С. 125—130). Из русских путешественников измерения склонения магнитной стрелки выполнил Ф. П. Литке во время кругосветной экспедиции на шлюпе «Сенявин» в 1826—1829 гг.; затем они были обработаны Э. Ленцем и изданы отдельной брошюрой (СПб., 1836). Об этих изысканиях Гончаров узнал, вероятно, от И. П. Белавенца, ведшего на «Палладе» магнитные и астрономические наблюдения (см. выше, с. 435).
С. 691. ...тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. — Возможно, речь идет об экспедиции английского полярного исследователя Дж. Франклина (о нем см. ниже, с. 800, примеч. к с. 14). В начале 1850-х гг. в русских газетах появлялись сообщения об экспедициях, отправляющихся на поиски Франклина, причем высказывалась надежда, что «они успеют в своем трудном предприятии и разрешат, сверх того, задачу о проходе в другое полушарие» (СПбВед. 1850. 2 марта. № 57).
С. 692. Чукчи держат себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их... — Возможно, эти сведения Гончаров почерпнул из бесед с Иннокентием; последний в письме к Филарету (о нем см. ниже, с. 813, примеч. к с. 63) от 21 мая 1851 г. сообщал о неудаче одного из миссионеров, который в очередную поездку «чукоч <...> нашел гораздо менее, чем в прежние годы; потому что многие из них, боясь прибытия судов к устью реки (Анадырь. — Ред.), как это было в 1847 г., откочевали в дальние места, вообразив себе, что суда придут к ним не иначе как затем, чтобы истребить их» (Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 272).
С. 692. ...коргаулями, или карагаулями, живущими на островах у устья рек, впадающих в Ледовитое море. Чукча и карагауль держат в одной руке товар ~ а в другой по длинному ножу... — На лежащих у северного побережья Сибири островах живут чукотские племена. Здесь же имеются в виду эскимосы (по-чукотски «кергаули», «екыргаулы» или «экырнгаули»), жители северного побережья Аляски и прилежащих к ней островов. «Экырнгаули известны мне по сказаниям чукотских торговцев, — пишет один из миссионеров, — которые к сим американцам каждогодно плавают для торговли на своих кожаных байдарках <...>. Экырнгаули не признают над собою ничьей власти, они не терпят и между собою никакой зависимости» (Путевые записки священника миссионера Андрея Аргентова в приполярной местности // Записки Сибирского отделения императорского Русского географического общества. 1857. Кн. 4. С. 54; ср.: Врангель. С. 312). О торговле чукчей с эскимосами со слов А. И. Аргентова сообщают и другие авторы; ср.: «Миролюбивые чаукчи <...> находятся во вражде с американцами (т. е. с племенами, населяющими Аляску. — Ред.) и почитают их коварными, злобными и хитрыми. Они говорят, что соседи их принимают личину дружбы только тогда, когда они слабы; но когда признают себя сильнее, то грабят и умерщвляют приезжих купцов, и потому торговля с ними производится с оружием в руках. <...> Один из торгующих чаукчей рассказывал русскому миссионеру о торговле с островитянами (здесь: жителями острова Св. Лаврентия. — Ред.) следующее: „Островитяне очень страшны <...> мы торгуемся с ними, держа всегда нож в руке,
- 773 -
потому что если им не понравятся наши товары, то они нас бьют...”» (Мушкин Л. Торговля чаукчей с русскими и жителями островов Восточного моря // МВед. Лит. отдел. 1853. 17 нояб. № 138).
С. 693. Дочь одного коряка изменила правилам нравственности. ~ Она удавилась, и он несколько лет оплакивал ее. — Об этом случае Иннокентий рассказывает в одном из своих миссионерских отчетов (1843): «...едва ли не все коряки весьма замечательны по своим обычаям <...> наприм<ер>, взятых в любодеянии они убивают без милосердия, тоже и прелюбодеев, если они не ускользнут от рук раздраженных мужей и не успеют помириться. <...> Доказательством же <...> может быть представлен пример, бывший в очень недавнее время. Один тоен (тунгусский начальник. — Ред.), лишь только узнал, что дочь его девица сделалась беременна, тотчас велел ей удавиться, несмотря на то что она была единственное дитя его, и она повиновалась. Впрочем, отец ее очень сокрушался об ней, раскаивался и плакал, а это доказывает, что они, при всей жестокости, не лишены чувств нежных» (Иннокентий. Творения. Кн. 2. С. 129; ср.: Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 105).
С. 693. ...они, между прочим, склонны к воровству. — По свидетельству современника, «наклонность к воровству питает в якутах более то, что их не наказывают за оное, а пойманного высылают только в улус» (Щукин. С. 174—175). Воровство среди якутов к тому времени было столь распространено, что правительство было вынуждено 24 мая 1852 г. утвердить особое мнение «О мерах к прекращению воровства между якутами», где было сказано: «Якуты судятся по их обычаям в Инородной управе окончательно по делам <...> не превышающих тридцати рублей и учиненных в первый или второй раз, по делам же о воровстве на сумму свыше тридцати рублей или в третий раз учиненном подвергаются суду по общим законам империи» (ПСЗ-2. Т. 27. Отд. I. С. 374). О воровстве якутов подробно писали и другие современные Гончарову авторы; см., например: Описание якутов. С. 284—287; Джулиани Ю. О якутах // СО. 1836. Ч. 178. С. 138—140.
С. 694. Бюст Рашели из мамонтовой кости... — Элиза Рашель (Rachel; 1821—1858) — французская трагическая актриса; в 1853—1854 гг. гастролировала в России. По словам Гончарова, ее отличали «огненный взгляд, электрическая речь и трагическая худощавость» (письмо к Е. В. Толстой от 8 февраля 1856 г.).
С. 694. Кстати об изделиях из мамонтовой кости. ~ и они растаскали и истребили его так, что теперь и следов нет. — По всей видимости, Гончаров неточно рассказывает о следующем происшествии. В 1799 г. в устье Лены тунгусами был обнаружен хорошо сохранившийся мамонт, но они сочли подобную находку дурным предзнаменованием и скрывали от путешественников его местонахождение; к тому же несколько лет лед, покрывающий мамонта, не таял. Лишь в 1806 г. зоологу М. Ф. Адамсу удалось добраться до находки, но он нашел мамонта уже «совершенно искаженного»: двумя годами ранее один из тунгусов отрезал и продал бивни, а «соседственные якуты довольствовали мясом мамута собак своих во время недостатка корма. Дикие звери: белые медведи, волки и лисицы пользовались тем же <...>. Скелет был почти совсем без мяса и весь цел, выключая одной передней ноги» (Отрывок из путешествия г. Адамса к Ледовитому морю для отыскания мамута //
- 774 -
Сибирский вестн. 1820. Ч. 10, кн. 6. С. 13). Вскоре скелет был доставлен казаками в Якутск, где Адамсу удалось выкупить отрезанные ранее бивни и затем отправить находку в Петербург. Еще один хорошо сохранившийся мамонт был найден в 1840 г. на берегу притока Енисея; этот мамонт в 1843 г. был благополучно доставлен в Тобольск (см.: Мочульский В. Остов мамонта с мясом, шкурою и шерстью, найденный в Сибири в 1840 году // СПбВед. 1843. 9 апр. № 80). О других находках мамонтов до 1854 г. в печати не упоминалось.
С. 694. Нет проезжего, к которому бы не явились якуты, и особенно якутки, с этими изделиями. — О визите торговок изделиями из мамонтовой кости Гончаров писал Майковым: «Я не называю женщинами якуток: это коровы на задних ногах. Две из них приходили ко мне продавать будто вещи из мамонтовой кости, но это только был предлог, а собственно они умышляли против моей добродетели, но нашли во мне, как Вы, конечно, и ожидаете, прекрасного Иосифа да еще с хлыстом и тростью к их услугам» (письмо от 14 сентября 1854 г.).
С. 694. ...кости здесь очень много... — По словам одного из современников, «вот уже более 200 лет, как из северной части Сибири ежегодно вывозится мамонтовая кость на изделия русской токарной промышленности. <...> Все количество мамонтовых костей, добываемых в сих двух местах, доставляется на ярмарку в Якутск. Были годы, когда количество костей превосходило 2000 пуд<ов>, но средняя цифра ежегодного привоза и отправления кости в Россию есть 1700 пудов, не считая того количества, которое расходится на изделия якутской промышленности. В продажу поступают собственно одни клы (бивни. — Ред.) <...> кость эта состоит единственно из клов <...> полагая средним числом вес каждого только в 4 пуда, получим, что ежегодно вывозится клов с 220 зверей» (Мушкин П. Могилы мамонтов на берегах Ледовитого моря и торговля мамонтовою костью: (Статья первая) // МВед. Лит. отд. 1853. 15 окт. № 123; ср.: Щукин. С. 208—210).
С. 694. «Пудов восемнадцать, что ли?» — По одному из свидетельств (см.: Врангель. С. 216), максимальный вес мамонтового бивня мог достигать 12 пудов (192 кг), так что цифру 18 пудов (288 кг) следует считать явным преувеличением.
С. 694. Г-н Геденштром (в книге своей «Отрывки о Сибири», С.-Петербург, 1830)... — Матвей Матвеевич Геденштром (ок. 1780—1845) — географ и путешественник, впоследствии сибирский чиновник; кроме упомянутой Гончаровым книги, изданной также по-немецки (Fragmente oder etvas über Sibirien. St-Petersburg, 1842), опубликовал несколько статей. Подробнее о нем см.: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 168.
С. 695. Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина; против тайного провоза его приняты очень строгие меры. — См. выше, с. 760, примеч. к с. 655.
С. 695. Просвещение якута пока состоит в том, чтоб приучить его к земледелию... — Первые попытки приучить якутов к земледелию относятся к 1830-м гг. (см.: Валь Г. Хлебопашество в Якутске // Земледельческая газ. 1835. 14 июня. № 48). В официальном отчете за 1854 г. губернатор Якутской области писал: «При тех попечениях, какие местное начальство вследствие распоряжений генерал-губернатора
- 775 -
Восточной Сибири прилагает о развитии в области между инородцами земледелия и огородничества, сельское хозяйство видимо преуспевало в 1854 году <...>. Опыт последних трех лет много ослабил существовавшее здесь прежде поверье, что хлеб в Якутской области дозревать не может. Теперь якуты до того узнали превосходство мучной пищи и пользу ее для здоровья в сравнении с сосновою корою, которою прежде питались они, смешивая ее с кислым молоком, что в тех улусах, где земледелие введено несколько уже лет, сами охотно усиливают расчистку леса под пахоту. <...> В настоящем положении хлебопашества в области, по небольшому количеству расчищенной и распаханной земли, оно не развито еще в той степени, чтобы урожаев ставало на продовольствие всего народонаселения, но при постоянной настойчивости местного начальства и при тех мерах, какие приняты к усилению земледелия, сия важная статья с каждым годом значительно будет развиваться вперед» (РГИА, ф. 1285, оп. 4, № 109, л. 13—14 об.). Однако в дальнейшем земледелие среди якутов приживалось медленно, отчасти из-за невысоких урожаев, отчасти из-за их беспечности и нерадения (статистику см.: Давыдов. О начале и развитии хлебопашества в Якутске // Записки Сибирского отделения Русского географического общества. 1858. № 5; см. также: Щукин Н. С. О хлебопашестве в Якутской области // ЖМВД. 1846. № 7).
С. 696. ...книги барона Врангеля... — Имеется в виду книга русского путешественника и ученого Фердинанда Петровича Врангеля (1796/1797—1870) «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенанта Ф. фон Врангеля» (СПб., 1841. Ч. 1—2; совр. переизд.: Врангель), написанная при участии Ф. Ф. Матюшкина и богатая этнографическими материалами о жизни северных народов и описаниями природы Сибири.
С. 696. ...и вы все-таки будете только проезжий. В России нет путешественников, всё проезжие... — Ср.: «Едва я ступил на родную почву, как перестал быть путешественником: я вдруг стал проезжим. Ведь в России нет путешественников, всё проезжие. И я вдруг почувствовал, как умалилось достоинство моего звания, когда мне вручили подорожную по казенной надобности с будущим при мне. А между тем истинное путешествие в старинном, трудном смысле, словом, подвиг только с этого времени и начался» (письмо к Майковым от 14 сентября 1854 г.).
С. 697. ...в некоторые сборные пункты, которые называются великолепным именем ярмарок. — Кроме самого Якутска, в Якутской области проходили следующие ярмарки: в марте — Чукотская (при Анюйской крепости, Колымский округ), в мае — Учурская (в устье р. Учура, Якутский округ), в июне — Олекминская, Кыллахская (на острове Кыллахе, Олекминский округ) и Майская (на р. Мае, Якутский округ) (см.: ПКЯО. С. 73). Подробнее об этих ярмарках см.: <Без подписи>. Замечания о чукчах // ЖМВД. 1835. № 5. С. 366—368; Мушкин П. Торговля чаукчей с русскими и жителями островов Восточного моря // МВед. Лит. отдел. 1853. 17 нояб. № 138. Кроме того, Н. Д. Свербеев сообщает, что «по всем трактам Якутской области (кроме Иркутского и Аянского) <...> место каждого ночлега <...> носит название ярмарки. <...> По трудным дорогам или тропам,
- 776 -
которые ведут путника в сибирскую глушь, ездят большею частию одни купцы, затем чтобы скупать, или, вернее сказать, выменивать, свои товары за рухлядь или пышнину (как называются шкурки красного и простого зверя) у бродячих племен, занимающихся этим промыслом. Промышленники знают время этих торговых поездов и часто ожидают их на самой дороге и здесь становят свои урасы <...>. В этих стойбищах <...> проезжий купец останавливается на ночлег и немедленно приступает к мене — значит, вот и ярмарка! Не на всяком ночлеге это случается, но имя некоторых перенеслось на все впоследствии» (Свербеев Н. Д. Поездка из Якутска на Учурскую ярмарку: (Письмо к редактору) // МВед. Лит. отдел. 1852. 13 сент. № 111).
С. 697. Даба (даб) — дешевая китайская хлопчатобумажная ткань, преимущественно синего цвета.
С. 697. Купцы, однако, жаловались мне, что торг пушными товарами идет гораздо тише прежнего... — По свидетельству Н. С. Щукина, «дикари губят зверей без пощады, отчего промыслы с каждым годом уменьшаются» (Щукин. С. 225). Согласно официальной статистике, в 1854 г., по сравнению с 1850 г., резко уменьшилось количество привезенных на якутскую ярмарку шкур лисиц, белок, медведей, куниц, однако увеличился промысел шкур горностая, бобра и песца (см.: ЛКЯО. С. 75—77).
С. 697. ...на некоторых пунктах по Лене открылись золотые прииски... — Золотые месторождения в Олекминском округе были обнаружены в 1843 г.; в 1849 г. началась их систематическая разработка; добыча золота возрастала с каждым годом: если в 1851 г. было добыто 4 пуда золота, то в 1854 г. — уже 73 пуда (см.: Приклонский В. Л. Летопись Якутского края, составленная по официальным и историческим данным. Красноярск, 1896. С. 165).
IX
ДО ИРКУТСКА
С. 699. Я выехал из Якутска ~ при 36° мороза... — Гончаров пользуется шкалой Реомюра (см. выше, с. 566, примеч. к с. 101); 36° по Реомюру — около 30° по Цельсию. О якутской зиме 1854—1855 гг. Иннокентий писал, что она «была и есть очень теплая, чего не помнят и старики» (Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 438).
С. 699. Замет — кожаная покрышка у повозки.
С. 700. Лошади не сильны, хотя и резвы ~ теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстояниям между станциями. — Н. С. Щукин также отмечает эту особенность якутских лошадей: «В Киренском уезде лошади приводные из Красноярска, в Якутском якутские; они не очень велики, но крепки и горячи, со станции бегут не видя свету, а на другую часто приходят шагом. Случается, что на половине дороги ямщик оставит вас одних, а сам поедет за свежими лошадями, — извольте часа два ожидать его на морозе!» (Щукин. С. 108).
С. 701. ...повалит дым, с душистой струей... — Реминисценция либо пушкинского «Евгения Онегина»: «Разлитый Ольгиной рукою, / По чашкам темною струею / Уже душистый чай бежал...» (глава III, строфа XXXVII); либо стихотворения П. А. Вяземского
- 777 -
«Самовар» (1838): «Душистый льется чай янтарною струей» (Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 266).
С. 702. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. — См. выше, с. 587—588, примеч. к с. 217.
С. 702. Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело — не в золоте. — См. выше, с. 588, примеч. к с. 217.
С. 702. «Налимы имеются». — О своеобразном способе ловли налимов на Лене пишет Н. С. Щукин: «В том месте, где на дне реки лежат большие камни, мужик ныряет в воду и руками ощупывает, нет ли под камнем норы. Засунув туда руку, он непременно найдет налима» (Щукин Н. С. Поездка в Якутск. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1844. С. 57).
С. 702. Откуда этот язык, да и обнатуренные, — кто завез сюда? — Пристрастие к употреблению книжных и иностранных слов у крестьян Восточной Сибири отмечалось неоднократно; согласно одному из мнений, это происходило потому, что «население тракта <...> испытывало на себе <...> влияние языка чиновников, обслуживавших тракт, и языка интеллигенции, представители которой занимали по крупным пунктам тракта те или иные служебные должности. <...> Кроме того, смотрители почтовых станций, служители, да и ямщики, находясь в постоянном соприкосновении с проезжими „господами”, невольно усваивали от них кое-что из литературной лексики и фразеологии» (Фаворин В. К. Диалектологические наблюдения в путевом дневнике И. А. Гончарова // Учен. зап. Новосибирского пед. ин-та. 1946. Вып. 3. С. 90—91).
С. 702. Хороши камельки, или чувалы... — О них упоминает и Н. С. Щукин: «От Витима к Якутску на каждой станции устроены якутские комельки: эта спасительная выдумка достойна того, чтоб изобретателю оной был поставлен монумент. Перемерзнувший путешественник около огня, пылающего в комельке, обсушит свое платье и отогреет замерзнувшие члены в полчаса. <...> Якутский комелек довольно широк; дрова ставятся к стене вертикально, полено подле полена, и когда они разгорятся, производят сильное пламя, которое тотчас нагревает всю комнату» (Щукин. С. 107).
С. 703. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для осмотра старых строений. — Имеется в виду член губернской строительной и дорожной комиссии поручик Павел Петрович Лейман. О нем же Гончаров упоминает и в письме к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1854 г... «...мы ехали целым обществом и очень весело. Душою нашего общества был Павел Петрович Лейман, который переходил из экипажа в экипаж, но более проводил время в возке К<рамеров>. Я думал, что он укрывается там от жестоких морозов, и находил это весьма естественным, но когда он воротился от нас назад, муж горько жаловался мне, что Павел Петрович, сверх прямых своих обязанностей, т. е. осмотра станции, занимался дорогой, лежа в возке, еще тем, что ловил m-me К<рамер> за ноги. Они все уехали от меня вперед, и я, прибывши на Жербинскую станцию, К<рамера> не застал, а нашел только одного Павла Петровича, выбритого, расфранченного и с лукавым выражением на лице».
С. 703. Подрези — железные полосы на санных полозьях.
С. 703. ...есть и жиды ~ Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю. — С 1834 г. действовало положение, по которому
- 778 -
сосланные в Сибирь евреи могли заниматься торговлей только с разрешения Министерства финансов (см.: ПСЗ-2. Т. 9. Отд. I. С. 194), а в 1837 г. были изданы высочайше утвержденные правила, «заключающие в себе меры против переселения евреев в Сибирь и для уменьшения числа поселенных уже в Сибири» (ПСЗ-2. Т. 12. Отд. I. С. 324—325). Согласно свидетельству одного из мемуаристов, «по закону, евреям запрещено приезжать в Сибирь и там селиться. Могут проживать там купцы, первогильдейцы, пробывшие в первой гильдии не менее десяти лет, и ремесленники, последние временно. Несмотря на закон, евреев наплодилось в Сибири множество и в городах, и в селах. Прикрываясь званием ремесленника, они занимались излюбленным своим ремеслом: продажею водки, корчемством, процентами за ссуды и вообще жидовскими гешефтами. Никакой казенный подряд не обходился без участия евреев, если не лично, то под именем кого-нибудь правоспособного» (П<адерин> А. Записки сибиряка // Ист. вести. 1898. № 9. С. 936).
С. 704. ...чиновник с женой... — В одном из писем П. П. Лейман (о нем см. выше, с. 777, примеч. к с. 703) называет Крамера Александром Федоровичем (ИРЛИ, ф. 57, оп. 3, № 133, л. 9), однако «Адрес-календари» за 1850-е гг. такого чиновника не упоминают.
С. 704. ...мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. — Олекминский острог был основан казаками в 1635 г. В 1787 г. здесь была сооружена деревянная церковь. Описание Олекмы оставил и Н. С. Щукин: «Город Олекминск лежит на левом берегу реки Лены, подле невысокой горы <...>. Он состоит из двух прямых улиц и набережной, на которых считается домов и юрт до 60. <...> Строение все деревянное, между которым проглядывают купеческие домы порядочной величины, а не архитектуры. <...> Церковь и Гостиный двор деревянные, последний похож более на хлебные магазины... <...> Жители состоят из купцов, мещан и казаков, управление же города и округа сосредоточивается в лице одного только окружного исправника: он городничий, исправник и судья, вследствие сибирского учреждения. <...> Небогатые канцелярские чиновники и мещане живут в якутских юртах <...>. Юрта делается из толстых досок, снаружи обмазывается глиною — внутри русская печь; словом сказать, это что-то похожее на малороссийскую хату, в которой, соблюдая опрятность, право, жить можно» (Щукин. С. 71—72).
С. 705. Это природная декорация «Нормы». ~ я только хотел запеть «Casta diva»... — «Норма» («Norma», 1831) — опера Винченцо Беллини (о нем см. выше, с. 569, примеч. к с. 119), либретто Феличе Романи (Romani; 1788—1865); ее действие начинается ночью в священном лесу друидов. «Casta diva» — начальные слова молитвы жрицы Нормы, обращенной к луне: «Casta Diva, che inargenti / Queste sacre antiche piante, / A noi volgi il bel sembiante / Senza nube e senza vel» (Норма: Двухактная лирическая трагедия / Текст Феличе Романи; музыка Виченто Беллини. СПб., 1877. С. 16; перевод: «Непорочная богиня, разливающая сребристые свои лучи по этому древнему, священному лесу, обрати к нам прелестный свой лик без облака и без покрова» — Там же. С. 17). В 1830—1840-х гг. «Норма» неоднократно исполнялась в Петербурге различными труппами. В «Обломове» главный герой так передает свои впечатления от этой арии: «Не могу равнодушно вспомнить „Casta diva" <...> как выплакивает сердце эта женщина!
- 779 -
Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг... Она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне...» (наст. изд., т. 4, с. 179). Подробнее о «Норме» и об отражении этого сюжета в творчестве Гончарова см.: наст. изд., т. 5.
С. 705. Николин день — праздник Николы Зимнего (6 декабря ст. ст.).
С. 706. На Жербинской станции я застал беспорядок. — О своих злоключениях на Жербинской станции Гончаров поведал К. Н. Григорьеву в письме от 31 декабря 1854 г.: «...с Жербинской станции начались мои дорожные мучения: там господствует совершенная анархия, на которую я грозил пожаловаться государю императору, потом генерал-губернатору, наконец, самому исправнику. Только последняя угроза и расшевелила ямщиков. Но окончательно подействовали на них волостные старшины, через посредство которых я только и мог получить лошадей».
С. 706. Mais hony soit qui mal y pense. — Девиз британского ордена Подвязки (подробнее см.: наст. изд., т. 1, с. 819; наст. т., с. 585, примеч. к с. 199).
С. 707. Иов — персонаж ветхозаветной Книги Иова, «человек <...> непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (1:1); Сатана, испытывая с дозволения Бога крепость его веры, насылал на него различные лишения и болезни.
С. 707. ...есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири. — Названия большинства ленских станций образованы от русских фамилий.
С. 708. ...есть хижины ~ с ~ окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, тепло, только на улицу ничего не видать. — О ледяных окнах пишет и Н. С. Щукин: «В прежние времена вместо стеклянных или слюдяных оконцев ставили ледяные, что и теперь делают в якутских юртах, на станциях и в бедных домах. Окно сие хотя немного пропускает света, зато дешево и держится до самого тепла; тогда только начинает оно таять со внутренней стороны» (Щукин. С. 178). Ф. П. Врангель пишет, что зимой стеклянные и слюдяные окна меняются на ледяные, так как первые «от чрезмерно сильных морозов лопаются. Даже слюда <...> не может устоять против жестокой стужи и потому при наступлении зимы вынимается и заменяется ледяной пластиной» (Врангель. С. 108). Однако В. Г. Короленко, живший в 1880-х гг. на поселении в Якутской области, сообщает, что зимой вставлял в окна льдины из-за того, что «на стекла намерзало столько инея, что они становились совершенно непроницаемыми для света» (Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 7. С. 311). См. также: Свербеев Н. Д. Поездка из Якутска на Учурскую ярмарку. (Письмо к редактору) // МВед. Лит. отдел. 1852. 13 сент. № 111.
С. 708. Гоньба — здесь: ямская повинность.
С. 708. Витима — слобода с церковью Преображения, с сотней жителей, с приходским училищем... — Н. И. Шарыпов так писал о Витиме: «50 домов, около 150 человек ревизских душ; каменный собор во имя Спаса и Николая Угодника; шесть казенных магазинов с провиантом и солью, вольная лавочка, где можно найти почти все необходимое» (Шарыпов, л. 95 об. — 96).
С. 708. Подорожная — документ, удостоверяющий право проезжего пользоваться определенным количеством почтовых лошадей.
- 780 -
С. 708. Мухтуй называют здесь Парижем, потому что ~ крестьяне ~ танцуют кадрили. ~ «А вчера я был вашим визави в кадрили на вечеринке», — отвечал тот. — Сходный анекдот встречается и в более поздних мемуарах, автор которых, говоря о Витиме, упоминает, что рядом есть «две почтовые станции, носящие названия „Парижа” и „Лондона”.
Поводом к такому оригинальному, не лишенному некоторой доли иронии прозвищу послужила, вероятно, страстишка, питаемая жителями этих селений ко всевозможным нарядам, вечёркам, посиделкам и т. п. увеселениям, причем, не занимаясь в большинстве ни хлебопашеством, ни обычными в крестьянском быту работами, они, как передает молва, добывают средства не совсем чистым путем, живя на счет опаиваемого и обираемого приискового люда.
Рассказывают, что местный исправник, как-то проездом, остановился на одной из этих станций. Уступая усиленным просьбам, он принял приглашение на вечер, делаемый каким-то богатым поселенцем. Вечер был на славу. Расфранченные, напомаженные, накрахмаленные кавалеры и дамы лихо отплясывали под звуки доморощенного оркестра лянсье, кадрили и т. п.
На другой день, когда исправник садился в лодку для дальнейшего следования, физиономия одного из почтовых ямщиков-гребцов показалась ему очень знакомой.
— Где это, братец, я тебя видел?... Никак не могу припомнить, — спрашивает он.
— А мы с вашим высокоблагородием вечорась французскую кадриль визави танцевали, — отвечал, улыбаясь, молодой, красивый парень» (Н. Г—в. Олекминская Калифорния: (Из путешествия на Олекминские прииски) // Литературный сборник: Собрание научных и литературных статей о Сибири и Азиатском Востоке. СПб., 1885. С. 283—284). Не исключено, впрочем, что этот рассказ мемуарист почерпнул из книги Гончарова.
С. 709. ...проехал так называемые щеки ~ находятся между Пьяно-быковской и Частинской станциями ~ Пьяным быком прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. — По свидетельству самого Гончарова в письме к К. Н. Григорьеву от 31 января 1854 г. «достопримечательностей Лены» он «почти не видал, т. е. знаменитых столбов и щек, потому что больше интересовался поверстными столбами и наблюдал за своими собственными щеками, стараясь уберечь их от ознобов на реке и от сучьев в лесу и вообще от всяких подобных путевых впечатлений». Очевидно, их описание и этимологические экскурсы он заимствовал у Н. С. Щукина: «Щеки суть утесы, опускающиеся прямо в реку; Лена, достигнув до первого из них, вдруг поворачивает налево и упирается в другой утес; отсюда, повернув направо, встречает третий утес. Натурально, что она в сем месте чрезвычайно быстра, а потому лоцман и гребцы стоят каждый на своем месте и готовы на всякий несчастный случай. <...> Утесы простираются по обеим сторонам реки, отдельно, от Частинской станции до Дубровинской; некоторые из них имеют названия, например: Пьяный Бык, Похмельный, Баонина Телка и проч. При первом когда-то разбилось судно с вином, а при последнем потонула барка купца Баонина с мукою. Утесы здешние опасны потому более, что стоят на поворотах реки, куда в большую воду надавливает течением суда, и если не успеют отгресть заблаговременно на средину
- 781 -
реки, то погибель судна неизбежна» (Щукин. С. 47—49; см. также: Врангель. С. 103—105, там же фотографии столбов и щек).
С. 709. ...и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества! — См. выше, с. 594, примеч. к с. 269.
С. 710. ...и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии. — По Сенатскому указу от 13 декабря 1760 г. крестьяне могли по желанию переселяться в Сибирь, причем помещикам или владельцам их зачитывали как рекрутов, а за жен и детей выплачивали определенную сумму (см.: ПСЗ-1. Т. 15. С. 582—584). Согласно официальным данным, в 1854 г. в Якутской области было 4016 душ казенных крестьян обоего пола, а «помещичьих и крестьян других ведомств не имеется» (РГИА, ф. 1285, оп. 4, № 109, л. 10 об. — 11).
С. 710. Киренск город небольшой. — Ср.: «Город Киринск стоит на острове, где река Киринга впадает в Лену, имеет три церкви: каменные Троица и Спасский собор, деревянная Алексея Человека Божия и монастырь, около 300 деревянных домов, каменное казначейство, уездное училище, казенные магазины для складки хлеба, несколько лавочек, где продают большею частию платяное; жители состоят из купцов, мещан, жидов, цыган и крестьян, управляются городничим с ротою солдат; почтовая контора и областное правление; в самом городе и в окрестностях его есть много огородных овощей и сена, которые, как <...> и другое, плавят на повозках и плотах на золотые прииски верст за 300 или 400» (Шарыпов, л. 96 об.).
С. 711. ...у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было от чего: у носа постоянно торчал обледенелый шарф...; см. также ниже: Опухоль в лице была нестерпимая. — О своих злоключениях Гончаров так писал К. Н. Григорьеву: «Сосульки, бахромой висевшие на шапке, капали оттуда на брови, с бровей на нос, и под носом постоянно присутствовала глыба льда, отчего у меня и образовались две шишки, одна в носу, другая во рту, с нестерпимою болью. Я, по милости их, отчаивался уже видеть Иркутск, но доктор вылечил меня с неимоверной быстротой: он приложил к шишкам винную ягоду, а на другой день ткнул меня одним пальцем в нос, другим в рот, шишки прорвались...» (письмо от 31 декабря 1855 г.).
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
С. 712. 11-го декабря 1873 года и 6 января 1874 года ~ отпраздновать дружеским обедом двадцатилетнюю годовщину...; см. также с. 736: Вот эти два числа — 11 декабря, день землетрясения, и 6 января, высадки на берег ~ и были поводом к собранию нашему... — Гончаров неточен: по его данным, годовщина должна быть девятнадцатой. 11 (23) декабря 1854 г. произошло землетрясение в г. Симода (см. ниже, с. 785—786, примеч. к с. 732—733); 5 (17) января 1855 г. экипаж покинул борт фрегата «Диана»; 7 (19) января 1855 г. — день гибели «Дианы» (точные даты см.: Рапорт. С. 242; Всеподданнейший отчет. С. 205, 212; Выписка. С. 256—257; Отчет о плавании фрегата «Диана» в 1853, 54 и 55 годах // МСб. 1856. № 1. Ч. III. С. 174). Авторитетные свидетельства о крушении «Дианы», переговорах
- 782 -
в Симода и строительстве шхуны «Хеда» (с учетом русских, американских и японских источников) см.: Lensen 1955. P. 74—141; Lensen 1959. P. 332—341; кроме того: Файнберг 1969. С. 87—89; Кутаков. С. 121—128 и др.
С. 712. ...несколько офицеров, перешедших на фрегат «Диана» с фрегата «Паллада»; см. также с. 731: Пересев на «Диану» и выбрав из команды «Паллады» надежных и опытных людей... — Адмирал перевел на «Диану» «свой штаб, некоторых палладских офицеров и большинство команды» (Шиллинг. С. 19), «после этого перемещения вся команда состояла из 484 человек» (Всеподданнейший отчет. С. 198—199). «Из палладских офицеров, — записал в дневник 1 августа 1854 г. В. А. Римский-Корсаков, — перешли на „Диану” с адмиралом: Болтин, Колокольцев, Зеленой, Пещуров и Лосев, также и Гошкевич. С „Дианы” поступили на „Палладу” Бутаков и Бирюлев. Из штаба своего адмирал оставил при себе Посьета, а Гончаров едет в Аян, чтобы оттуда сухим путем отправиться в Петербург» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 9. С. 176; см. также: Отчет о плавании фрегата «Диана» в 1853, 54 и 55 годах // МСб. 1856. № 1. Ч. III. С. 163).
С. 712. ...бывшего командира «Паллады» (теперь вице-адмирала и сенатора И. С. Унковского)... — О нем см. выше, с. 419—421.
С. 712—713. ...подробно доносил великому князю, генерал-адмиралу, начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант (ныне граф) Е. В. Путятин. ~ у меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала («Морской сборник», июль, 1855); см. также с. 732: ...ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала ~ теряются на страницах ~ специального морского журнала. — О великом князе Константине Николаевиче см. выше, с. 639, примеч. к с. 346. Генерал-адъютант Е. В. Путятин «в воздаяние заслуг» был пожалован в «графское Российской империи достоинство» высочайшим указом от 6 декабря 1855 г. (см.: МСб. 1856. № 1. Ч. I. С. LXIV). О землетрясении в Симода и гибели фрегата «Диана» подробно рассказывалось в «Рапорте» Путятина, опубликованном в «Морском сборнике» — ежемесячном журнале, издававшемся в Петербурге с 1848 г. Морским Ученым комитетом (см.: Рапорт. С. 231—243). Текст «Рапорта» (с незначительными сокращениями) воспроизведен в изданиях: Обзор. Т. 1. С. 10—20; Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского флота. СПб., 1874. С. 28—38. Ниже, повествуя о гибели «Дианы», Гончаров учитывает данные как «Рапорта», так и «Всеподданнейшего отчета» (см.: наст. т., с. 205—213), в котором те же события освещены несколько иначе.
С. 713. ...я, в течение четырех месяцев, проезжал десять тысяч верст ~ от Аяна на Охотском море до Петербурга... — См. главы VII—IX тома второго «Фрегата «Паллада»» и комментарии к ним.
С. 713. Открылась Крымская кампания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата ~ например, в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны. — О начале Крымской кампании см. выше, с. 660, примеч. к с. 396. Об изменившихся в связи с войной планах адмирала Е. В. Путятина см. выше, с. 648—649, примеч. к с. 367.
С. 714. Тогда Pacific railroad еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой... — Железная дорога, соединившая западное
- 783 -
и восточное побережья Соединенных Штатов (Union Pacific Railroad), строилась в 1861—1869 гг.
С. 714. Я был ~ командирован для исправления должности секретаря при адмирале ~ так записано было у меня в формулярном списке. — Об официальном «командировании» Гончарова см. выше, с. 401—402.
С. 715. Фрегат «Диана» уже пришел на смену «Палладе»... — Фрегат «Диана» прибыл в залив Де Кастри (старое название залива Чихачева) для соединения с отрядом Е. В. Путятина 11 (23) июля 1854 г. (см.: Всеподданнейший отчет. С. 197; Известия с Восточного океана // МСб. 1854. № 10. Ч. II. С. 125; Отчет о плавании фрегата «Диана» в 1853, 54 и 55 годах. С. 173).
С. 715. ...избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганом в Китайском море; см. также с. 724: Я не упоминаю об урагане ~ Об этом я подробно писал. — См. об этом: наст. изд., т. 2, с. 242—243, 294—300; наст. т., с. 589—590, 602—603.
С. 715. Сначала ее хотели ввести в устье Амура ~ а ветхий остов ее был оставлен под надзором моряков и казаков ~ не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна. — См. об этом выше, с. 410—411 и ниже, с. 816, примеч. к с. 74.
С. 715. ...я и выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года. — Подробнее см. выше, с. 755, примеч. к с. 635.
С. 715. Тогда же приехал к нам с Амура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев ~ в Николаевск, куда должна была идти и шкуна «Восток»... — См. об этом выше, с. 750, 751, примеч. к с. 628, 629, 630.
С. 715. ...покойный В. А. Римский-Корсаков... — О нем см. выше, с. 422—425.
С. 717. ...мы проходили Зунд. — См. выше, с. 546, примеч. к с. 26.
С. 718. ...так называемый «дед» ~ старший штурманский офицер (ныне генерал)...; см. также с. 739: ... А. А. Халезова... — Имеется в виду А. А. Халезов; о нем см. выше, с. 427—428.
С. 719. ...барон Шлипенбах... — О нем см. выше, с. 426.
С. 720. ...у нашего фрегата ~ оторвалось несколько листов медной обшивки... — См. об этом: Всеподданнейший отчет. С. 163.
С. 721. Адмирала с нами не было: он прежде фрегата уехал один в Англию ~ приобрел там шкуну «Восток» ~ Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург ~ водоопреснительного парового аппарата. — См. об этом: Всеподданнейший отчет. С. 163.
С. 723. Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка! — Имеется в виду журналист, издатель, беллетрист Н. И. Греч (1787—1867), автор педагогических работ: «Практическая русская грамматика» (СПб., 1827; 2-е изд. СПб., 1834); «Начальные правила русской грамматики» (СПб., 1828; с 10-го изд. (1843) под назв. «Краткая русская грамматика») и «Пространная русская грамматика» (СПб., 1827. Т. 1; 2-е изд. СПб., 1830), за которую был избран членом-корреспондентом Академии наук (1827). В своей публицистике Греч педантически поправлял речевые погрешности в произведениях литераторов-современников (главным образом тех, которые были идейными противниками «Северной пчелы»).
С. 724. Наши суда, «Князь Меншиков» и шкуна «Восток», — кажется, оба (забыл теперь) — уже пришли прежде нас... — «Паллада» и транспорт «Князь Меншиков», отправившиеся из Нагасаки 24 января
- 784 -
(5 февраля) 1854 г., прибыли в порт Напакианг на острове Большой Лю-Чу 1 (13) февраля; здесь с 27 января (8 февраля) находился корвет «Оливуца», а шхуна «Восток», отправленная из Нагасаки в Шанхай «за известиями о положении дел в Европе» и с приказом «соединиться с фрегатом на Ликейских островах», прибыла сюда 5 (17) февраля (см.: Всеподданнейший отчет. С. 191; Обзор. Т. 1. С. 21, 43, 56).
С. 725. Вопрос, похожий на гоголевский вопрос: «Доедет или не доедет колесо до Казани?» — Неточная цитата из тома первого «Мертвых душ» (глава 1). См. выше, с. 711, примеч. к с. 516.
С. 725. Но для нас он был и гамлетовским вопросом: быть или не быть? — См. выше, с. 638, примеч. к с. 341.
С. 728. В последнее наше пребывание в Шанхае, в декабре 1853 г., и в Нагасаки, в январе 1854 г., до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией... — См. выше, с. 660, примеч. к с. 396.
С. 728. ...пришли мы и в Манилу и застали там на рейде военный французский пароход. — См. выше, с. 715, примеч. к с. 525.
С. 730. «Бегает нечестивый, ни единому оке ему гонящу!»... — Неточная библейская цитата; ср.: «...и побегаете, никомуже гонящу вас» (Лев. 26:17). Слова о. Аввакума Гончаров приводит и в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 (27) июля 1854 г.: «Мы теперь одни, других судов нет с нами, и оттого мы бегаем от англичан, как, по словам о. Аввакума, бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу, то есть когда никто за ним не гонится».
С. 731. ...в «Истории кораблекрушений»... — См. выше, с. 546—547, примеч. к с. 28.
С. 731. Пересев на «Диану» и выбрав из команды «Паллады» надежных и опытных людей... — См. выше, с. 782, примеч. к с. 712.
С. 731. ...адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию и если не окончить, то закончить на время переговоры с тамошним правительством... — О начале переговоров в Симода см. ниже, с. 785, примеч. к с. 731—732. 14 (26) декабря, после землетрясения, переговоры были возобновлены и успешно закончились 26 января (7 февраля) 1855 г. подписанием Е. В. Путятиным Симодского трактата (по русским официальным документам — «Трактат о торговле, заключенный между Россией и Японией в Симоде 26 января 1855 года»), по которому определялась граница между Россией и Японией, для России открывались три порта — Симода, Хакодате и Нагасаки, и обеспечивался режим наибольшего благоприятствования в торговле; см. также выше, с. 398—399.
С. 731. ...время, с августа до конца ноября, прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию ~ в конце ноября ~ идти в центр Японии... — «Диана» покинула Николаевский пост на Амуре 3 (15) октября и прибыла в Хакодате 9 (21) октября 1854 г., откуда 16 (28) октября отбыла в Осака. О пребывании фрегата в Хакодате см.: Всеподданнейший отчет. С. 199—201; Шиллинг. С. 21—24; Махов. С. 36.
С. 731. ...в город Оосаки, близ Миако, где жил микадо ~ как неправильно прежде называли его в Европе, «духовный император». — Имеется в виду г. Осака; о Миако и микадо см. выше, с. 621—622, примеч. к с. 322. Принятое в Европе определение «духовный император» употреблялось для различения духовных правителей Японии и светских,
- 785 -
сёгунов (см. выше, с. 614, примеч. к с. 317). Еще В. М. Головнин писал о неточности европейского определения: «В Японии два владетеля, которых европейцы именуют одного духовным императором, а другого светским. Следуя сему обыкновению, и я их так называю, хотя, впрочем, не могу согласиться, чтобы названия сии были приличны. Что касается до светского императора, то его следовало бы называть просто японским императором, ибо он есть самодержавный владетель государства хотя не обширного, но чрезвычайно многолюдного и составленного из многих владетельных княжеств <...>. <...> Названия, соответствующего японскому духовному императору, ни в одном государстве нет; оно есть единственное в свете, принадлежащее собственно Японии. С императорским же званием, по нашему о нем понятию, оно нимало не совместно. <...> По некоторым отношениям можно было бы сравнить японского духовного императора с европейскими папами, но и сие сравнение во многом будет несправедливо...» (Головнин. Записки. С. 316—318).
С. 731. «Диана» явилась туда ~ не имел полномочия прибегать. — «Диана» прибыла в Осака 27 октября (8 ноября) и ушла оттуда 10 (22) ноября 1854 г; о реакции японских властей на появление фрегата в закрытом порту подробнее см.: Всеподданнейший отчет. С. 202—204; Махов. С. 36—37; Накамура С. 170; Lensen 1955. P. 78—79.
С. 731. ...в городок Симодо... — Симода — портовый город в южной части полуострова Идзу; один из двух портов (наряду с Хакодате), открытых по американо-японскому договору (Канагавский договор от 31 марта 1854 г. — о нем см. выше, с. 647—648, примеч. к с. 367).
С. 731—732. Туда ~ отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. — В переговорах в Симода участвовали Цуцуи Масанори, Кавадзи Тосиакира, Кога Кинъитиро (о них см. выше, с. 683—685, примеч. к с. 455, 456), губернатор Симода Идзава Масаёси, чиновник тайного надзора Мацумото Дзюробэй и финансовый инспектор Мурагаки Норимаса (см.: Lensen 1955. P. 80—81). «По прибытии полномочных, первое свидание наше было 8-го декабря, — сообщал Е. В. Путятин, — и на следующий день они отдали визит и были приняты со всеми почестями, следующими их званию» (Рапорт. С. 232; см. также о «первом свидании» с полномочными, о многочисленных подарках «японского светского государя нашему правительству» и о визите полномочных на фрегат 9 (21) декабря: Всеподданнейший отчет. С. 205). 10 (22) декабря в храме Гёкусэндзи началось обсуждение проекта договора, который был передан японцам еще в Нагасаки (см. выше, с. 698, примеч. к с. 483—484).
С. 732. Туда же ~ направилась и «Диана». — «Диана» вошла в порт Симода 22 ноября (4 декабря).
С. 732. ...ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала ~ теряются на страницах ~ специального морского журнала. — См. выше, с. 782, примеч. к с. 712—713.
С. 732. «Одним из тех ужасных, редких явлений ~ Так начинается рапорт адмирала... — Ср.: Рапорт. С. 231.
С. 732—733. 11 декабря, в 10 часов утра (рассказывал адмирал) ~ страшное и грандиозное зрелище. — «Около 10 часов утра, находясь в каюте, — писал Е. В. Путятин, — я почувствовал содрогание, которое
- 786 -
отозвалось еще ощутительнее в кают-компании. Спустя четверть часа после этого землетрясения вода близ города как будто закипела, — усилившееся вдруг течение реки произвело на отмелых местах буруны и всплески. В то же самое время с моря вода сильно пошла на прибыль и, приняв грязный вид, заклокотала кругом острова Инубасири и мысов; горизонт воды стал быстро подниматься, и джонки, стоявшие у города, двинулись вверх по реке <Инодзаве>» (Рапорт. С. 232). Ср. описание начала землетрясения: Всеподданнейший отчет. С. 205—206. Впечатления очевидцев также отразились в дневнике Кога и «Симодском дневнике» Кавадзи (см. выдержки из дневников: Lensen 1955. P. 88—91).
С. 733. ...влился громадный вал ~ и уносило с берегов всё, что еще уцелело. — Ср.: «Большие джонки в устье реки быстрым потоком прилива были несомы вверх по долине, а здания города постепенно погружались в мутные воды первого вала. Через несколько секунд сцена переменилась: все, что неслось к городу и северному берегу, мгновенно повернуло назад. <...> Мимо фрегата несло все стоявшие в верховье бухты суда и частию обломки зданий» (Всеподданнейший отчет. С. 206). «Для города Симоды второй вал прилива был самый пагубный. Поднявшись сажени на три выше обыкновенного уровня, море покрыло все селение, несколько минут виднелись одни крыши кумирен. Последовавший за этим отлив наполнил бухту частями домов, джонок, целыми крышами, домашнею утварью, человеческими трупами и спасавшимися на обломках людьми; все это неслось из города в мутном потоке, с неимоверною быстротою. <...> Около этого времени над городскою долиною показался дым и распространился серный запах. За этим вторым валом последовало еще четыре, смывшие следы существования города Симоды» (Рапорт. С. 234). Ср. рассказ К. Н. Посьета: «В десять часов вошла в залив гигантская волна, и (в несколько мгновений город Симода был разрушен: дома и храмы уничтожились, джонки, стоявшие на якорях, были перенесены в середину города; многие из них были унесены в долину, мили на три от своего якорного места.
Едва ли прошло 5 минут с этого мгновения, как вода взволновалась, подобно тысяче внезапно устремившихся потоков, неся на своей поверхности ил, обломки и солому; вода отхлынула с ужасною силою и довершила разрушение Симоды.
Море было покрыто обломками домов и джонок, уносимых отливом страшной волны. <...>
В четверть одиннадцатого часа фрегат сорвало с якоря; бросили другой. Едва он упал в море, как восстала другая волна, гораздо выше первой. В то же время показался дым над городом и в воздухе распространился запах серы» (Capitaine Ponsset. <Посьет К. Н.> Описание землетрясения в Симоде и крушения фрегата «Диана» // МСб. 1855. № 4. Ч. IV. С. 293; то же в сокращении «по сообщению капитана Посьета»: Землетрясение в Симоде и крушение фрегата «Диана» // С. 1855. № 5. Внутр. известия. С. 270—271).
С. 733. Из тысячи домов осталось шестнадцать и погибло около ста человек. — «В Симоде из 1000 разной величины зданий, большею частию деревянных, — сообщал Е. В. Путятин, — всего осталось 16 полуразрушенных домов» (Рапорт. С. 236); сведений о жертвах он не приводил. Ср.: «В Симоде из 1000 зданий разной величины едва уцелело до 16 домов, и то преимущественно храмы,
- 787 -
построенные на возвышениях. Часть разрушенных зданий была унесена в море, другая разбросана у подошв гор, окружающих Симодскую долину. Эти же горы остановили и немалое количество судов» (Всеподданнейший отчет. С. 208). О 109 погибших сообщалось там же (см. ниже, с. 790, примеч. к с. 735). Ср. в донесении К. Н. Посьета: «Из 2000 домов, составлявших город Симоду, осталось только 16, и более 200 его жителей погибло» (МСб. 1855. № 4. Ч. IV. С. 296), а также в воспоминаниях Н. Г. Шиллинга: «Из тысячи с лишком домов города осталось всего несколько развалин, местами вода даже смыла каменные фундаменты, от улиц не осталось и следа, мосты на речке все были снесены. Японские джонки стояли с выкинутыми якорями в рисовых полях, в нескольких верстах от города...» (Шиллинг. С. 30). Из записи в дневнике Кога следует, что в Симода из 856 домов было разрушено полностью 813, частично — 25, уцелело 18 домов; 85 человек (из 3907-ми населявших город) погибли (см.: Кога. С. 328; Lensen 1955. P. 88)
С. 733. ...образовало, по словам рапорта адмирала, «как бы продолжение берега». — Е. В. Путятин писал: «Северо-восточный угол бухты, против селения Какисаки, тоже частик» разрушенного, был полон изломанных джонок, строений и вообще разного имущества, все это, спертое здесь течением, составляло сплошную массу, которая служила как бы продолжением берега» (Рапорт. С. 236). К. Н. Посьет свидетельствовал: «Наконец в три часа землетрясение прекратилось и залив успокоился. Берега морские были усеяны выброшенными предметами, поднятыми со дна моря; обломки домов, джонок, солома и проч. и проч. покрывали море такою сплошною корою, что по ней можно было ходить» (МСб. 1855. № 4. Ч. IV. С. 295).
С. 733—734. Вращением воды кидало фрегат ~ в тридцать минут ~ было сделано им сорок два оборота! — Согласно донесению Е. В. Путятина, «прилив и отлив быстро сменялись, горизонт воды беспрерывно то поднимался, то опускался, и между островом (Инубасири) и берегом образовался совершенный водоворот. По мере того как усиливался прилив или отлив, поток того или другого делался шире и кружимый водоворотом фрегат прижимало то к острову, то к берегу с большею скоростию, несмотря на два якоря и хороший грунт. О быстроте этих движений можно судить по тому, что в начале своего кружения фрегат, в продолжение 30 минут, сделал 42 полных оборота. При этом мы не раз находились в опасности быть разбитыми вдребезги об остров или об один из ближайших мысов» (Рапорт. С. 233). Ср. свидетельство К. Н. Посьета: «Последовательные возвышения и падения моря произвели необыкновенно быстрые водовороты, которые увлекли фрегат с такою скоростию, что матросы, находившиеся на нем, приведены были в совершенное беспамятство. Круги, описываемые фрегатом, проходили столь близко к острову Сентр (Centre Island), что экипаж в каждое мгновение ожидал гибели фрегата. <...> Фрегат продолжал кружиться с такою быстротою, что трудно было держаться на ногах. В полчаса он делал более пятидесяти кругов» (МСб. 1855. № 4. Ч. IV. С. 294). Ср. запись в шканечном журнале «Дианы»: «Попеременная убыль и прибыль воды, беспрестанно изменяя течение, образовали в стесненных берегах рейда множество водоворотов, и все суда, а с ними и фрегат, начало вертеть с такой быстротою, что многие
- 788 -
почувствовали головокружение и головную боль» (Выписка. С. 245). «В момент начавшегося волнения (в 5 мин. 11-го часа), — вспоминал Василий Махов, священник на «Диане», — фрегат, по мере убыли и мгновенной прибыли воды, то опускался, то возвышался; его, как мелкую щепку, брошенную в пучину, начало вертеть, трепать, бить, колотить, снасти трещали, бока ломались, борты наклонялись стремительно то в одну, то в другую сторону. <...> Фрегат, силою водоворотов, подняло с якорей, начало <...> вертеть и кружить наподобие мельничного жернова; в полчаса околесило его на одном и том же месте более сорока раз. Мы почувствовали сильную головную боль, и многие, обессилев, падали с ног долой» (Махов. С. 39, 40).
С. 734. И когда во второй раз положило — он оставался в этом положении с минуту ~ все молились ~ как, по пословице, только молятся на море! — Описание этой «страшной» минуты, когда фрегат стал «стремительно валиться набок» и «страшно трещал во всех своих частях, а наверху слышались тихие слова молитвы», см: Всеподданнейший отчет. С. 207; ср рассказ о ней в шканечном журнале «Дианы» (Выписка. С. 246), а также признания Н. Г. Шиллинга: «Фрегат лежал в полном смысле на боку, так что палуба была близка к вертикальному положению и вся команда находилась с наружной стороны правого борта (на сетках. — Ред.). <...> Я не в состоянии описать страх, который нашел на нас всех без исключения: ужасающее явление, происходившее перед нашими глазами, можно было принять за начало светопреставления» (Шиллинг. С. 28, 29). Рассказ о молебне на «Диане» 11 (23) октября о. Василий Махов заключил словами: «Нужно было видеть семью нашу скорбную, чтобы истинно убедиться в изречении: „Кто на море не бывал, тот досыта Богу не маливался”» (Махов С. 42). Пословицу: «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался» — Гончаров использовал в очерке «Два случая из морской жизни» (см.: наст. т., с. 9).
С. 734. ...«Провидению, — говорит рапорт адмирала, — угодно было спасти нас от гибели». — «Провидению, — писал Е. В. Путятин, — угодно было еще спасти нас; отбоем воды, действовавшим у острова, фрегат отбросило в противную сторону» (Рапорт. С. 233).
С. 734. ...один матрос поплатился жизнью ~ а двум другим, и, между прочим, боцману Терентьеву, раздробили ноги. — «С новым приливом фрегат начал подниматься, — писал Е. В. Путятин, — но вместе с этим из палубы послышались стоны <...> когда крепившим орудия просвистали наверх, то правое из этих орудий опрокинулось и убило попавшего под него матроса Соболева, унтер-офицеру Терентьеву переломило ногу, а матросу Викторову оторвало ногу ниже колена» (Рапорт. С. 235). Ср. подробные сведения: Всеподданнейший отчет. С. 207. Шканечный журнал «Дианы» сообщает: «...при наклонении фрегата правое орудие опрокинулось и придавило 5 человек; из них матроса 1-й статьи Алексея Соболева убило, квартирмейстеру Терентьеву и матросу Викторову переломило ногу, матросу Доронину сломало два ребра и повредило спинную кость, а матросу Каткову оторвало палец» (Выписка. С. 246). В Симода в буддийском храме Гёкусэндзи находятся три могилы русских моряков: в центре могила Соболева с надписью по-русски: «Здесь покоится тело матроса команды фрегата „Диана” Алексея Соболева, убитого в день землетрясения и разрушения города Симоды 11-го декабря 1854-го года», а слева и справа от нее — могилы матроса
- 789 -
Василия Бакеева и унтер-офицера Алексея Поточкина, погибших во время строительства шхуны «Хеда».
С. 734. По осмотре фрегата он оказался весь избит. ~ А главное, не было более руля... — О потере руля лейтенант Н. Г. Шиллинг писал: «Это обстоятельство как громом поразило нас всех. В эту минуту мы забыли все прежние ужасы, забыли, что Бог нас только что спас от неминуемой гибели...»; по его же словам, на фрегате «местами помятое дерево превратилось в совершенную мочалку» (Шиллинг. С. 30, 32).
С. 734. Фрегат разоружили, свезли все шестьдесят орудий на берег ~ построив для того особые сараи; см. также с. 735: Наш государь ~ подарил все 60 орудий японскому правительству. — Е. В. Путятин сообщал: «для облегчения ослабленного фрегата, в продолжение 14, 15 и 16 декабря, свезли на берег всю артиллерию со станками...» (Рапорт. С. 237). Передача японцам 52 орудий с «Дианы», «как самое справедливое и драгоценное вознаграждение», состоялась в ноябре 1856 г., когда русская делегация во главе с К. Н. Посьетом прибыла в Симода на корвете «Оливуца» для обмена ратификационными грамотами по русско-японскому трактату (о нем см. выше, с. 784, примеч. к с. 731, а также: Кутаков. С. 127). Орудия с «Дианы» использовались в Хакодате на военных судах правительства сегуна во время войны между ним и новым правительством Мэйдзи. Четыре орудия, поднятые с затонувших судов, были затем выставлены в городском парке Хакодате, позднее одно из них было подарено синтоистскому храму Ясукуни в Токио.
С. 735. Вообще они ~ оказали нашим всевозможную помощь ~ и снабжали всем нужным. — Подробный рассказ об этом см.: Всеподданнейший отчет. С. 212—213. Ср.: «Не могу также умолчать о готовности японцев оказать нам всякое пособие и снабдить нас всем необходимым. Присланные немедленно от японского правительства чиновники искренно сочувствовали нашему несчастию, устроивали наскоро дома, чтоб прикрыть нас от суровости зимнего времени, и всеми мерами старались облегчить наше положение. Если к сему прибавить, что в селении Миасиме (Мэасиме. — Ред.), близ которого мы вышли на берег, не осталось ни одного дома, не разрушенного землетрясением, то нельзя довольно нахвалить их человеколюбивую об нас заботливость» (Рапорт. С. 242).
С. 735. Но и наши не оставались в долгу. ~ приняли на фрегат двух японцев, которые неохотно дали себя спасти ~ Третий товарищ их ~ погиб вместе с джонкой. — Ср.: «Стоявшие в бухте джонки несло по всем направлениям. Одно из этих судов село на наши канаты, сломало нам бом-утлегарь, утлегарь, блинда-гафель и до того увеличивало напор течения на цепи, пока ими не разворотило ему корму. Тогда сняли с него двух японцев, и джонка, отнесенная от фрегата, вскоре потонула» (Рапорт. С. 233; Всеподданнейший отчет. С. 206). Сведения о нежелании японцев прибегать к помощи иностранцев восходят, скорее всего, к «неофициальным» рассказам участников «морской драмы»; ср.: «Молодому, довольно красивому японцу бросили конец; но он не взял его и, проведя рукою по шее, в знак, что ему за сношения с иностранцами могут отрубить голову, безмолвно исчез в мутных волнах вместе с обломками своего судна» (Шиллинг. С. 27).
- 790 -
С. 735. Сняли также ~ старуху. — «С фрегата, которого цепи дрожали, — писал Е. В. Путятин, — приготовлены были кругом концы, но несчастных проносило в значительном от нас расстоянии. Из всех их нам удалось спасти одну старуху, которую прибило к борту фрегата» (Рапорт. С. 234); ср.: «С фрегата были брошены концы, но несчастных относило от бортов, и нам удалось спасти только одну почти уже окостеневшую старуху» (Всеподданнейший отчет. С. 207). «Старуху» (ей было более 80-ти лет) звали Наката Томэ. О ее спасении вспоминал и лейтенант Н. Г. Шиллинг: «Один из наших людей, поспешно обвязавшись веревкой, вскочил на соломенную крышу, на которой сидела японка, и едва успел схватить ее, как уже вся эта груда обломков понеслась дальше по течению, так что наш молодец и баба повисли на веревке, посредством которой их благополучно вытащили на фрегат. Японка была в истерике, она то хохотала, то рыдала» (Шиллинг. С. 29).
С. 735. ...адмирал послал на развалины Синода К. Н. Посьета и доктора подать помощь раненым. ~ Но наши успели мельком заметить их. — Ср.: «По окончании опасных колебаний я отправил на берег доктора, с предложением его помощи, на случай, ежели бы нашлись увечные. Японские чиновники, поблагодарив за это внимание, не хотели, однако же, воспользоваться предлагаемым им пособием. Всех погибших в городе они насчитывали 109 человек» (Всеподданнейший отчет. С. 208; эти сведения приводятся только здесь). В дневнике Кавадзи записано: «Русские спасали умирающих, заботливо лечили их и даже делали им массаж. Спасенные плакали и кланялись им в знак благодарности» (Кавадзи. С. 153). Кога отметил в своем дневнике, что Цуцуи и Кавадзи, растроганные таким отношением русских, признались: «Пострадав от землетрясения, мы не успели осведомиться о положении русских, между тем как они первые навестили нас. Мы глубоко устыдились» (Кога. С. 325).
С. 735. ...по 6-е января 1855 г... — См. выше, с. 781—782, примеч. к с. 712, и ниже, с. 791, примеч. к с. 735, 736.
С. 735. ...и они буквально «выбросились» на чужой ~ берег. — Как сообщал Е. В. Путятин, при выходе из Симода 2 (14) января «Диану» сопровождала большая японская джонка, «комплектованная людьми из команды фрегата и взятая мною, по предложению японцев, на случай спасения людей»; 3 (15) января на джонке был порван парус, «так что для спасения команды оставалось только выброситься на песчаное прибрежье <...> что в продолжение ночи и пришлось исполнить» (Рапорт. С. 240; ср.: Всеподданнейший отчет. С. 211). «Когда рассвело, — вспоминал лейтенант Шиллинг, — мы увидели, к немалому удивлению, что <...> находимся у самой подошвы горы Фузияма» (Шиллинг. С. 43).
С. 735. Фрегат повели ~ в ~ закрытую бухту Хеда... — 1 (14) января 1855 г. фрегат «повели» к деревне Хеда, расположенной на западном побережье полуострова Идзу в 40 км от Симода, которую обнаружили офицеры «Дианы». Кавадзи записал в дневнике: «Об этой деревне никто не знает. Разумеется, ее на карте нет. Однако когда я получил подробные сведения об этой деревне, то оказалось, что это хорошая бухта. До сих пор никто не знал об этом месте. На Западе замечательные мореходы» (Кавадзи. С. 167). В то время в Хеда насчитывалось примерно 600 домов с населением 3000 человек; бухта Хеда закрыта с юга, востока и запада.
- 791 -
С. 735. Дня два плаватели носимы были бурным ветром по заливу и наконец должны были ~ перебраться ~ на берег... — «3-го и 4-го числа ветер не стихал, — писал о. Василий Махов, — погода морская бушевала без устали; воду не успевала команда откачивать день и ночь; фрегат опускался ниже и ниже...» (Махов. С. 45). Осознав невозможность дальнейшего перехода в Хеда на затопляемом водой фрегате, у которого отказали помпы, адмирал 5 (17) января отдал приказ переправлять команду на берег (возле селения Мэасима) и сам покинул борт «Дианы»; 6 (18) января с фрегата свозили на берег багаж (см.: Рапорт. С. 240; Всеподданнейший отчет. С. 212; Выписка. С. 255; Шиллинг. С. 43—46).
С. 736. Сто японских лодок тянули его ~ все лодки бросили внезапно буксир... — Лодки взяли фрегат на буксир 7 (19) января в 10 часов утра. Для этого в окрестностях Мэасима были собраны все рыбаки в возрасте от 16 до 50 лет (см.: Кого. С. 356—357). По словам лейтенанта Н. Г. Шиллинга, «адмирал надеялся отбуксировать фрегат посредством японских лодок в бухту Хеда. В этой закрытой от всякого волнения бухте можно бы было еще спасти нашу милую „Диану”, если бы удалось поставить ее на мель, вылить из нее воду и заделать пробоины» (Шиллинг. С. 49). «7-го числа, поутру, — писал Е. В. Путятин, — японцы действительно собрали до 100 лодок и при сделавшемся штиле стали буксировать фрегат, в котором вода поднялась до одной трети высоты жилой палубы. В продолжение трех часов они отбуксировали фрегат миль на 5-ть, так что я начал иметь надежду на успех. Вдруг, к крайнему моему удивлению, без малейшего повода, мы увидели, что японские лодки спешат покинуть фрегат и берут направление к местам, откуда прибыли. Остановить их не представлялось никакой возможности; впрочем, вскоре объяснилась причина их удаления. Настигший нас минут через десять шквал от S развел быстро сильное волнение, и мы, находясь на лодке, с трудом успели уйти под парусом в порт Эноро» (Рапорт. С. 241—242). Примечания о количестве буксировавших фрегат японских лодок (120) и о причине их поспешного удаления («Японцы узнают приближение шторма, если гора Фудзи вдруг покроется облаками») см.: Всеподданнейший отчет. С. 213.
С. 736. ...а наутро его уже не было видно... — «Диана» затонула 7 (19) января; согласно записи в шканечном журнале, «в 6 часов вечера с места Миасима, где была команда, видели, как фрегат погрузился кормою» (Выписка. С. 257). О последних минутах «Дианы» Е. В. Путятин писал: «Ветром фрегат поворотило обратно и понесло к прежнему месту; вскоре мы увидели его опрокинутым, с сильным буруном, разбившимся над его верхним боком. Заход солнца скрыл от нас дальнейшую участь фрегата, и с рассветом мы не видели уже больше его следов» (Рапорт. С. 242; см. также: Всеподданнейший отчет. С. 213). «Находясь в чужой стране, до сих пор не принимавшей иностранцев, — вспоминал Н. Г. Шиллинг, — мы лишились всего, что нас связывало с родиной, и не имели возможности вернуться домой...» (Шиллинг. С. 50). В 1931, 1954 и 1976 гг. были подняты три якоря «Дианы» (один в настоящее время выставлен у входа в краеведческий музей Хеда, другой — в парке Рёкудо в городе Фудзи), корпус фрегата не найден.
- 792 -
С. 736. Вот эти два числа — 11 декабря, день землетрясения, и 6 января, высадки на берег ~ и были поводом к собранию нашему... — См. выше, с. 781—782, примеч. к с. 712.
С. 736. От подошвы Фудзи наши герои ~ направились в ту же бухту Хеда... — «11 числа отправилась первая половина команды в порт Хеда, — писал один из «героев», — а на следующий день и другая. Багаж был перевезен морем. Переход продолжался два дня: первый день по ровной широкой дороге, служащей сообщением столичных городов Миако и Едо. Путь этот пролегал по равнине, идущей от моря до подошвы горы Фудзи <...>. <...> На другой день пришлось пробираться узкими тропинками по крутым и высоким горам» (А К. <Колокольцев А.>. Построение шкуны «Хеда» в Японии // МСб. 1856. № 8. Ч. III. С. 280). По словам другого участника перехода, «нескончаемая черная лента, образуемая нашим шествием и извивающаяся по зеленым горам, представляла эффектную картину» (Шиллинг. С. 53).
С. 736. ...расположились там на бивуаках ~ значит нести все тягости какого-то плена. — Е. В. Путятин и офицеры жили в буддийском храме Хосэндзи, для матросов были построены четыре барака. В Хеда, как писал Путятин, «несмотря что и это место потерпело от землетрясения, мы нашли нарочно построенные для команды дома и большой храм с пристройками, очищенный для офицеров. <...> Устроившись окончательно в порте Хеда, мы получили много подарков от японского правительства, принявшего ни свой счет переезды и содержание наше в продолжение первых десяти дней нашего бедствия Японцы доселе снабжали нас рисом, рыбою, саки и сладким картофелем в изобилии, так что вся команда пользуется совершенным здоровьем и только с нетерпением выжидает минуты своего возвращения, чтоб иметь случай ревностно противустоять врагам Престола и Отечества» (Рапорт. С. 243). «В Хеда, — вспоминал лейтенант Н. Г. Шиллинг, — большой храм со всеми его пристройками был очищен для помещения адмирала и офицеров. Наша кают-компания находилась в самом храме, где идолы были поставлены лицом к стене, вероятно, дабы они не смущались видом христиан в их святилище. Рядом с храмом было приготовлено для нашей команды несколько домов, а напротив, на другой стороне улицы, еще строились казармы для нее. Японские власти тут же объявили адмиралу, что их правительство считает нас своими гостями и потому надеется, что мы во все время пребывания нашего в Японии будем жить на его счет» (Шиллинг. С. 53).
С. 737. ...положил адмирал построить судно собственными руками с помощью, конечно, японских услуг ~ Так и сделали. — Строительство шхуны проходило «при радушном содействии японских чиновников» (Всеподданнейший отчет. С. 216). В одном из официальных донесений сообщалось: «Оставив Миасима — место крушения фрегата, лежащее у подошвы горы Фуджи (12 000 ф. высотою), команда перешла берегом в порт Хеда, в котором генерал-адъютант Путятин немедля предложил японскому правительству дать ему средства выстроить небольшое судно с целью отправить оное в Россию для извещения о своем положении, намереваясь в то же время перевезти команду „Дианы” на японских джонках в порт Хакодате или в Аниву, что на южной оконечности острова Сахалина. Другая причина, побудившая генерал-адъютанта Путятина к строению судна, состояла
- 793 -
в том, чтобы избежать праздности, которой неминуемо подверглись бы нижние чины во время пребывания их в Японии, и в доставлении как офицерам, так и нижним чинам постоянных упражнений. <...> Большая часть потребного для сего леса вырублена была в горах, находящихся в окрестностях Хеда, нашими матросами, и им пришлось учить японцев гнать смолу, прясть пеньку, спускать тросы, шить паруса, устроивать необходимые инструменты для выделки блоков и проч., что, конечно, послужит к улучшению их судостроения, на которое теперь в Японии начали обращать большое внимание.
Через два с половиной месяца, при содействии большого числа японских мастеровых, шкуна была спущена и оказалась судном весьма хороших качеств» (О плавании, в Восточном океане, генерал-адъютанта Путятина и контр-адмирала Завойки // МСб. 1856. № 1. Ч. III. С. 182). Участие японцев в постройке шхуны помогло им познакомиться с техникой создания парусного судна европейского типа (в 1639 г. декретами сёгунского правительства о закрытии страны было запрещено крупное судостроение; в 1853 г. запрет был снят; см. также выше, с. 638, примеч. к с. 341). В работе, кроме русских плотников и кузнецов, участвовало около 40 японских корабельных плотников и 150 рабочих; в Хеда также прибыло около 100 должностных лиц от японского правительства (см.: Накамура. С. 178). Шхуна строилась по образцу шхуны «Опыт», чертеж которой был обнаружен в «Морском сборнике» (1849. № 2). Мичман Колокольцев писал: «По этим данным тотчас приступлено было к составлению чертежа на чистом воздухе, употребив вместо стола опрокинутую бочку. Такая чертежная хотя была и не весьма удобна, но лучшей — в нашем положении — нельзя было устроить. <...> Японцы очень хорошо оценили этот счастливый случай, давший им возможность на опыте изучить наше кораблестроение, чего они бы долго не достигли собственными средствами. <...> Время работ было распределено следующим образом: команда отправлялась на работу обыкновенно в ½ 6 часа и оставалась там до ½ 12-го и, по поднятому в занимаемом нами храме флагу, шла обедать в казармы. Японские мастеровые оставались в это время у шкуны, садились все в кружок и начинали свой скромный обед, приносимый ими с собою в ящичках еще утром. Обед обыкновенно состоял из риса, зелени, а иногда и из небольшого количества рыбы. В ½ 2 часа отправлялись опять на работу, продолжавшуюся обыкновенно до позднего вечера; после чего команде давали ужинать. <...> Как хороши японские плотники, так, напротив, кузнецы их никуда не годятся; они привыкли ковать только гвозди да необходимые для себя инструменты, большие же вещи им пришлось теперь работать в первый раз» (А. К. <Колокольцев А.> Построение шкуны «Хеда» в Японии. С. 279, 280, 286—287, 288). См. также: Петрова О. П. Адмирал Е. В. Путятин в бухте Хэда: (К истории русско-японских отношений в середине XIX века) // Сов. востоковедение. М.; Л., 1949. Т. 6. С. 368—382; Накамура. С. 177—190.
С. 737. Через четыре месяца уже готова была шкуна... — Шхуна была торжественно спущена на воду 14 (26) апреля 1855 г. Кога записал в дневнике: «Они <русские> работали так быстро, как ками» (Кога. С. 369; Lensen 1955. P. 185; о «ками» см. выше, с. 631—632, примеч. к с. 332). «Налюбовавшись вдоволь на шкуну, — вспоминал
- 794 -
участник ее строительства, — мы обернулись назад, и тут представилась картина не менее занимательная. Японцы с раскрытыми ртами присели на землю и безмолвно следили за шкуною, пока она, на буксире у подоспевших наших гребных судов, не скрылась за первый мыс. Тогда вся ватага чиновников, мастеровых и просто зрителей отправилась с поздравлениями к адмиралу, приседая по своему обычаю и низко кланяясь в благодарность за данный им урок» (А. К. <Колокольцев А.> Построение шкуны «Хеда» в Японии. С. 293). После отплытия экипажа Е. В. Путятина здесь же, в Хеда, было построено еще три однотипных судна (см.: Там же. С. 299; Петрова О. П. Адмирал Е. В. Путятин в бухте Хэда: (К истории русско-японских отношений в середине XIX века). С. 370, 380); всего по образцу шхуны «Хеда» было построено шесть судов. В 1969 г. в деревенском краеведческом музее в Хеда были выставлены модели фрегата «Диана» и шхуны «Хеда», а также оставленные Путятиным вещи, картины и архивные материалы, связанные с постройкой судна.
С. 737. ...один отправился на нанятом американском судне к устьям Амура... — 30 марта (11 апреля) первый отряд из 159 человек во главе с капитан-лейтенантом С. С. Досовским отправился на американской купеческой шхуне «Каролина Е. Фут» в Петропавловск-на-Камчатке. О прибытии шхуны 4 (16) мая В. А. Римский-Корсаков писал: «На ней привезено 150 человек с фрегата „Диана”. С ними сам Лесовский и несколько офицеров.
От них узнали, что 11 декабря прошлого года „Диана” разбилась, потерпев страшные повреждения, потеряв и киль и руль от землетрясения в заливе Симода, недалеко от Иеддо. Землетрясение было ужасно: город смыло весь и дома плавали кругом фрегата, тогда как джонки разбросало по горам. <...> Потеряв киль и руль, адмирал предполагал килевать фрегат, и так как залив Симода открыт, он хотел перейти в Иеддо, но на переходе его встретил шторм. Без киля и руля фрегат не мог отлавироваться от берега. Его прижало и совершенно разбило. Очень немного удалось спасти вещей, но, к счастью, никто не погиб. Адмирал немедленно принялся строить судно для перевоза команды, а прибывшую к тому времени американскую шхуну нанял для перевоза части команды в Петропавловск, сам [же] с остальными 250 остался достраивать судно» (Римский-Корсаков. С. 254—255).
С. 737. ...другой на бременском судне ~ Но англичане приняли наших, не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение и ~ доставили их ~ в Европу. — 2 (14) июля отряд в 278 человек во главе с лейтенантом Мусиным-Пушкиным покинул Хеда на бременском бриге «Грета», нанятом за 2000 фунтов стерлингов. 20 июля (1 августа) бриг был захвачен в Охотском море английским военным пароходом «Барракута». Мусин-Пушкин сообщал из Гонконга 27 октября (8 ноября) 1855 г.: «Капитан Стирлинг (сын адмирала Стирлинга, командующего английской эскадрой в Восточном океане) потребовал меня к себе и объявил нас военнопленными, а бриг призом. Капитан Стирлинг сперва намерен был пересадить всю вверенную мне команду на пароход и перевезти нас в Хакодате, к адмиралу Стерлингу, но раздумал и стал буксировать бриг, не пересаживая с него пленников, для доставления в Аян» (Извлечения из писем лейтенанта Мусина-Пушкина и американского негоцианта Борроуса // МСб.
- 795 -
1856. № 2. Ч. II. С. 212; список взятых в плен см.: Письмо лейтенанта Мусина-Пушкина на имя агента Российско-Американской компании // МСб. 1855. № 11. Ч. II. С. 8—10). В Аяне 22 июля (3 августа) «свободу дали священнику (Василию Махову. — Ред.), доктору и 20-ти человекам больным нижним чинам» (Елкин П. Заметки о гидрографических занятиях, во время кругосветного плавания на фрегате «Диана», с 1853 по 1855 год // МСб. 1856. № 10. Ч. I. С. 127), а экипаж «Дианы» был переправлен сначала в Хакодате, затем в Нагасаки, откуда часть его была перевезена в Шанхай, другая, включая О. А. Гошкевича и П. А. Зеленого, в октябре 1855 г. — в Гонконг. Из Гонконга в декабре русские военнопленные были отправлены в Англию (см.: Извлечения из писем лейтенанта Мусина-Пушкина и американского негоцианта Борроуса. С. 213—219) и смогли вернуться на родину только по окончании войны, в апреле 1856 г. (о пленении брига «Грета» и о возвращении пленных на родину см. также: Махов. С. 61—63; Шиллинг. С. 64—94; Lensen 1955. P. 138—141). Мусин-Пушкин, однако, признавался: «...я поступил бы против совести, не отдавши полной справедливости их <англичан> внимательному и благородному обращению с нами; в особенности капитан Стирлинг, захвативший нас, был так внимателен ко мне и к офицерам, которые были со мной, что каждый из нас имел каюту» (Извлечения из писем лейтенанта Мусина-Пушкина и американского негоцианта Борроуса. С. 218—219). О том же вспоминал и старший штурманский офицер «Дианы» Петр Елкин, отбывший с партией русских военнопленных из Портсмута 7 (19) апреля 1856 г.: «Теперь, отдавая полную справедливость нашим неприятелям, я должен сказать, что они, во все время нашего плена, обращались с нами очень благородно и были удивительно предупредительны, — даже до мелочей; в беседе были всегда внимательны, очень уважали русских и, замечая нашу скуку, старались доставлять нам как можно более развлечений» (Елкин П. Заметки о гидрографических занятиях, во время кругосветного плавания на фрегате «Диана», с 1853 по 1855 год. С. 131).
С. 737. Наконец, сам адмирал ~ прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устья Амура... — Отряд из 48 человек во главе с Е. В. Путятиным на шхуне «Хеда» покинул бухту 26 апреля (8 мая) 1855 г. (т. е. до отплытия «второго» отряда; см. выше); 10 (22) мая в Авачинской губе был встречен английскими крейсерами (см.: Всеподданнейший отчет. С. 218; Пещуров А. Шкуна «Хеда» в Татарском проливе // МСб. 1856. № 6. Ч. IV. С. 1—4). 8 (20) июня «Хеда» бросила якорь против Николаевского поста в устье Амура. По официальным сообщениям, на шхуне прибыли «состоящие при генерал-адъютанте Путятине: капитан 2-го ранга Посьет, подполковник Лосев, мичман Пещуров; командир шкуны лейтенант Колокольцев, прапорщик Семенов, юнкера Лазарев и Корнилов и 40 человек нижних чинов. Шкуна „Хеда” сдана для хранения в Николаевском порте, дабы, согласно сделанному с японцами условию, отвести ее при первой возможности в Хакодате или Симоду или, в случае невозможности это исполнить, уплатить стоимость оной японскому правительству» (МСб. 1856. № 1. Ч. III. С. 186; см. также: Невельской. С. 342). Впоследствии шхуна была переоборудована и в ноябре 1856 г. возвращена японскому правительству. В 1887 г. О. Е. Путятина, дочь адмирала, посетила деревню Хеда и благодарила жителей
- 796 -
за оказанную ее отцу помощь. Через четыре года по ее завещанию деревне были подарены 100 рублей.
С. 737. ...и по этой реке поднялся вверх до русского поста Уст-Стрелки ~ и достиг Петербурга. — «Генерал-адъютант Путятин, получив разрешение возвратиться в Санкт-Петербург, оставил 29 июня, вместе с состоящими при нем офицерами, Николаевский пост и на небольшом винтовом пароходе „Надежда”, принадлежащем к Амурской флотилии, отправился вверх по Амуру. Имея на буксире баржу, „Надежда” сделала первый опыт подъема по реке Амур. После 81-дневного плавания, в борьбе с сильным течением, иногда вовсе останавливавшим ход парохода, генерал-адъютант Путятин достиг Усть-Стрелецкого караула, стоящего при слиянии Шилки и Аргуни. Сильное понижение воды заставило оставить пароход „Надежда”, не доходя на 400 верст до этой станции, и оттуда он уже продолжал плавание на барже, которая подымалась вверх по реке, бичевою. Во время этого плавания по Амуру генерал-адъютант Путятин пользовался всеми случаями для пополнения и отчасти исправления карты этой реки. Карта эта, составленная Корпуса топографов прапорщиком Поповым, по замечанию генерал-адъютанта Путятина, исполнена добросовестно и настолько точно, сколько это можно требовать при тех средствах, которыми мог располагать г-н Попов. <...> Исправленную по точным широтам и по разности долгот карту Амура, над которою трудился мичман Пещуров, генерал-адъютант Путятин сообщит в непродолжительном времени» (О плавании, в Восточном океане, генерал-адъютанта Путятина и контр-адмирала Завойко. С. 187—188; см. также: Всеподданнейший отчет. С. 220—222). О плавании Путятина вверх по Амуру Г. И. Невельской писал: «Между тем адмирал Е. В. Путятин с капитаном II ранга Посьетом на паровом катере „Надежда” в начале августа отправился вверх по Амуру в Забайкалье. Это было первое наше судно, поднимавшееся по реке Амуру. Плавание это совершалось медленно и сопряжено было с величайшими затруднениями и лишениями. Мы <...> не имели на Амуре постов, в которых пароход мог бы запасаться продовольствием и дровами, почему он был загружен и вынужден был иметь на буксире тяжелый баркас; дрова же для топлива рубил прямо с корня. Кроме этого, вода в верховьях реки была необыкновенно низка, и на реке обнаружилось много банок и мелей. Холода наступили весьма рано, так что, не доходя 300 верст до Усть-Стрелочной станции, адмирал Е. В. Путятин встретил шугу (лед) и вынужден был, приковав пароход и баркас к скале, оставить их тут на зимовку, а сам со всеми своими спутниками с неимоверными лишениями и усилиями добрался пешком по берегу (в начале ноября) до Усть-Стрелочной станции, а оттуда через Иркутск проехал в С.-Петербург» (Невельской. С. 355).
С. 737. ...капитан (теперь адмирал) Посьет... — О К. Н. Посьете подробнее см. выше, с. 421—422.
С. 737. ...со времени присоединения Амура к нашим владениям... — Начало освоения Приамурского края было положено экспедициями 1643—1646 гг. В. Д. Пояркова и 1649—1653 гг. Е. П. Хабарова; по Нерчинскому трактату (1689) территория края отошла к Китаю. Присоединение Приамурья к России (включая остров Сахалин) состоялось в 1851—1853 гг. в результате деятельности Амурской экспедиции
- 797 -
во главе с Г. И. Невельским; «...за три года деятельности Амурской экспедиции Приамурье и Сахалин без единого выстрела стали русскими владениями...» (Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и русской Америки (до конца XIX века). М., 1982. С. 58—59; см. также: Невельской; Романов. С. 329—388; Шумахер П. В. К истории приобретения Амура // РА. 1878. № 11. С. 257—342; Лялина М. Адмирал Невельской: Присоединение Приамурского края. СПб., 1878; Алексеев А. И. Амурская экспедиция 1849—1855 гг. М., 1974 и др.). О присоединении Амура к России упоминается также в «Обрыве» (часть третья, глава I).
С. 737. ...на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев. — О первой амурской экспедиции Н. Н. Муравьева весной-летом 1854 г. см. выше, с. 750, примеч. к с. 628; плавание совершалось на пароходе «Аргунь». Второй «сплав» генерал-губернатора Восточной Сибири по Амуру летом 1855 г. был разделен, как писал Г. И. Невельской, «на три отделения», состоявших из 26, 52 и 35 барж. «С этим сплавом прибыли для защиты Приамурского края: 15-й линейный батальон и 14-й линейный полубатальон, всего 2500 человек войска...» (Невельской. С. 342—343); Н. Н. Муравьев с супругой спускался по Амуру на пароходе «Надежда».
С. 738. ...у туземцев: мангу, орочан, гольдов, гиляков... — Мангу (мангуны) — старое название ульчей, заселявших низовья Амура; орочены — старое название эвенков, живших по среднему течению Амура (в отличие от орочей в горах Сихотэ-Алиня и сроков на Сахалине); гольды — нанайцы (название употреблялось с середины XIX в. до 1930-х гг.); гиляки — нивхи, жившие на севере Сахалина, в низовьях Амура и на побережье Охотского моря.
С. 738. ...эти не блудные, а блуждающие сыны добрались до упитанного тельца — Обыгрывается мотив притчи о блудном сыне (Лк. 15:23).
С. 738. ...и ни Эней, с отцом на плечах... — Герой греческо-римской мифологии Эней после захвата греками Трои покинул горящий город с сыном и женой, неся на плечах престарелого отца Анхиса («Энеида», II, 700—744).
С. 738. ...«иных уж нет, а те далече!» — Цитата из «Евгения Онегина» (глава восьмая, строфа LI), повторяющая эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану», который восходит к тексту поэмы «Бустан» Саади (подробнее см.: Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 729—730).
С. 739. ...архимандрита Аввакума. ~ для заключения Тсянзинского трактата ~ скончался там лет восемь или десять тому назад. — Об о. Аввакуме см. выше, с. 433—434. По Тяньцзиньскому трактату между Россией и Китаем, подписанному Е. В. Путятиным 20 мая (1 июня) 1858 г. в г. Тяньцзине, Россия приобрела права наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем. В Тяньцзине 14 (26) и 15 (27) июня 1858 г. (во время англо-франко-китайской, или второй «опиумной», войны 1856—1860 гг.) были также подписаны американо-, англо- и франко-китайский договоры.
С. 739. ...капитана (потом генерала) Лосева... — О К. И. Лосеве см. выше, с. 426—427.
С. 739. ...В. А. Римского-Корсакова, бывшего долго директором Морского корпуса... — В. А. Римский-Корсаков в 1861—1865 гг. исполнял
- 798 -
обязанности директора, в 1865—1871 гг. был директором Морского кадетского корпуса (основан в 1752 г.; занимал здание на углу Николаевской наб. и 12-й линии Васильевского острова; с 1867 г. — Морское училище, ныне — Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе). О деятельности Римского-Корсакова на этом посту см.: Коргуев Н. Обзор преобразований в Морском кадетском корпусе с 1852 года. СПб., 1897. С. 21—24; Кротков А. С. Морской кадетский корпус. СПб., 1901. С. 182—188.
С. 739. ...лихого моряка Савича... — О Н. Н. Савиче см. выше, с. 431—432.
С. 739. ...штурманского офицера Попова... — Лев Александрович Попов (род. 1818) вместе с Г. И. Невельским в 1849 г. совершил плавание в порты Российско-Американской компании.
С. 739. ...старшие занимают высокие посты ~ осыпаны отличиями, — младшие на пути к отличиям. — О «постах» и «отличиях» былых спутников Гончарова см. выше, с. 417, 422, 426, 430, 433—435.
С. 739. ...И. П. Белавенеца... — Об И. П. Белавенце см. выше, с. 435.
С. 739. ...А. А. Халезова... — О нем см. выше, с. 783, примеч. к с. 718.
С. 740. Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута... — Протоиерей Евгений Иванович Попов (ум. 1875) был священником русской церкви в Лондоне, где прожил 33 года; он являлся также автором многочисленных трудов, в том числе о воссоединении англиканской церкви с православной (о нем см.: Воспоминание русского военнопленного о почившем протоиерее Е. И. Попове // Странник. 1875. № 11. С. 94—96 2-й паг.).
ОЧЕРКИ
(Т. 3, с. 5)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: Подснежник. 1858. № 2. С. 25—41 (ценз. разр. — 30 янв. 1858 г.); № 3. С. 2—25 (ценз. разр. — 6 марта 1858 г.), с подписью: «И. Гончаров».
В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VII.
Печатается по тексту первой публикации.
Работа над очерком относится к концу 1857 — началу января 1858 г. 20 января рукопись была отдана в цензуру,1 4 февраля вышел из печати № 2, а 10 марта — № 3 журнала «Подснежник».
Журнал издавался братом А. Н. Майкова В. Н. Майковым в 1858—1862 гг. и носил имя рукописного журнала майковского кружка (1835—1838 гг.),2 но в отличие от него предназначался «для
- 799 -
детского и юношеского возрастов». Настоящий очерк — единственная вещь, написанная Гончаровым по просьбе В. Н. Майкова специально для юношества. В дальнейшем писатель все подобные предложения отвергал. «Дети не любят, чтобы их считали детьми, — писал он В. Н. и Евг. П. Майковым 9 (21) августа 1860 г., — и это весьма справедливая мысль, что для детей литература уже готова и что ее надо выбирать из взрослой литературы.1 <...> как скоро садишься писать с мыслию, что это для детей, не пишется да и только».
Обращение В. Н. Майкова к Гончарову с просьбой подготовить публикацию для «Подснежника» объясняется тем, что Майков не раз имел возможность убедиться, насколько живы и интересны рассказы писателя из его «морской жизни». Как вспоминает один из современников, когда Гончаров рассказывал о своих путешествиях, «он рисовал ряд живых картин, то смешных и забавных, то серьезных и важных, пересыпая их шутками и каламбурами...» (Гончаров в воспоминаниях. С. 147).2
Очерк начинается с беседы бывалого путешественника с юными слушателями, предваряющей «простой и правдивый рассказ» (наст. т., с. 5) о собственном морском плавании и о двух случаях, когда «мы», т. е. вся команда «Паллады», «попали было в беду...» (там же, с. 15). Этот «рассказ», или «отрывок из морской жизни», есть, по словам автора, не что иное, как «листок дневника», в
- 800 -
котором «...записано, шаг за шагом, день за днем, все, начиная от погоды до грозившей нам опасности включительно» (там же). Первый «случай» — это качка и ежеминутно ожидаемая катастрофа близ коралловых рифов у острова Лю-Чу, когда смерть была от плавателей «в двухстах саженях» (там же, с. 19); второй — когда путешествующему автору представлялась «полная возможность» «быть разбитым, изувеченным, убитым» на севере, «почти у себя» (там же, с. 23, 24), при неожиданной посадке «Паллады» на мель. Очерк не имеет концовки — он действительно похож на листки из дневника, не включенные в свое время в соответствующие главы части второй «Фрегата „Паллада”» (первый «случай» должен был бы следовать за словами: «Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер...» — наст. изд., т. 2, с. 493, строка 3; второй мог бы войти в ту часть главы VI, которая имеет дату: «20-го числа (июня)» — там же, с. 623—624).
«Два случая из морской жизни» связаны с очерком «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и соответственно с эпилогом «Через двадцать лет» «Фрегата „Паллада”». В последнем говорится: «Бывают нередко страшные и опасные минуты в морских плаваниях вообще: было несколько таких минут и в нашем плавании до берегов Японии <...> „Страшные” и „опасные” минуты — это не синонимы <...>. <...> „опасные” минуты <...> нечасты, и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. <...> Упомяну теперь два-три таких случая» (там же, с. 712—717). Этим «случаям», или «минутам», посвящены главки II и IV эпилога (там же, с. 716—721, 724—727), причем в последней речь идет о тех же эпизодах, что и в комментируемом очерке.
С. 7. ...выползет боа... — Боа — крупная змея из семейства удавов.
С. 10. ...один только никогда не мог привыкнуть к морю... — Имеется в виду О. А. Гошкевич (о нем см. выше, с. 434—435).
С. 14. ...многие мореходы не воротились: Кук, Лаперуз, недавно еще Франклин!. — О Дж. Куке и Ж.-Ф. Лаперузе см. выше, с. 541—542, 751, примеч. к с. 9 и 629. Джон Франклин (Franklin; 1786—1847) — английский полярный исследователь; в 1845—1847 гг. возглавлял экспедицию на судах «Террор» и «Эребус» по отысканию Северо-западного морского прохода, которая закончилась гибелью всех ее участников.
С. 17. Оттуда приехал офицер... — Это был Н. Г. Шиллинг (см. об этом выше, с. 410).
С. 20. ...где ни печали, ни воздыхания не было. — Ср. слова молитвы об умерших: «...упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
С. 21. ...отделяется ли остров Сахалин от Азиатского материка проливом ~ Задача эта решена практически ~ в 1851 г. русским транспортом «Байкал». — См. об этом выше, с. 751, примеч. к с. 629.
С. 22. Колонизация, то есть заселение и обрабатывание пустых мест ~ всегда было обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. — Финикияне в конце II — начале I тысячелетия до н. э. колонизировали Центральное и Западное Средиземноморье, северо-африканский берег Атлантического океана; их поселения были основаны также в Южной Испании, Сицилии и
- 801 -
Сардинии. Греческие колонии находились в Малой Азии, на берегах Африки, в Южной Италии и Испании.
С. 22. ...по случаю войны... — Т. е. Крымской, или Восточной, кампании (см. выше, с. 660, примеч. к с. 396).
С. 23. Уж пахло «дымом отечества»... — См. выше, с. 594, примеч. к с. 269.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И РАССКАЗОВ
О МОРСКОМ ПЛАВАНИИ(Т. 3, с. 26)
Источники текста
ЧА — черновой автограф на листах большого формата, с обильной правкой чернилами и карандашом, с датой: «Январь 1874» и подписью: «И. Гончаров». Хранится: ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 57, л. 12—33 об.
HP — лист наборной рукописи (от слов: «...города и селения» — до слов: «как редких и дорогих гостей» — наст. т., с. 54—55, строки 21—17), под номером 28, с датой: «Январь 1874» и подписью: «И. Гончаров». Хранится: РГАЛИ, ф. 135, оп. 1, № 7.
Впервые опубликовано: Складчина: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874. С. 524—560, с датой: «Январь 1874» и подписью: «И. Гончаров».
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по тексту первой публикации со следующими исправлениями по ЧА.
С. 40, строка 12: «беспечно» вместо «бесконечно».
С. 41, строка 24: «фрегат стало бить об дно» вместо «фрегат стал бить об дно».
С. 48, строка 13: «воздымался» вместо «возвышался».
Во второй половине декабря 1873 г. на организационном собрании петербургских литераторов и ученых, посвященном изданию литературного сборника «Складчина» в пользу голодающих Самарской губернии, Гончаров был избран его редактором. Однако на следующий день он отказался от единоличного редакторства и на очередном собрании по его предложению был избран коллективный редакционно-издательский комитет, в который вошли также Н. А. Некрасов, А. А. Краевский, А. В. Никитенко, П. А. Ефремов и редактор «Гражданина» кн. В. П. Мещерский. Тогда же решено было в кратчайший срок (к 1 февраля 1874 г.) собрать все предложенные к опубликованию материалы (общим объемом от 35 до 40 печатных листов). Названный срок почти сразу же пришлось продлить до конца февраля, с тем чтобы в первых числах марта начать печатание (бесплатно и в срочном порядке печатать материалы сборника согласились владельцы десяти типографий). Гончаров должен был, помимо представления к сроку собственной статьи, вместе с другими членами комитета читать, отклонять, редактировать принятые произведения и проводить их через цензуру (всего в сборнике было
- 802 -
представлено 48 литераторов, в их числе Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, Я. П. Полонский, А. К. Толстой, А. Н. Плещеев, В. А. Соллогуб и другие).
В редакционном «Предисловии» к «Складчине» говорилось: «Воззвание к помощи застало литераторов врасплох: кто имел готовое, тот поспешил отделить часть от целого; другим пришлось создавать новое, притом в определенный краткий срок, — в какой-нибудь месяц».1 Гончаров относился к числу тех, кому «пришлось создавать новое». По его собственным словам в «Необыкновенной истории», сначала он предполагал написать «...очерк одного лица, из простых людей, любителя стихов...»,2 но потом начал работу над очерком «Поездка по Волге», которая продолжалась около месяца. Написав примерно полтора печатных листа текста, Гончаров отказался от этого намерения. На первой странице сохранившегося автографа очерка записано: «Это я начал было писать для сборника „Складчина” в декабре 1873 и январе 1874 года, но тогда заторопили сроком, у меня ничего не успело выйти». Очевидно, он тут же приступил к другому замыслу — будущему очерку «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании».3 И главную роль здесь сыграло не столько то, что «заторопили сроком», сколько присутствие Гончарова 6 января 1874 г. на одном из двух обедов, устроенных бывшими участниками экспедиции в Японию в честь двадцатилетней годовщины «избавления их от гибели <...> при крушении в 1854 году в Японии фрегата „Диана”» (наст. т., с. 26). В пользу предположения, что к началу января, скорее всего, и относится начало работы над очерком, говорят слова самого Гончарова: «Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом, много приведено было забытых подробностей путешествия, особенно при крушении „Дианы”. Японская экспедиция была тут почти вся в сборе, в лице главных ее представителей <...> и я в этом, знакомом мне, кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за двадцать лет назад и доскажу, между прочим, о том, что сталось с „Палладой” и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников, после того как я расстался с ними» (там же). Очерк был написан в очень короткий срок — 19 февраля Гончаров представил наборную рукопись в комитет «Складчины», а 16 марта уже получил корректуры (в письме к П. А. Ефремову, сопровождавшем прочитанные корректуры, сообщается: «Ошибок, как видите, немного: вставок я не делал...»). Работа была сделана столь быстро как потому, что строилась на знакомом материале, ожившем в сознании писателя благодаря встрече с моряками на обеде 6 января, так и потому, что частично этот
- 803 -
материал вошел в «Два случая из морской жизни» (см. об этом выше, с. 800). Да и первоначальное заглавие нового очерка «Страшные и опасные минуты на море» непосредственно соотносилось с содержанием «Двух случаев из морской жизни», где вторая и третья части были посвящены «страшному» на море. Эта же тема была отражена и в составленном Гончаровым официальном документе (см.: Всеподданнейший отчет. С. 174, 206—213).
Черновой автограф очерка представляет собой рукопись, испещренную многослойной и разнохарактерной правкой — такой же, какая присуща рукописям «Обломова», «Обрыва» и других произведений писателя. В разделе «Рукописные редакции и варианты» помещены три фрагмента этого автографа (начало главки I — л. 12—13 об.; начало главки III — л. 19—20; конец главки VI — начало главки VII — л. 28—33 об.); остальная часть рукописи представлена в виде вариантов.
Для правки в черновом автографе характерно стремление автора предельно сжать повествование. В окончательный текст не вошли записанные на полях рукописи слова: «Поздно хватился — скажут мне на это», в которых выражена возможная реакция читателей на намерение писателя «...опять, конечно в последний раз, заговорить об этом путешествии и досказать публике недосказанное в свое время, двадцать лет назад...» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 322). Было снято начало пассажа, посвященного официальному рапорту Е. В. Путятина великому князю, которое имело характер не совсем уместного панегирика адмиралу: «Рапорт этот — образцовое произведение в своем роде — как полное и вместе сжатое и необыкновенно сильное описание события...»; отказался Гончаров и от упоминания следующей особенности рапорта: «...рапорт, помещенный в специальном журнале, обращающемся в кругу моряков, мало знаком большинству неморской публики...» (там же, с. 322—323, 324). Не попало в окончательный текст пространное авторское рассуждение по поводу «страшных» минут не только на море, но и на берегу: «Сейчас скажут, что будто на море человек ближе к опасности, нежели на берегу, что там отделяет его „одна доска от смерти”. Последнее выражение сделалось общим местом, и это неправда. В вагоне, при брошенном на рельсы камне или по другой причине, не спасет и доска, точно так же как ничто не спасет от наскочившего экипажа, от укушения бешеной собаки и т. д. — всего не перечислишь» (вариант к с. 35, строка 13).1
Особенно тщательно Гончаров сокращает текст в эпизоде гибели «Дианы». Уже в самом начале повествования, после наглядного, «вульгарного» изображения катастрофы (на примере чашки с водой, в которую брошена яичная скорлупа и которой придается быстрое круговращательное движение), писатель отказывается от подробного рассказа об опасности, которая поджидала «Диану» в бухте Симода со стороны английской эскадры, заметившей «завидную добычу» («русское военное судно <...> и на нем адмирал» — вариант к с. 47, строка 11), а в картине первого столкновения в бухте двух громадных
- 804 -
водяных валов — от описания жителей городка, бросившихся после отлива вала к своим домам «спасать имущество, а может быть, и жизнь не успевших уйти» (вариант к с. 47, строки 34—38). Из следующего акта драмы изымаются эпизоды с попытками гибнущего экипажа спасти оказавшихся рядом с «Дианой» японцев на джонках, которым «предстоял только выбор смерти: в землетрясение утонуть, а за нарушение повеления правительства (не вступать в сношения с иностранцами. — Ред.) — вскрыли бы им животы» (вариант к с. 48, строки 15—19). Был вычеркнут и эпизод с голландским мальчиком Яном, который не успел выбежать наверх через люк и проскочил, «как мышонок», сквозь полупортик судна (вариант к с. 48, строка 26). И наконец, Гончаров заменяет двумя абзацами: «Фрегат повели ~ его уже не было» (наст. т., с. 50) — прежде очень подробную картину агонии «Дианы» — от попытки провести на буксире обессиленное, хотя слегка подправленное, судно в более безопасную бухту Хеда до ее гибели от нового шквала: «С наступлением тихой погоды ~ За наступившею ночью и темнотой нельзя уже было следить за его дальнейшей участью.
А наутро, когда стихло, его не было» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 329—330).
Двумя короткими абзацами: «Из донесений известно ~ и достиг Петербурга» (наст. т., с. 51) — был заменен текст, насыщенный несколькими яркими эпизодами из истории возвращения моряков с «Дианы» в Петербург: здесь и «интересная подробность» (наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 332) с разбуженным китом, и история с партией моряков, пустившихся в путь на бременской шхуне, захваченных вражеским английским судном и, вопреки ожиданиям, благородно сочтенных англичанами не за военнопленных, а за потерпевших кораблекрушение («...плаватели были не в плену, а в гостях у тонко образованных, гуманных, развитых людей» — там же, с. 333—334). На английском судне среди других русских моряков оказался «милейший из прежних <...> спутников» автора — П. А. Зеленый. В вычеркнутый текст попал рассказанный Зеленым Гончарову такой эпизод: ночью, тайком, к нему в каюту пришли «двое или трое» матросов и предложили «перерезать англичан», «помня, конечно, что теперь война, и веря, что неприятеля надо резать». «Они забыли, что были не в плену, а в гостях, нужды нет, что их было впятеро меньше против англичан...» (там же, с. 334).
На одном из этапов работы над очерком на смену первоначальному заглавию «Страшные и опасные минуты на море» пришло другое — «Воспоминания о морском плавании» (там же, с. 321), оставшееся в черновом автографе незачеркнутым. И все же Гончаров не сохранил его, вероятно, потому, что оно имело слишком общий характер, очерк ведь состоял из частных эпизодов. Окончательное заглавие, полностью соответствующее фрагментарности очерка, появилось или в не дошедшей до нас беловой рукописи, или в первопечатном тексте.
Стремясь плотнее соединить разрозненные эпизоды повествования между собой, писатель ввел в текст ряд разнообразных дополнений. Иногда они носят личный, связанный с самим Гончаровым характер. Так, упомянув о тяготах начала плавания и о пережитых «страшных и опасных минутах», писатель прибавляет: «Я забыл и думать о своем намерении воротиться, хотя адмирал, узнав о моей
- 805 -
болезни, соглашался было отпустить меня. Вперед дальше манило новое — и там было тепло и ревматизмы неведомы» (там же, с. 324—325). Иногда дополнения вводят новый эпизод, как например следующий пассаж-связка: «С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище «поверхностных штрихах» (вариант к с. 47, строки 30—33). В некоторых случаях они играют роль завершающего звена в цепи размышлений. Таково помещенное после сентенции священника: «и жизнь на берегу кишит страхами «мы меняем только одни на другие», — рассуждение: «Обыкновенно ссылаются на то, как много погибает судов. А если счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне пожаров и т. д., то на которой стороне окажется перевес? <...> Да, тут есть правда; но человеку врожденна мужественность, чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкою. <...> сколько англичанок и американок пускаются в дальние плавания и выносят, даже любят, большие морские переезды! Зато какие награды!» (вариант к с. 54—55, строки 35—8).
И наконец, появляется в тексте содержательно-важное дополнение, которое представляет собою информацию о целях экспедиции, носившей, как известно, в значительной мере секретный характер. После слов: «Дело, начатое с Японией» — Гончаров вписывает: «о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине...» (вариант к с. 27, строки 37—38). С точки зрения полноты содержания очерка существенное значение имело и появление в тексте нескольких страниц, позднее (скорее всего, на стадии беловой рукописи, когда Гончаров разделил очерк на семь главок) обозначенных как главка V (см. вариант к с. 42—45, строки 4—6), где речь идет об ожидании встреч с неприятельскими судами в условиях начавшейся войны и даны дополнительные штрихи к портрету о. Аввакума.
Основной же массив правки — правка стилистическая. Особенно выразительна в этом смысле автобиографическая сцена, содержащая описание мук Гончарова при составлении первой официальной бумаги-рапорта, в которой надо было кратко изложить «историю плавания до Англии и причины ввода фрегата в док» (наст. т., с. 36). Рукопись демонстрирует усиленную работу автора, отвергнувшего множество вариантов в поисках приемлемого текста (см.: наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 325—327).
Сборник «Складчина» с очерком вышел в свет 28 марта 1874 г. Газета «Голос» сразу же откликнулась на это событие. В обзоре «Литература и жизнь», подписанном литерой «W» и посвященном разбору поступившего в продажу сборника, о сочинении Гончарова говорилось: «„Из воспоминаний и рассказов о морском плавании” г-на Гончарова — довольно значительных размеров статья, написанная тем простым и изящным языком, которым с таким совершенством владеет автор „Фрегата «Паллада»”. Особенно обращаю внимание читателя на великолепное описание землетрясения в открытом море. Это одна из поразительных сцен» (Г. 1874. 28 марта. № 83).
О том, что очерк нашел заинтересованных читателей, свидетельствуют слова Гончарова из письма к графине А. А. Толстой от 14 апреля 1874 г. Вспоминая о совместном обеде у Е. Н. Шостак, он
- 806 -
писал: «...за этим же обедом Вы мне сказали кое-что очень приятное о том, как была принята и прочитана моя статья в „Складчине”».
Другие редакции и варианты
С. 327. ...плавателям оставалось «сидеть на реках японских и плакать»... — Перефразировка библейского текста: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» (пс. 136, ст. 1).
С. 329. «Яко благ, яко наг, яко нет ничего»... — Пословица в полном виде приведена у В. И. Даля: Даль. Т. IV. С. 676.
С. 329. ...влекомый, как Гулливер, лилипутским флотом. — Ср. «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта (1726; ч. I, гл. V).
ПО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В Якутске и в Иркутске(Т. 3, с. 55)
Источники текста
ЧА — черновой автограф первой части очерка, без заглавия. Датируется предположительно концом 1870-х гг.; возможно, относится к более позднему времени. С правкой чернилами и синим карандашом 1889—1890 гг. — периода подготовки очерка к публикации. К этому же времени относятся наброски к последующему тексту и другие авторские пометы на л. 1 об., 2 об., 5 об. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 90, л. 1—5.
ЧР1 — черновая рукопись продолжения очерка, начатая С. А. Никитенко под диктовку Гончарова, продолженная писателем, а затем вновь Никитенко. Датируется сентябрем 1889 (см. упоминание Гончарова в его письме к А. Ф. Кони от 25 сентября 1889 г. о том, что он диктует Никитенко «кое-что для „Нивы”») — 1890 г. по одновременной с ЧА правке синим карандашом. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 91, л. 1—11.
ЧР2 — черновая рукопись продолжения очерка рукою С. А. Никитенко под диктовку Гончарова. Датируется сентябрем 1889—1890 г. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 111, л. 1—28.
ЧР3 — черновая рукопись продолжения очерка, начатая С. А. Никитенко под диктовку Гончарова и продолженная писателем (со слов: «Так, по приглашению Свербеева» — наст. т., с. 76, строка 1). Датируется концом 1889—1890 г. Вдоль левого поля запись Гончарова красным карандашом, обращенная к Никитенко: «NB. Да возьмите бумагу поплотнее: это какая-то оберточная». Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 92, л. 1—15.
ЧР4 — черновая рукопись продолжения очерка рукою С. А. Никитенко, начатая как копия с неизвестного автографа и законченная под диктовку Гончарова. Датируется концом 1889—1890 г. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 94, л. 1—6.
- 807 -
ЧР5 — черновая рукопись окончания очерка рукою С. А. Никитенко, начатая как копия с неизвестного автографа и законченная под диктовку Гончарова. Датируется концом 1890 г. С правкой писателя. На последнем листе знак отсылки к другой рукописи (см. ЧР1). Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 93, л. 1—8.
K1 — копия начала очерка неизвестной рукой с неизвестного автографа. Датируется концом 1890 г. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 110, л. 1—11.
К2 — копия продолжения очерка неизвестной рукой (той же, что и в K1 с текста ЧР4. Датируется концом 1890 г. Хранится: ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 112, л. 1.
Впервые опубликовано: Русское обозрение. 1891. № 1. С. 5—29 (выход в свет — 19 янв. 1891 г.), с подписью: «И. Гончаров».
В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VII.
Печатается по тексту первой публикации.
Работа над будущими сибирскими главами «Фрегата „Паллада”» началась во время пребывания Гончарова в Сибири (вторая половина августа 1854 г. — середина января 1855 г.). Об этом писатель не раз пишет на страницах книги (наст. изд., т. 2, с. 656, 681). Некоторые из материалов «памятной дорожной книжки» (там же, с. 685) не были использованы во «Фрегате „Паллада”» по разным, в том числе и автоцензурным, соображениям. Приведя в начале очерка первые семь стихов из «известной поэмы» К. Ф. Рылеева «Войнаровский», писатель поясняет, что не процитировал эти стихи в своей книге «вовсе не оттого, что <...> не знал или не помнил этого начала поэмы. Напротив, я помню, что, подъезжая к городу, я декламировал эти стихи; а не привел их, как принято выражаться в печати, — „по не зависящим от автора обстоятельствам”. Приводить что-нибудь из Рылеева <...> тогда было неудобно» (наст. т., с. 56). Тем более «неудобно» было писать о ссыльных декабристах1 и Петрашевском. После выхода в свет «очерков путешествия» оставшиеся неиспользованными материалы хранились в архиве Гончарова, и лишь время от времени усиленные напоминания друзей или просьбы издателей заставляли его извлекать новые отрывки из своего «путевого журнала». Так, в 1858 г. появились «Два случая из морской жизни», в 1874 г. — «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании», а в 1891 г. — «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске». Последний очерк был написан по просьбе А. Ф. Маркса и В. П. Клюшникова, издателей журнала «Нива», в котором в 1888 г. печатались очерки «Слуги. (Из домашнего архива)».
Очерк дополняет сибирские главы «Фрегата „Паллада”» прежде всего подробными описаниями якутского и иркутского общества.
К первой (и основной по объему) части очерка — якутской, относятся все сохранившиеся рукописи (ЧА, ЧР1—5, K1, 2); работа над иркутской его частью отразилась в ЧР1 и ЧР3. ЧР3 пространнее
- 808 -
остальных рукописей. Все рукописи, хотя и отражают разные стадии работы над очерком, по характеру правки, в основе которой лежит стремление автора к подробному и тщательно отделанному повествованию, близки между собой.
В уже написанный текст ЧА Гончаров вводит ряд дополнений самого разного плана — исторические детали (о сибирской буржуазии — вариант к с. 57, строки 34—44; об отсутствовавшем в Сибири крепостном праве — вариант к с. 59, строки 1—8); отдельные петербургские реалии (варианты к с. 56, строки 7—10, 17—19); автобиографические пассажи (эпизод первого появления писателя у якутского губернатора — варианты к с. 61, строки 6—24, 24—25). В ЧР1 (вариант к с. 64, строки 8—9), ЧР2 (вариант к с. 64, строки 8—9), ЧР3 (вариант к с. 64, строки 10—12) подробно разработан отсутствующий в основном тексте фрагмент сцены обеда у губернатора.
Вносятся исправления и уточнения. В ЧА вместо определенного: «Лет тридцать пять тому назад» — стало: «Лет тридцать с лишком тому назад» (вариант к с. 55, строка 20). В этой же рукописи дважды снимается имя «спутника с корабля» — слуги Егора (во «Фрегате „Паллада”» он именуется Тимофеем1 — варианты к с. 56, строки 36—37 и 42).
Все рукописи отличает обильная стилистическая правка. Так, Гончаров многократно возвращается к эпизоду с Иваном Ивановичем Андреевым (ЧР1 — вариант к с. 64—68, строки 20—25; ЧР2 — вариант к с. 64—68, строки 20—25; ЧРз — вариант к с. 64—68, строки 21—25; ЧР4 — вариант к с. 64—68, строки 20—25).
Совершенствуя композицию очерка, писатель произвел небольшую перестановку эпизодов: следовавшее в ЧР1 за второй «убогой трапезой» у губернатора «сказание» о преосвященном, приведшем всех бывших в Светлое воскресенье у обедни прямо из собора в острог «христосоваться с арестантами» (вариант к с. 69, строка 29), оказалось перенесенным в конец рассказа о пребывании писателя в Якутске (см.: наст. т., с. 72), при этом в ЧР1 «сказание» дано от лица губернатора, а в окончательном тексте — от лица одного из «знакомых» писателя.
Очерк был закончен к ноябрю 1889 г. Писатель, верный своей привычке до печатания давать каждое новое сочинение на отзыв друзьям и знакомым, отослал рукопись очерка А. Ф. Кони. 9 ноября 1889 г. последний писал: «Спешу возвратить Вам с благодарностью Ваши очерки „Якутск и Иркутск”, написанные со свойственным Вам мастерством, но не могущие, однако, по содержанию своему, ничего прибавить к Вашей славе. Мне особенно понравилось противоположение между Муравьевым и Григорьевым. Ваш разговор с первым из них о Петрашевском очень интересен, но не жив ли еще Петрашевский? Мне думается, что воспоминания Ваши о декабристах так умеренны по тону и краскам, что ни в какой апробации со стороны родных не нуждаются».2 Последние слова свидетельствуют о том, что в своем письме Гончаров, по-видимому, говорил о намерении познакомить М. С. Волконского с очерком в рукописи. Это произошло позднее, когда очерк был уже сверстан (см. ниже).
- 809 -
После того как очерк в «Ниве» был уже набран, между Гончаровым и редакторами журнала произошел инцидент, вызванный тем, что «г-н Маркс не желал дать ее <статью> на просмотр князю М. С. Волконскому, а запер ее в свой железный сундук». Так объяснял ситуацию Гончаров в письме от 22 ноября 1890 г. к редактору «Русского обозрения» Д. Н. Цертелеву, которому рукопись очерка была передана для напечатания, возможно, без согласования с редакторами «Нивы» (в том же письме Гончаров замечал: «От г-д Клюшникова и Маркса я тоже не получил никакого удостоверения, что статья моя переходит в „Русское обозрение”»).
В том же письме Цертелеву Гончаров, сообщая, что он прочел присланные ему корректурные листы в гранках, отмечал: «На 11-й гранке я сделал вставку о князе М. С. Волконском». 23 ноября корректура была выслана Гончаровым в редакцию журнала. В письме от 27 ноября Гончаров просит Цертелева исполнить еще одну просьбу: «...если Вы узнаете в Москве, что бывшие декабристы умерли все, то есть Якушкин и Поджио, а также Ник<олай> Свербеев <...> то их имена можно привести en toutes lettres. <...> Имя же П. (Петрашевский) так и должно оставаться под буквой П., как у меня показано».1
Эта просьба была выполнена. Но возникло новое обстоятельство, которое, впрочем, оказалось легкоразрешимым. В письме к Цертелеву от 29 декабря 1890 г. Гончаров писал: «У меня недавно был князь М. С. Волконский: ему хочется переменить в моей статье фразу о его отце, когда он перебранивается с чернью на базаре, что он делал это из чудачества. Он желает сказать, что отец его сжился с народом <...>. Я не вижу препятствия не исполнить его желания». «Желание» М. С. Волконского Гончаров учел в присланной ему из Москвы «сверстке». 2 января 1891 г. он рассказывал Цертелеву, как именно он поступил в этом случае: «Князю М. С. Волконскому желалось бы отозваться о своем отце сообразно нынешнему его положению товарища министра, но я не знал, как это сделать в сверстке, и поступил проще: я совсем вычеркнул фразу: он делал это из чудачества, не заменив ее другою, как хотелось князю». Таким образом из уже сверстанного текста очерка был изъят восходящий к ЧРз целый эпизод, свидетельствующий о некоторой эксцентричности князя С. Г. Волконского (вариант к с. 76, строка 32). Но если строки: «„Варнак”, — нередко слышалось брошенное им или обращенное к нему весьма употребительное в Сибири бранное слово. Он делал это из чудачества» — были сняты по просьбе М. С. Волконского (так же как слово «шлялся», замененное словом «ходил», — вариант к с. 76, строки 30—31), то удаление диалога декабриста с Гончаровым по поводу просьбы первого о доставлении ему «запрещенных книг» вряд ли могло быть следствием этой просьбы, скорее, здесь проявилась своеобразная автоцензура: горячее возражение
- 810 -
С. Г. Волконского о том, что его собеседник если и поедет в Сибирь, то не ссыльным, а губернатором, могло не понравиться Гончарову, хотя Волконский явно не намеревался сказать ничего обидного (ср. ниже, с. 817—818, примеч. к с. 76).
4 февраля 1891 г. по получении от редакции книжки журнала с очерком Гончаров сообщал Цертелеву: «Статью мою похваливают и в газетах,1 и кн. Волконский и другие довольны ею, но сам я вечно недоволен своим трудом — таково свойство моей натуры!». 12 февраля в ответ на это письмо Цертелев писал Гончарову: «Статьею Вашей все довольны, и единственный упрек, который ей делают, состоит в том, что она слишком коротка, но это такой недостаток, который и теперь еще, может быть, не поздно исправить. Может быть, если Вы поищете у себя в портфеле, то и найдете это исправление, нельзя ли потребовать? Мне кажется, что найдется».2
Среди немногочисленных известных откликов на очерк Гончарова был и поздний отзыв, принадлежавший Н. И. Барсову, в котором речь идет, вероятно, не только о самом очерке, но и об устных беседах писателя с мемуаристом. Барсов пишет: «Появились его воспоминания <...> об Иркутске, архиерея которого, впоследствии митрополита Московского Иннокентия, под конец жизни, подобно ему, потерявшего глаза, он особенно хвалил за его пастырские и общечеловеческие добродетели...» (Гончаров в воспоминаниях. С. 156).
С. 55. Лет тридцать с лишком тому назад... — Гончаров прибыл в Якутск 11 или 12 сентября 1854 г.
С. 55. ...известная поэма Рылеева «Войнаровский»... — «Войнаровский» вышел при жизни Рылеева отдельным изданием в Москве в 1825 г. Гончаров цитирует ст. 2—8 поэмы.
С. 56. ...как принято выражаться в печати, — «по не зависящим от автора обстоятельствам». — Классическая формулировка извинения перед читателями авторов и редакторов, столкнувшихся с цензурными ограничениями.
С. 56. ...и моего спутника... — Имеется в виду сопровождавший Гончарова повар Тимофей (см. выше, с. 755, примеч. к с. 635).
С. 56. ...omnia mecum portabam. — Точнее: «Omnia mea mecum porto». Изречение это приписывается греческому мудрецу Бианту (ок. 590—530 до н. э). По легенде, изложенной Цицероном («Парадоксы мудрецов», I, 1, 8), когда враги осадили его родные Приены и жители города вынуждены были спасаться бегством, его спросили, почему он не берет с собой никаких вещей. Ответ мудреца подразумевал, что главное его богатство — ум и знания.
С. 57. Сперанский будто бы говаривал, что там и медведи добрее зауральских... — Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839) был генерал-губернатором Сибири с августа 1819 по август 1820 г. Как пишет современник, «пребывание Сперанского в Иркутске было истинным праздником жителей. Едва могли они опомниться, что тринадцатилетняя буря миновалась и что солнце освобождения, мира и спокойствия осенило их мрачную и унылую жизнь. Все стали
- 811 -
дышать свободнее, веселиться без страха» (Калашников И. Т. Записки иркутского жителя // Записки иркутских жителей. Иркутск, 1990. С. 324—325). Подробнее о пребывании Сперанского в Сибири см.: Вагин В. Исторические сведения о деятельности М. М. Сперанского в Сибири. СПб., 1872. Т. 1—2; В память графа М. М. Сперанского. СПб., 1872 (публикация сибирского дневника и писем Сперанского). В библиотеке Гончарова имелся отдельный оттиск речи А. В. Никитенко «Воспоминание о М. М. Сперанском» (СПб., 1872 — см.: Библиотека. С. 62); кроме того, Гончарову, очевидно, были известны книга М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» (СПб., 1861. Т. 1—2) и статья Н. М. Ядринцева «Сперанский и его реформы в Сибири» (BE. 1876. № 5—6). Во всех этих источниках приводимого Гончаровым изречения не обнаружено.
С. 57. Архиерей был урожденный сибиряк. — Иннокентий родился 26 августа 1797 г. в селе Ангинском Иркутской губернии в семье пономаря.
С. 58. Значит, у меня «память сердца» сильнее «рассудка памяти печальной». — Ср. начальные строки стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815): «О, память сердца! ты сильней / Рассудка памяти печальной...».
С. 58. ...Николай Николаевич Муравьев. — О нем см. выше, с. 750, примеч. к с. 628.
С. 58. Губернатором же был — назову его Петром Петровичем Игоревым ~ бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России ~ с какими-то посланными в ту губернию на житье поляками ~ в отдаленный край. — Игоревым Гончаров называет гражданского губернатора Якутска Константина Никифоровича Григорьева (1799—1871), бывшего костромского губернатора; по словам Б. В. Струве, «человека очень уже пожилого и усталого, навлекшего на себя гнев императора Николая за какое-то несообразное распоряжение во время большого пожара в Костроме и за это уволенного от должности с причислением к Министерству внутренних дел. Григорьев был человек безусловно честный, но года его и в особенности удручавшая его костромская катастрофа сделали его робким, нерешительным и положительно непригодным для управления Якутскою областью, где и молодым людям подчас не под силу бывало бороться с трудностями местных условий. <...> Добродушный старик <...> не обинуясь сознавался в своем физическом бессилии для управления Якутскою областью, чистосердечно высказывал, что он там останется только для того, чтобы не возвратить полученных им в Петербурге подъемных и двойных прогонных денег, и просил не подвести его» (Струве. С. 131—132; ср.: Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 365). Сохранилось письмо Гончарова к Григорьеву от 31 декабря 1854 г. В августе 1855 г. Гончаров послал Григорьеву отдельный оттиск главы «Из Якутска» из «Морского сборника» (см.: ИРЛИ, ф. 57, оп. 3, № 97, л. 4 об.).
С. 58. ...«на некое был послан послушанье...» — Строка из пушкинского «Бориса Годунова» (1825; сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).
С. 58. ...как Лир был король от головы до пят. — Имеются в виду следующие строки из акта IV, сцены 6 трагедии В. Шекспира «Король Лир» (1605): «Король! король от головы до ног!» (Шекспир В. Полн. собр. драматических произведений. СПб., 1865. Т. 1. С. 280;
- 812 -
пер. А. В. Дружинина). Кроме указанной книги в библиотеке Гончарова имелось еще два издания «Короля Лира»: перевод А. В. Дружинина, выпущенный отдельно (СПб., 1858), и перевод В. М. Лазаревского (СПб., 1865) (см.: Библиотека. С. 98).
С. 58. «Grattez un Russe, — говорит старый Наполеон, — et vous trouverez un Tartare»... — В различных источниках эта фраза приписывается либо императору Наполеону I Бонапарту (Napoleon; 1769—1821), либо французскому дипломату и политическому мыслителю Жозефу де Местру.
С. 59. Сибирь не видала крепостного права... — См. выше, с. 781, примеч. к с. 710.
С. 59. Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная с знаменитого Гагарина и кончая... не знаю кем. — Имеется в виду князь Матвей Петрович Гагарин (ум. 1721), иркутский (1691—1693) и нерчинский (1693—1695) воевода, первый губернатор Сибири (1708—1719), который был изобличен в хищениях и злоупотреблении властью и по приказу Петра I, отозвавшегося о нем как о «плуте и недобром человеке», повешен (подробнее см.: Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1993. Кн. 8. С. 474—476). Лихоимство Гагарина нашло отражение в народных песнях (см.: Русская историческая песня / Вступ. статья, сост. и примеч. Л. И. Емельянова. Л., 1987. С. 208 («Б-ка поэта»; Большая сер.); Собрание народных песен П. В. Киреевского. Л., 1977. Т. 1: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. С. 104—105). См. также выше, с. 766, примеч. к с. 680.
С. 59. ...«но мы истории не пишем...» — повторю вслед за нашим баснописцем. — Строка из басни И. А. Крылова «Волк и ягненок» (1808).
С. 60. ...и из гражданского губернатора Тулы призвал на пост генерал-губернатора Восточной Сибири. — Тульским военным и гражданским губернатором Муравьев был назначен в середине 1846 г., но уже 5 сентября следующего года последовал высочайший приказ о назначении его исправляющим должность иркутского и енисейского генерал-губернатора и командующего войсками, расположенными в Восточной Сибири; тогда же состоялся разговор Муравьева с проезжавшим через Тулу Николаем I, о чем он писал своему брату 9 сентября: «Государь <...> объявил мне об моем назначении и говорил об этом предмете много в самых лестных для меня выражениях <...> приказал мне приехать в Петербург, где даст мне подробные наставления, и простился. Не входя в подробности его разговора, скажу только, что он заставил меня прослезиться, и, покуда он говорил мне обо мне и Сибири, я не нашелся отвечать ему ничем, кроме слез» (цит. по: Барсуков 1891. Кн. 1. С. 167—168; см. также: Струве. С. 7—8).
С. 60. ...бороться ~ с графом Нессельроде, о котором он не мог говорить хладнокровно... — Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862), министр иностранных дел с 1816 по 1856 г., препятствовал попыткам Муравьева осваивать Амурский край, считая его бесполезным для России (подробнее см.: Струве. С. 8—9).
С. 61. «Вон у него книги ~ „Современник”, где я печатал свои труды». — К 1854 г. в «Современнике» были опубликованы «Обыкновенная история» (1847. № 3, 4), «Иван Савич Поджабрин» (1848. № 1), а также фельетоны.
- 813 -
С. 61. ...напоминал отчасти гоголевского Петуха... — Речь идет об одном из персонажей «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (том второй, глава III).
С. 61—62. ...архиепископу Иннокентию ~ кафедру московского митрополита. — Об Иннокентии подробнее см. выше, с. 753—754, примеч. к с. 632. Московским митрополитом Иннокентий стал в 1868 г.
С. 62. ...о которой теперь есть полная, прекрасная книга (Барсукова)... — Имеется в виду монография Ивана Платоновича Барсукова (1841—1906) «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников» (М., 1883).
С. 62. ...На Алеутских, островах жил с алеутами... — На острове Уналашке, одном из островов Алеутского архипелага, И. Е. Вениаминов прожил с 1824 по 1834 г.; за это время он на основе русского алфавита создал алеутскую письменность (прекратила существование в 1868 г. после перехода Алеутских островов во владение США), перевел на алеутский язык катехизис (1827; опубл.: СПб, 1840), Евангелие от Матфея (1828; опубл.: СПб., 1840), а также написал на алеутском языке брошюру «Указание пути в Царствие Небесное» (1833; в рус. пер. с 1839 по 1885 г. выдержала 46 изд.). См. также выше, с. 769, примеч. к с. 688.
С. 62. Он верхом первый открыл вместо Охотска Аян, более удобный пункт для переезда через прежнее Семигорье... — Здесь Гончаров неточен; см. выше, с. 753—754, примеч. к с. 632.
С. 63. Архиерей питал глубокое уважение и к московскому митрополиту Филарету... — Филарет (в миру — Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867), с 1826 г. митрополит Московский и Коломенский, был дружен с Иннокентием, в 1840 г. совершил его постриг; современники вспоминают, что Филарет «любил его душевно и говорил: „В этом человеке есть что-то апостольское”» (Щукин Н. С. Митрополит Иннокентий // Историческая библиотека. 1879. № 6/7. С. 22). Письма Иннокентия к Филарету с отчетами о своей миссионерской деятельности см. в кн.: Иннокентий. Письма; письма Филарета к Иннокентию см.: РА. 1881. Кн. 2. С. 24—31.
С. 63. Они не переставали титуловать друг друга — преосвященством и превосходительством. — Отношения Иннокентия и К. Н. Григорьева не были дружескими; так, последний писал об архиепископе М. С. Волконскому в августе 1855 г.: «...я от души любил и уважал его, — нет угождения, которого бы я не делал ему, сколько то согласно было с пользами службы, почтительное внимание к нему до того с моей стороны мелочно, что самого Дзаргугея, который привык к 10 т<ысячам> китайских церемоний, свело бы с ума, — ничто не помогает. Причина, впрочем, проста: у нас немного разнят взгляды на пользы края» (ИРЛИ, ф. 57, оп. 3, № 97, л. 4 об.).
С. 64. Павел Петрович — очевидно, П. П. Лейман (см. выше, с. 777, примеч. к с. 703).
С. 65. ...нельмовых пупков... — Нельма — рыба семейства сигов; нельмовый пупок — «тонкая и жирная полоса вдоль, снизу» (Даль. Т. 3. С. 538), непременно засоленная (см.: Булычев И. Путешествие по Восточной Сибири. СПб., 1856. Ч. 1. С. 172).
С. 66. Придет, бывало, еще и доктор Добротворский... — Врач Иван Васильевич Добротворский служил по Министерству внутренних
- 814 -
дел (см.: Российский медицинский список <...> на 1855 год. СПб., [б. г.]. С. 79). Однако не исключено, что Гончаров ошибочно назвал его вместо врача якутского земского суда Федора Михайловича Дубровского. Из якутских врачей Гончаров был знаком также с Иваном Федоровичем Лазаревым, о переводе которого из Якутска хлопотал перед Н. Н. Муравьевым и М. С. Волконским.
С. 68. ...уселись за бостон... — См. выше, с. 765, примеч. к с. 679.
С. 70. Мамура — красная морошка.
С. 70. ...привозил с собою молодого прокурора... — Имеется в виду исполняющий должность обер-прокурора коллежский секретарь Алексей Александрович Ган (см.: Адрес-календарь на 1855 г. СПб., 1854. Ч. 2. С. 201, а также: наст. т., раздел «Рукописные редакции и варианты», с. 360).
С. 70. Преосвященный любил рассказывать о приеме его государем... — 29 ноября 1840 г. И. Е. Вениаминов был пострижен в монахи с именем Иннокентия, а 30 ноября посвящен в архимандриты. В тот же день царем был утвержден проект восстановления Камчатской епархии, а на следующий день, 1 декабря, он пожелал встретиться с Иннокентием. Об этой встрече сохранился рассказ самого митрополита: «В исходе 11-го часа я прибыл <...> во дворец, с парадного крыльца, в сопровождении диакона, и прошел прямо в малую церковь. В начале 12 часа прибыли в церковь государь император и вся высочайшая фамилия. <...> Ровно в 12 часов объявляют мне, что государь просит меня. Я, взяв с собою образ Спасителя, пошел в кабинет его величества. Государь император, перекрестившись, поцеловал икону, принял ее и положил на стол. В это время я кое-как изъявлял благодарность его величеству за все его высочайшие милости. При первом взгляде моем на государя и свидании я не мог не сробеть. И кто не сробеет при нем! Но после того, ободренный его благосклонностию, я оправился и говорил свободно. Государь император начал разговор так: „Очень благодарю вас за то, что вы решаетесь отправиться в такую отдаленную страну, и за то, что вы там служили с такою пользою. Много ли вы там прожили лет?” — „Пятнадцать, ваше императорское величество”. — „Где вы получили образование?” — „В Иркутске, оттуда отправился и в Америку”. — „Как принимают веру нашу тамошние жители?” — „Те жители, у которых я был в первое время, очень хорошие христиане. Признаюсь откровенно вашему императорскому величеству, что я только там и узнал, что есть духовные утешения; другие, у которых мне удалось положить начало...”» (на этом текст обрывается; цит. по: Барсуков 1883. С. 121—122). Об окончании приема у императора есть свидетельство Н. С. Щукина, которому Иннокентий рассказал об этом; по его словам, государь сказал ему: «„Проект Камчатской епархии я утвердил; но кого назначить архиереем?” Архимандрит отвечал: „Дух Святый вложит в сердце вашего величества святую мысль избрания”. Государь, подумав несколько, сказал: „Я хочу сделать вас камчатским архиереем”. Архимандрит отвечал: „Я весь в повелениях вашего величества, — как вам угодно, то и свято для меня”. — „Хорошо. Передайте мои слова митрополиту”. Царь поклонился, и архимандрит вышел» (цит. по: Барсуков 1883. С. 122—123; см. также: Щукин Н. С. Митрополит Иннокентий. С. 17). Как вспоминает В. Б. Струве, «его величество однажды <...> изволил отозваться о преосвященном Иннокентии с особенною похвалою, прибавляя,
- 815 -
что „он незаменим в этом крае, что все его действия исполнены усердия к пользе церкви и отечества”» (Струве. С. 130).
С. 70. ...узнал о смерти своей жены... — Е. И. Вениаминова скончалась 24 ноября 1839 г.
С. 71. — На Курильских островах и церкви нет ~ Выстроят... — 1 декабря 1840 г. обер-прокурор Синода Н. А. Протасов вошел к царю с докладом о кандидатах на должность архиерея Камчатского. «Николай I, по прочтении представленного <...> доклада Св. Синода, соизволил высказать свое желание назначить на сию кафедру архимандрита Иннокентия <...> и при сем <...> соизволил приказать, чтобы епископ сей новой епархии именовался бы не „Североамериканским и Камчатским”, а „Камчатским, Курильским и Алеутским”. На это обер-прокурор возразил государю, что на Курильских островах нет ни одной церкви; государь сказал: „Построить”» (Барсуков 1883. С. 125—126; см. также с. 128—129). См. также указ «Об учреждении особой епархии из церквей в российско-американских поселениях и в других соседственных с ними областях находящихся» от 21 декабря 1840 г. (ПСЗ-2. Т. 15. Отд. I. С. 842).
С. 71. Я теперь забыл, была ли на этих островах выстроена церковь... — Первая курильская церковь была построена на острове Шумшу в 1840 г.
С. 71. Как-то ночью из острога отлучились арестанты ~ а с сторожившими их казаками. ~ был убит один якут. ~ Город всполошился ~ Всё общество разделилось на две партии: одна доказывала, что арестанты уходили из острога тайком ~ другая ~ стояла на том, что дело не обошлось без содействия и участия казаков. ~ архиерей поддерживал второе мнение. — Подробнее об этом пишет Иннокентий; так, в письме Н. Н. Муравьеву от 4 ноября 1854 г. он сообщает: «Якутску нашему угрожала большая опасность от арестантов, гулявших по городу всю осень, — они, говорят, хотели город с одного конца зажечь, а на другом делать, что им угодно» (Иннокентий. Письма. Кн. 1. С. 432). Об убийстве же якута он через две недели писал Н. Д. Свербееву: «Убийство совершившие открыты, только самый главный — Прокопьев казак — не сознается. <...> Общее желание всех — часть здешних казаков и их офицеров вывести и прислать на место их новых...» (Там же. С. 433).
С. 72. ...одного из тогдашних жителей Сибири, которого я иногда вижу и теперь... — Возможно, имеется в виду И. Ф. Лазарев (см. выше, с. 814, примеч. к с. 66), с которым Гончаров встречался в 1884 г. в Дуббельне; в письме к А. Ф. Кони от 14 (26) июня того же года он сообщает: «Я поджидаю в 20-х числах из Витебска лекаря Лазарева (он там помощник инспектора врачебной управы), которому предложил поселиться в одной из мансард моей дачи. Он добрый, хороший, философски образованный, но простой человек и любит много ходить. Мне будет с кем ходить по берегу и в лес».
С. 73. ...приехал в Иркутск ~ в самый праздник Рождества Христова. ~ через неделю опухоль значительно опала, и в первый день 1855 года я мог явиться к генерал-губернатору Восточной Сибири с поздравлением. — Гончаров писал К. Н. Григорьеву 31 декабря 1854 г., что приехал в Иркутск «24-го декабря ночью. Два дня я просидел дома, а 27-го выехал. В тот день я обедал у Николая Николаевича, а на другой день у К. К. Венцеля». 1 января
- 816 -
1855 г. Гончарова посетил С. Г. Волконский (см. ниже, с. 817—818, примеч. к с. 76).
С. 74. Олени не могут отрывать мох. ~ и дохнут во множестве. — Ср. ту же фразу во «Фрегате „Паллада”» (наст. изд., т. 2, с. 681).
С. 74. ...немедленно отправил офицеров: одного в Камчатку, снять там пост после геройского отбития англичан от этого полуострова, а другого в Аян, откуда не приходила почта. — В письме к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1855 г. Гончаров писал, что «задолго вперед до этого письма отправляются гг. Мартынов и князь Энгалычев курьерами, первый в Камчатку, второй в Аян...». Об обороне Петропавловска см. выше, с. 751—752, примеч. к с. 630.
С. 74. ...он старался удержать меня до какого-то бала, который должен быть у него в скором времени. — Упоминаемый бал должен был состояться 19 января 1855 г. (см. письмо Гончарова к Майковым от 13 января); 31 декабря 1854 г. Гончаров писал К. Н. Григорьеву: «Здесь все ожидают большого бала, который он <Муравьев> собирается дать».
С. 74. Подоспевший командир нашего фрегата успел-таки ~ уехать в Европейскую Россию ~ чтоб его письменные донесения пришли в Петербург прежде наших словесных объяснений. — Эта спешка объяснялась конфликтом, который случился между командиром «Паллады» И. С. Унковским и Муравьевым из-за того, что фрегат, вопреки приказу последнего, не смог войти в устье Амура. Как вспоминал современник, «все, что только в силах человеческих, было в этом отношении сделано, но <...> нельзя было протащить чрез 14-тифутовую глубину судно в 1800 тонн, сидевшее в воде 17 фут» (Линден. С. 114—115; подробнее о попытках завести «Палладу» в Амур см.: Там же. С. 112). Однако Муравьев счел (и написал об этом в Петербург), что «если „Паллада” не введена в Амур, то только вследствие нежелания адмирала (Путятина) и нерадения командира (Унковского) и офицеров»; его рапорт прибыл в Петербург раньше, чем приехал Унковский, и поэтому когда последний явился к морскому министру великому князю Константину Николаевичу, тот «принял его очень сухо и почти не желал с ним говорить» (Там же. С. 115). См. также ниже, с. 827—828; Невельской. С. 316—321; Энгельгардт. С. 247—249.
С. 75. ...это нам и в Индии надоело: там каждый день возили ананасы, как картофель, наладках... — К берегам Индии «Паллада» не подходила; очевидно, здесь Гончаров имеет в виду посещение Явы (см.: наст. изд., т. 2, с. 246); об ананасах он пишет также в главе «Сингапур»: «Я заглянул за борт: там целая флотилия лодок, нагруженных всякой всячиной, более всего фруктами. Ананасы лежали грудами, как у нас репа и картофель, — и какие! Я не думал, чтоб они достигали такой величины и красоты» (наст. изд., т. 2, с. 256).
С. 75. Жена Николая Николаевича, француженка... — В 1844 г., во время пребывания за границей, Муравьев познакомился с французской дворянкой де Ришмон (de Richemond) и полюбил ее; как только его служебное положение улучшилось, он письмом сделал ей предложение, которое было принято, после чего невеста приехала в Петербург, а затем в г. Богородицк Тульской губернии, где и был заключен брак, перед которым она перешла в православие, приняв имя Екатерина Николаевна. «По свидетельству знавших Екатерину Николаевну, она была чрезвычайно красива, умна и образованна.
- 817 -
Характера она была мягкого, ровного, добрая сердцем и отличалась любовью к своему новому отечеству. При безграничной любви к жене, Муравьев поддавался ее влиянию, не ослабевшему и в последние годы его жизни, и нельзя не сказать, что, при пылкости характера Муравьева, это влияние было всегда в своих результатах хорошим, подчас умиротворяющим» (Барсуков 1891. Кн. 1. С. 163). О Муравьевой Гончаров писал также, что она, «говоря о русских, говорит мы, то есть nous, а о французах еих, ils и с радостью предсказывает, что nous поколотим еих везде и всегда. Она любит не только Россию и русских, но Сибирь и Камчатку, куда ездила с мужем и верхом по горам и болотам, и морем, и в мае сбирается в те места вторично по Амуру на барке» (письмо Майковым от 13 января 1855 г.).
С. 75. ...чего сам Николай Николаевич не мог делать по своему положению. — Другие мемуаристы свидетельствуют, что Муравьев «тотчас же оценил этих редких людей, стал искать их дружбы, и они вскоре сделались частыми и почетными гостями в его доме; притом жена Муравьева была француженка, уроженка По, не говорившая по-русски, и для нее декабристы и их жены представляли в глухой Сибири как бы счастливый оазис, где она могла найти и язык, и нравы, и вкусы, напоминавшие ей далекую родину. Волконские и Трубецкие имели теперь в городе собственные дома и жили еще более свободно и открыто, так как Муравьев не стеснялся <...> бывать у них часто, а за начальством смело тянулось и все общество» (Белоголовый. С. 65; о фактах посещения Муравьевым декабристов см. также: Струве. С. 25—27; Волконский М. С. Послесловие издателя // Волконский С. Г. Записки. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1902. С. 495). Сохранилось 5 писем Муравьева к С. Г. Волконскому за 1857—1859 гг. (ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 220).
С. 76. ...по приглашению Свербеева... — Николай Дмитриевич Свербеев (1829—1860) — в 1854 г. секретарь по дипломатической части при генерал-губернаторе Восточной Сибири.
С. 76. ...у Волконских... — Имеются в виду Сергей Григорьевич (1788—1865) и Мария Николаевна (1805—1863) Волконские, жившие в Иркутске с 1845 г. В письмах к сыну Волконский сообщал: «... Гончаров приехал — болен — о тебе спрашивал — я его еще не видал — но сделаю ему первого визит» (28 декабря 1854 г.; ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 63, л. 75 об.); «...два дня назад приехал Гончаров и уезжает через 4—5 дней. Он попросил меня сказать тебе 1000 вещей, что он огорчен тем, что тебя не нашел, и что он сохранит о тебе дружеские воспоминания. Это умный человек, здешняя молодежь радостно его приветствует, но это его не заботит» (2 января 1855 г.; ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 64, л. 1 об. — 2; подлинник по-французски); «... Гончаров <...> приятн<ый> человек и очень умный. Он очень сожалеет, что тебя не застал, — он мне сказал, что, может, сюда вернется — хорошее бы приобретение...» (15 января 1855 г.; ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 64, л. 11 об. — 12). В таком же тоне писала сыну о Гончарове и М. Н. Волконская: «Гончаров здесь, он приезжал меня повидать один раз, я уговорила его прийти пообедать, но пока что он не приходил. Надеюсь, что сегодня он не будет есть наш суп, потому что наш повар мертвецки пьян. Гончаров мне много говорил о тебе, выражая сожаление о том, что он тебя не нашел здесь. Он должен уехать на днях» (8 января 1855 г.; ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 278, л. 8 об.; подлинник
- 818 -
по-французски); «Г-н Гончаров говорит только о тебе, наверное, ты ему понравился, я послала тебе его письмо. <...> Гончаров приходил только два раза, для знакомства и чтобы попрощаться. Папа только что вернулся, он видел Гончарова, который дал ему понять, что, возможно, вернется сюда, чтобы участвовать в экспедиции (по Амуру. — Ред.)» (15 января 1855 г.; ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 278, л. 16—17; подлинник по-французски). О посещении Волконских Гончаров писал М. С. Волконскому 13 января 1855 г.: «Я в большом горе, почтеннейший Михайло Сергеевич, что не имел удовольствия застать Вас в Иркутске. Несмотря на то, я взял смелость представиться Вашему семейству, которым был принят весьма любезно и внимательно. К сожалению, недостаток времени, а еще более совестливость помешали мне пользоваться приятным приглашением Вашего семейства бывать в нем чаще. При Вас я бы считал себя более вправе на то, а без Вас совестился беспокоить членов Вашего дома своим появлением. Оправдайте меня перед ними». См. также: Волконский М. Декабрист С. Г. Волконский в Иркутске // Ангара. 1961. № 1 (50). С. 94—103.
С. 76. ...у Трубецких... — Единственный день, когда Гончаров мог посетить Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860) и его семью — 14 января, так как они приехали из Кяхты либо 13 вечером, либо 14 утром (13 января С. Г. Волконский писал И. И. Пущину, что они «еще не приехали из Кяхты, но ждем с часу на час» — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1961. Вып. 24. С. 385), а Гончаров покинул Иркутск рано утром 15 января. Документальных свидетельств о знакомстве Гончарова с С. П. Трубецким нет.
С. 76. ...у Якушкина... — Иван Дмитриевич Якушкин (1793—1857) жил на поселении в Ялуторовске; с августа 1854 г. до лета 1855 г. находился на лечении в Иркутске. 3 января 1855 г. Якушкин писал своему сыну В. И. Якушкину: «Очень жаль, что ты теперь не в Иркутске и не увидишься с Гончаровым; он был у меня и просил передать тебе его сожаление, что он не застал тебя здесь, и говорил мне с таким дружеским чувством о тебе, что я с первого раза полюбил его» (Якушкин. С. 414); в письме к И. И. Пущину от 15—16 января он рекомендует ему встретиться с Гончаровым, называя того «славным малым» и «большим чудаком» (Там же. С. 416, 417). В ответном письме от 7 марта 1855 г. Пущин сообщал: «Гончарова не видать и, без сомнения, уже не будет. Жаль, мне хотелось на него взглянуть» (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 309).
С. 76. ...и других. — В начале 1855 г. в Иркутске и окрестных селах кроме Волконского, Трубецкого, Поджио и Якушкина жили М. К. Кюхельбекер, А. В. Веденяпин, Н. А. Бестужев и В. А. Бечаснов.
С. 76. ...такая женщина могла дать тонкое воспитание своим детям. — С 8 до 10 лет младший Волконский был учеником М. С. Лунина; затем до переезда Волконских в Иркутск и поступления в местную гимназию в 1846 г. его воспитанием занимался ссыльный поляк Ю. Сабинский, «отлично владевший французским языком и отдававший Мише все свое время без малейшего вознаграждения», а уже в Иркутске сильное влияние на него имел Н. Н. Муравьев, который в нем «развил душевные способности для
- 819 -
служения <...> родине и направлял <...> на пути терпения и умственной работы» (Волконская М. Н. Записки. 2-е изд. СПб., 1906. С. 110).
С. 76. Я тогда не застал уже в Иркутске молодого князя М. С. Волконского (ныне обер-гофмейстера и товарища министра просвещения) — Я встретил его ~ на крайнем Западе, именно в Вильдбаде, когда он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца. — О М. С. Волконском см. выше, с. 755, примеч. к с. 635. Вскоре после его прибытия в Иркутск на него были «возложены <...> выбор 50 семейств для устройства на устьях р. Амура первых крестьянских поселений и все распоряжения по снабжению этих переселенцев всем необходимым для поселения на новых местах»; кроме того, ему было «поручено снабжение Амурской экспедиции 1855 г. всеми заготовлениями» (Формулярный список М. С. Волконского // ИРЛИ, ф. 57, оп. 3, № 16, л. 12). Встреча Гончарова с М. С. Волконским и его отцом в Вильдбаде произошла 21 июля (2 августа) 1864 г.; в тот же день Волконский подарил Гончарову переведенную им книгу «Устав гражданского судопроизводства Итальянского королевства» (СПб., 1863) с надписью: «Ивану Александровичу Гончарову в память встречи нашей на берегу Охотского моря и наших прогулок по Шварцвальду от М. Волконского. 2 августа 1864» (Летопись. С. 139; Библиотека. С. 94). Княжеский титул был дарован М. С. Волконскому (как сыну бывшего князя) 30 августа 1856 г. Обер-гофмейстер — придворный чин второго класса (соответствовал чину действительного тайного советника).
С. 76. Другой княгини декабристки я не застал уже в живых; см. также с. 78: ...Трубецкой ~ я уже не застал в живых. — Екатерина Ивановна Трубецкая (1800—1854) скончалась 14 октября «после продолжительных страданий от внутреннего рака, оставив самую теплую память по себе не только в семье, но и среди всех, имевших случай знать эту умную и необыкновенно кроткую женщину» (Белоголовый. С. 71).
С. 76. ...и недавно женившимся Поджио. — Александр Викторович Поджио (1798—1873) женился в 1851 г. на классной даме Иркутского девичьего института Ларисе Андреевне Смирновой (1823—1892), «урожденной москвичке и без всякого состояния, но чрезвычайно доброй, и эта доброта и большой здравый смысл сглаживали разницу, которая была заметна в образовании, вкусах и самых натурах обоих супругов, и сделала брак этот счастливым» (Белоголовый. С. 66). 22 октября 1854 г. у Поджио родилась дочь Варвара.
С. 76. Между тем тот же князь декабрист Волконский ~ перебранивался со ссыльными на поселение или просто с жителями. — Н. А. Белоголовый вспоминал, что, попав в Сибирь, Волконский «как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. <...> Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. <...> В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами» (Белоголовый. С. 32—33).
- 820 -
С. 76. Он наделил меня письмами в Москву и Петербург... — Волконский передал с Гончаровым два письма: Е. С. Молчановой (дочери) и А. П. Дурново (племяннице). В первом письме Волконский так отзывался о Гончарове: «Гончаров, сочинитель повести „Обыкновенная история” <...> — человек весьма умный и завлекательного разговора, к чему в помощь кругосветное плавание и переговоры с японцами...» (цит. по: Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., 1966. С. 27).
С. 76—77. Говорят ~ какой-то чиновник ~ Представляя свои донесения императору, он ~ сказал, что Н. Н. Муравьев, где встретит, очень ласково обращается с ~ декабристами ~ Император будто бы выслушал чиновника и заметил: «Стало быть, Муравьев понял, чего я хотел». Но это я привожу в виде анекдота, не ручаясь за правду его. — Гончаров вспоминает действительный эпизод. В начале 1848 г. произошел конфликт между Муравьевым и иркутским гражданским губернатором А. В. Пятницким: ознакомившись с деятельностью Пятницкого в Главном управлении Восточной Сибири и узнав о его многочисленных злоупотреблениях, Муравьев предложил ему подать прошение об увольнении от должности. В ответ на это Пятницкий отправил в Петербург донос, где, в частности, указывал на связь Муравьева и его ближайшего окружения со ссыльными декабристами. По высочайшему повелению донос этот был прислан Муравьеву для объяснений; последний ответил, «что он убежден, что так называемые декабристы теперь <...> искупив заблуждения своей юности тяжелою карою, принадлежат к числу лучших подданных русского царя; что никакое наказание не должно быть пожизненным, так как цель наказания есть исправление, а это вполне достигнуто по отношению к декабристам, и что нет основания оставлять их изверженными навсегда из общества, в составе которого они имеют право числиться по своему образованию, своим нравственным качествам и теперешним политическим убеждениям» (Струве. С. 27—28). Николай I на объяснении написал: «Благодарю» — и при этом сказал: «Нашелся человек, который понял меня, понял, что я не ищу личной мести этим людям, а исполняю только государственную необходимость и, удалив преступников отсюда, вовсе не хочу отравлять их участь там» (цит. по: Барсуков 1891. Кн. 1. С. 188); Пятницкий был уволен. Об этой истории вспоминают и другие мемуаристы; см., например: Венюков. С. 204; Вагин В. И. Сороковые года в Иркутске // Записки иркутских жителей. С. 480; Линден. С. 122—123. Об отношении Муравьева к декабристам см. также: Барсуков 1891. Кн. 2. С. 61—62.
С. 77—78. ...речь зашла ~ между прочим о Петрашевском. ~ Так, кажется, Муравьев и поступал со всеми ссыльными. — Об эксцентричном характере Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821—1866) говорили многие современники (сводку мнений см.: Семевский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Ч. 1. С. 85—88); в ссылке Петрашевский не изменил образа поведения, и, по словам Б. В. Струве, «оказался таким же, каким я его знал в Петербурге, т. е. человеком крайне неделикатным, тщеславным, желающим только везде играть роль, чтобы на него указывали, не имеющим в существе никакой серьезной цели. Начальник Шилкинского Завода делал содержавшимся у него в заключении Буташевичу-Петрашевскому и другим всякого рода
- 821 -
облегчения в их участи. Бестактность и недостаток деликатности со стороны Буташевича в пользовании этим снисхождением дали повод, что на это было обращено внимание высшего правительства в столице, вследствие чего последовало распоряжение о недопущении подобного послабления, которое имело вид глумления над строгостью закона» (Струве. С. 110). Отношения Муравьева и Петрашевского наладились позднее; М. И. Венюков вспоминает, что в конце 1850-х гг. «все наличные петрашевцы <...> — Петрашевский, Спешнев, Львов, были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не смели сказать другие <...>. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом Корсаков» (Венюков. С. 274; о повторной ссылке Петрашевского подробнее см.: Литературное наследство. М., 1956. Т. 63. С. 228—239; по свидетельству Н. А. Белоголового (см.: Белоголовый. С. 533), Петрашевского сослал именно Муравьев); о внимании Муравьева к ссыльным петрашевцам см. также: Фролов А. В. Воспоминания // РС. 1882. № 5. С. 475.
С. 78. ...одна за москвича Свербеева... — Речь идет о Зинаиде Сергеевне Трубецкой (1837—1924), будущей жене Н. Д. Свербеева (о нем см. выше, с. 817, примеч. к с. 76); их свадьба состоялась 30 апреля 1856 г. См. также: Якушкин. С. 395.
С. 78. ...другая за моего петербургского приятеля ~ Ребиндера... — Речь идет об Александре Сергеевне Трубецкой (1830—1860), вышедшей в 1854 г. замуж за генерала Николая Романовича Ребиндера (1820—1865), в то время кяхтинского градоначальника; С. Г. Волконский писал в июне 1854 г., что она «далеко от семейного счастия» (Летописи Государственного Литературного музея. М., 1938. Кн. 3. С. 92). «Мне жена Ребиндера очень понравилась, — сообщал В. П. Боткин брату Дмитрию 21 февраля 1855 г. — Хотя она и совсем собой нехороша — но в ней есть много симпатичного и нравственно-привлекательного» (цит. по: Рабкина Н. А. Гончаров и декабристы // Вопросы литературы. 1989. № 3. С. 251).
С. 78. Вдруг явилась там княгиня Волконская, супруга фельдмаршала, князя П. М. Волконского. ~ просто повидаться со своим родным братом С. Г. Волконским. — София Григорьевна Волконская (1785—1868) — вдова министра императорского двора и уделов Петра Михайловича Волконского (1776—1852); по словам Н. А. Белоголового, «она очень любила брата, и когда со смертью мужа с нее спали оковы и стеснения придворной жизни, то ничто ее не могло удержать от поездки в Иркутск на свидание с братом после 30-летней разлуки — ни неудовольствие императора, ни трудность пути, и она пустилась в далекое путешествие <...> это была очень оригинальная старушка, весьма живая и подвижная, и, несмотря на свои чуть ли не 70 лет, она, добравшись до Иркутска, и здесь не оставалась спокойно на месте, а разъезжала беспрестанно <...> и с замечательною любознательностью интересовалась всеми особенностями края» (Белоголовый. С. 71). При этом все же у нее «была отобрана подписка о том, что она не будет входить ни с кем в переписку, не соответствующую обстоятельствам, а при
- 822 -
возвращении не примет ни от кого писем и вообще будет поступать с тою осторожностью, которой требует положение ее брата в Сибири» (Волконский М. С. Послесловие издателя. С. 495—496). С. Г. Волконский писал И. И. Пущину 28 июня 1854 г. о предстоящей встрече с сестрой: «Ты можешь вообразить, друг мой, всю радость етого для меня свидания. Нету слов, чтоб достаточно возблагодарить Бога и ее за ето неоцененное для меня пожертвование, и по трудности пути и по разлуке с ее семейством. Вить ей 68 лет от роду — и она полуслепая» (Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3. С. 92), а по ее приезде писал ему же 26 июля: «Нечего тебе описывать обоюдную нашу радость, слезы, спросы и чувство моей признательности к ней за отважное ее предприятие по ее летам, к Провидению, дозволившему ей исполнить обет сердца. Она приехала ко мне 23-го июля 1854 года, последний же раз видались с ней 23-го июля 1826 — ровно после 28-летней разлуки, не изменившей ни наши убеждения, ни нашу обоюдную дружбу» (Там же. С. 94). И. И. Пущин, у которого она побывала по пути в Иркутск, так отзывался о ней: «Добрая женщина, без всяких вычур. Появление ее — отрадная страничка в наших памятных тетрадках» (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. С. 296). Из Иркутска Волконская уехала в июле 1855 г. (см.: Иркутская летопись: (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова). Иркутск, 1911. С. 353).
С. 78. ...с гражданским губернатором, военным генералом Венцелем, которого мне очень хвалили все ~ за его мягкость, гуманность... — Генерал-лейтенант Карл Карлович (Карл Бургард) фон Венцель (1797—1874) — иркутский гражданский губернатор в 1850-х гг.; по отзыву Н. Н. Муравьева, «благородный человек» (РС. 1883. № 6. С. 637). Ср. отзыв другого современника: «Добрейший Карл Карлович <...> был совершеннейший ноль, несмотря на то что фигура его напоминала худощавую единицу. Вся цель его жизни, — если только она имелась, — состояла в том, чтобы не сделать никому зла, но и это ему не удавалось. <...> По какому-то инстинкту он догадывался, что народу тем хуже, чем больше бумаг выходит из губернаторских и всяких других канцелярий, а потому вечно ратовал против большего числа и особенно многоречия разных „входящих и исходящих номеров”. Это была бы очень хорошая точка зрения, если бы он умел сознательно держаться на ней; но, к сожалению, этого не было, и в результате получалась одна административная бестолочь» (Венюков. С. 264—265).
С. 78. ...с инженером Клейменовым... — Василий Васильевич Клейменов «был горный инженер-полковник, ревизор енисейской золотоносной системы, куда и ездил каждое лето собирать золотую жатву. Так как на приисках у него бывало по 20000 рабочих, то он, сверх жалованья, получал по крайней мере 20000 рублей оброка, или подушной подати, с владельцев приисков. Таков уже был обычай, терпимый даже Муравьевым, который не хотел ссориться с горными инженерами, чтобы не наживать врагов в Министерстве финансов. Благодаря этим доходам Клейменов мог свободно следовать своим природным наклонностям хлебосола; и как в лизоблюдах и прихлебателях недостатка нигде и никогда не бывает, то в доме его <...> всегда были гости. Тут собирались новости, рассказывались анекдоты, происходили толки о том о сем
- 823 -
и шла игра в карты. <...> Старик В. В. Клейменов был неистощим в рассказах, которым умел придавать довольно забавную форму; да и видал он на своем веку немало, от Тифлиса до Иркутска и Петербурга. <...> человеку, желавшему пользоваться этим „салоном” для приобретения сколько-нибудь дельных сведений о крае и его деятелях, было в нем скучновато» (Венюков. С. 271). И. Д. Якушкин писал сыну 3 января 1855 г., что «накануне Нового года у Клейменова был вечер» (Якушкин. С. 415); возможно, Гончаров присутствовал на нем.
С. 78. ...из которых один, его родной племянник, был потом сам генерал-губернатором Восточной Сибири... — Имеется в виду Михаил Семенович Корсаков (Карсаков; 1826—1871), в 1854 г. чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Близко знавший его современник оставил о нем такой отзыв: «...Корсаков хотя и отличался бескорыстием и усердием к службе и не был интриганом, но никогда не мог стать в уровень с тем положением, на которое его выдвинули судьба и родство. Он был слишком мало образован для этого. <...> Забайкальскою областию он управлял плохо, хотя был лично честен и плутов не жаловал... когда успевал их поймать, что случалось очень редко. Его многие любили как „доброго малого”, пожалуй, хорошего товарища и обходительного начальника; но уважать как руководителя государственной деятельности в стране его было нельзя» (Венюков. С. 265—266).
С. 78—79. Брат мой был женат, сестры были замужем, одна из них вдова. — Речь идет о Н. А. Гончарове, А. А. Музалевской и А. А. Кирмаловой, муж которой, М. М. Кирмалов, был убит крепостными крестьянами в 1850 г.
С. 79. ...14 января 1855 года я покинул Иркутск... — Гончаров выехал из Иркутска 15 января (см. его письма к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1854 г. и Майковым от 13 января 1855 г., а также письмо С. Г. Волконского к М. С. Волконскому от 15 января, где он пишет: «Нонче уезжает Гончаров в Россию, был у нас довольно рано утром — дал ему два письма: одно к Нелли, другое к Дурновой...» — ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 64, л. 11 об.).
ПРЕДИСЛОВИЯ
<ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
ОЧЕРКА «ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА»>(Т. 3, с. 80)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: ОЗ. 1855. № 4. Отд. I. С. 239—240.
В собрание сочинений включается впервые. Печатается по тексту первой публикации, единственному источнику текста.
Предисловие предваряет серию публикаций «очерков» («глав»), или «отрывков» из «дневника» или «журнала путешествия» (так Гончаров на этой стадии определял жанр будущей книги), последовавших в течение 1855—1857 гг. (подробнее см. выше, с. 448—449).
- 824 -
<ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
«ФРЕГАТА „ПАЛЛАДА”»>(Т. 3, с. 81)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: 1879. Т. 1. С. III—VI.
В собрание сочинений впервые включено: 1884. Т. IV.
Печатается по тексту: 1886. Т. VII. С. IX—XII.
Предисловие было предпослано третьему отдельному изданию книги «Фрегат „Паллада”», вышедшему в свет в 1879 г. (об этом издании подробнее см. выше, с. 458—466).
С. 81. ...вновь являющейся после долгого промежутка, книги... — Предыдущее издание «Фрегата „Паллада”» вышло 17 лет назад, в 1862 г.
С. 82. ...в литературном сборнике «Складчина» в 1874 году... — О сборнике «Складчина» и очерке «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» подробнее см. выше, с. 801—803.
С. 83. ...без малого столетие... — Свое столетие фирма Глазуновых отметила в 1903 г.
С. 83. ...известный русский художник... — Издание сопровождалось портретом, выполненным гравером Иваном Петровичем Пожалостиным (1873—1909) с фотографии К. И. Бергамаско, снятой в 1873 г. (воспроизведен в наст. т.). Первоначально Гончаров предполагал поместить в издании другой портрет. В письме к Е. А. Никитенко от 18 августа 1878 г. он писал: «Глазунов хочет приложить к изданию мой портрет, гравированный на стали. Это, конечно, его мысль, а не моя. Он просит только указать ему — какой есть самый лучший мой портрет. Лучше портретов И. Н. Крамского нет; но большой, масляными красками, находится в Москве, в галерее Третьякова. А другой, его же работы, карандашом, остался у Софьи Алекс<андровны>, следовательно, у Вас в доме. Просьба моя: одолжить этот портрет на некоторое время мне, чтобы художник мог срисовать с него копию в уменьшенном размере для приложения к книге».
С. 83. ...портрет покойного поэта Некрасова. — Н. А. Некрасов умер 27 декабря 1877 г. В 1878 г. Пожалостин выгравировал его портрет (с портрета И. Н. Крамского 1877 г.); в этом же году он был приложен к январскому номеру «Отечественных записок», где был помещен некролог поэта (номер вышел в свет 25 января).
ПРИЛОЖЕНИЯ.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЭКСПЕДИЦИИ
№ 1—24
(Т. 3, с. 87—137)
Автографы неизвестны.
Публикуются и в собрание сочинений включаются впервые. Печатаются по писарским копиям: АВПР, л. 16—17 (№ 1), 18—18 об. (№ 2), 1 об. — 5 об. (№ 3), 35—36 об. (№ 4), 36 об.
- 825 -
(№ 5), 22 об. — 23 об. (№ 6), 24—25 (№ 7), 26—27 (№ 8), 27 (№ 9), 32 об. — 33 (№ 10), 57 (№ 11), 11—15 об. (№ 12), 34—42 об. (№ 13), 30—31 об. (№ 14), 32 (№ 15), 33—34 (№ 16), 62 (№ 17), 90—92 (№ 18), 190 об. — 194 (№ 19), 210—214 (№ 20), 98—106 (№ 21), 152—160 (№ 22), 266—268 (№ 23), 269—269 об. (№ 24).
«Паллада» отправилась в поход 7 октября 1852 г., но к исполнению своих секретарских обязанностей Гончаров приступил почти месяц спустя — по той причине, что Е. В. Путятин, который находился в Англии по делам, связанным с экспедицией, прибыл на фрегат лишь в Портсмуте 2 (14) ноября. К этому же времени относится и первая написанная Гончаровым официальная бумага. Об этом он рассказывает в письме к Е. А. и М. А. Языковым от 3—4 (15—16) ноября 1852 г.: «Наш адмирал тотчас же явился из Лондона в Портсмут, осмотрел и фрегат и нас, велел мне написать бумагу...». Каким было содержание этой бумаги или, вернее, нескольких бумаг, известно из очерка «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и эпилога «Через двадцать лет»: «Он <адмирал> сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург, между прочим изложить кратко историю нашего плавания до Англии и вместе о том, как мы „приткнулись” к мели, и о необходимости ввести фрегат в Портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату тогда еще нового водоопреснительного парового аппарата» (наст. т., с. 36; наст. изд., т. 2, с. 721).
В качестве образца Путятин показал Гончарову написанные им самим подобные бумаги, заставившие начинающего секретаря испытать настоящий страх («Мне стало жутко. Но это было только начало страха. <...> Самое худшее было впереди <...>. <...> „Боже мой, да я ничего не понимаю! — думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге, — хоть убей, ничего! Зачем я поехал!”» — наст. т., с. 36—37; наст. изд., т. 2, с. 722). Тем не менее и первые, и последующие бумаги были написаны: «Не помню, как я разделался с первым рапортом: вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом — и бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком...» (наст. т., с. 38; наст. изд., т. 2, с. 723).
Кроме составления отчетов и донесений от имени Путятина1 императору, Морскому министерству и главе Азиатского департамента Л. Г. Сенявину Гончарову предстояло «излагать на бумагу переговоры с японцами» (наст. т., с. 36; наст. изд., т. 2, с. 722) и вести дипломатическую переписку. Тотчас по написании и просмотре Путятиным бумаги поступали к судовому писарю. Гончаров упоминает об этом в очерке «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и эпилоге книги-путешествия «Через двадцать лет» («...а учитель, как теперь адмирал, торопит <...> „Скоро ли? готово ли? Покажите, — говорит, — мне, прежде нежели дадите переписывать...”» — наст. т., с. 37; наст. изд., т. 2, с. 722), а также в главе «Шанхай» «Фрегата „Паллада”» («Наконец я быстро собрался, позвал
- 826 -
писаря нашего <...> для переписки бумаг...» — наст. изд., т. 2, с. 441). К Гончарову бумаги более не возвращались — не столько потому, что писатель и сам эти рукописи не хранил бы, сколько, вероятно, из-за официального, «казенного», а зачастую и секретного их характера. Писались же документы на основании событий и фактов, изложенных Гончаровым в «общем», или «казенном», журнале, в который он должен был вносить все увиденное.1 Велся этот журнал очень неравномерно: ближе к концу плавания, в связи с усиленной работой над очерками для будущей книги и нарастанием объема разного рода бумаг, «должностной труд» по журналу стал тяготить Гончарова. «Адмирал несколько сердится на меня, что официальный журнал остановился и нейдет вперед, — пишет Гончаров Е. А. и М. А. Языковым 13 (25) марта 1854 г. — Да как ему идти? Мне никто не помогает: специальных ученых у нас нет, а записывать происшествия нашего плавания так, как они есть, не стоит, выходит пусто; о морском деле я писать не могу. Да и некогда было: в Японии было много бумаг, много прямого дела».2
Цитируемые строки являются прямым подтверждением принадлежности публикуемых документов Гончарову. К тому же связь этих документов с книгой «Фрегат „Паллада”» очевидна — это не только переклички в содержании, но и прямые указания в тексте книги: «Мне поручено составить проект церемониала...»; «У меня бумага о церемониале была готова...» (наст. изд., т. 2, с. 340; ср.: наст. т., с. 96—98, № 6).3 В пользу атрибуции бумаг Гончарову говорит и сопоставление его свидетельств в письмах и в тексте книги с датами на документах: «...два часа ночи <...> пишу бумаги...» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 15 (27) сентября 1853 г.) — и «17-го <сентября>. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург...» (наст. изд., т. 2, с. 367). Действительно, К середине сентября относится значительное количество документов (№ 10—13).
- 827 -
№ 25
(Т. 3, с. 137)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано (не полностью) В. И. Мельником: Дальний Восток. 1987. № 6. С. 146—147.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по писарской копии: РГА ВМФ, ф. 296, оп. 1, № 75, л. 281.
Авторство Гончарова устанавливается на основании его собственного признания: «...два года плавания <...> утолили вполне мою жажду путешествия. <...> и ни одну бумагу в качестве секретаря не писал так усердно, как предписание себе самому, от имени адмирала, „следовать до С.-Петербурга”...» (наст. изд., т. 2, с. 714).
№ 26
(Т. 3, с. 138)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: МСб. 1856. № 1. Янв. Ч. III. С. 132—162, с подзаголовком: «(Составлено из официальных донесений)»; перепечатано: Обзор. Т. 1. С. 21—46, с незначительными изменениями и следующим продолжением: «Между тем 28 октября 1853 года последовало распоряжение Его императорского высочества генерал-адмирала, чтобы по прибытии фрегата „Паллада” к берегам Сибири назначить комиссию для подробного освидетельствования, в каком состоянии находится это судно и благонадежно ли к обратному плаванию в Кронштадт, а также доставить соображения о пользе, которую можно бы извлечь из этого судна, если бы последовало разрешение оставить его при сибирской флотилии.
На этом основании фрегат был освидетельствован, по приходе в Татарский пролив, особою комиссиею, которая нашла, что для плавания в море фрегат требует ввода в док, тщательного осмотра и капитальных исправлений.
Генерал Муравьев по этому поводу и по случаю прибытия в распоряжение генерал-адъютанта Путятина фрегата „Диана” предписал флигель-адъютанту Унковскому ввести вверенный ему фрегат в р. Амур, где и остаться на зимовку. Но при всем старании не могли ввести фрегат в Амур, по причине мелководий бара реки. Неблагоприятные обстоятельства, сопровождавшие проводку фрегата в Амур, заставили вице-адмирала Путятина составить особую комиссию для рассмотрения возможности провести его в Амур. Комиссия, состоявшая из капитана первого ранга Унковского, капитана второго ранга Посьета, капитан-лейтенанта Лесовского и капитана Хализова, нашла, что успех проводки весьма сомнителен, в особенности же в бывшее в то время позднее осеннее время.
На этом основании „Паллада” была выведена из лимана и отправлена в Императорскую гавань, где и оставлена на зимовку при одном офицере с несколькими человеками нижних чинов.
Контр-адмирал Завойко, опасаясь, чтобы весною 1856 года фрегат не достался в руки неприятеля, командировал туда зимою на собаках мичмана Разградского с поручением затопить фрегат и вывезти оттуда офицера и команду, что им и было исполнено».
- 828 -
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется ноябрем — серединой декабря 1855 г. на следующих основаниях: Путятин вернулся в Петербург в начале ноября 1855 г. (о прибытии его в Москву 29 октября 1855 г. см.: наст. т., с. 223) и, скорее всего, до середины декабря передал отчет в редакцию «Морского сборника».
Публикуемый текст представляет собой часть общего отчета, которая касается только «Фрегата „Паллада”».1 Отчет атрибутирован Гончарову А. Д. Алексеевым (см.: Алексеев А. Д. И. А. Гончаров — автор официального «Отчета о плавании фрегата „Паллада”» // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969. С. 370—375).
Отчет обнаруживает фрагментарное текстуальное сходство с опубликованными без подписи в «Морском сборнике» материалами: «О плавании фрегата „Паллада” из Англии к мысу Доброй Надежды» (МСб. 1853. № 6. Ч. I. С. 494—499); «О плавании фрегата „Паллада” и шкуны „Восток”» (МСб. 1853. № 9. Ч. IV. С. 6—7); «Известия из Нагасаки. 21 августа (2 сентября) 1853 года» (МСб. 1853. № 12. Ч. офиц. С. 168—171) — и с письмами и рапортами № 4, 13, 21 (см.: наст. т., с. 91, 108, 125).
№ 27
(Т. 3, с. 162)
Автограф неизвестен. Писарская копия: АВПР, л. 338—413, с пометой: «С подлинным верно: граф Путятин» — и датой: «29 марта 1856».
Впервые опубликовано: МСб. 1856. № 10. Авг. Ч. I. С. 22—105, с датой перед текстом: «Август 1856 г.».
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по тексту первой публикации со сверкой по копии.
Датируется ноябрем 1855 — мартом 1856 г.
В начале ноября 1855 г. Е. В. Путятин обратился к Гончарову с поручением составить «отчет государю об экспедиции».2 В середине месяца по ходатайству адмирала перед министром финансов П. Ф. Броком Гончаров на два месяца был освобожден от службы для выполнения задания адмирала.3 Скорее всего, отчет был им
- 829 -
составлен в середине декабря. Подтверждением этому служит факт обращения П. Ф. Брока 16 декабря к государю «со всеподданнейшим докладом о награждении Гончарова, вне правил, чином статского советника за особые заслуги его по званию секретаря при генерал-адъютанте графе Путятине»,1 а также свидетельство самого Гончарова, который в письме к Е. В. Толстой от 31 декабря 1855 г. говорит: «А романа («Обломов») нет как нет: есть донесение об экспедиции...».
Очевидно, представленный Путятину отчет был им отредактирован, оформлен по правилам документа, адресованного императору, и вручен Александру II, вероятно, в конце марта 1856 г., что подтверждается проставленной на копии датой: «29 марта 1856» (см. выше).
В отличие от предыдущего отчета, начинающегося с поименного перечисления членов экипажа (кроме названных общим числом 340 «строевых чинов» и 37 «нестроевых») и содержащего обильные вкрапления из шканечного журнала (характеристики ветров, скорости передвижения, уровня воды в нижних палубах, сообщения о числе заболевших и умерших, объяснения по поводу всякого рода поломок и исправлений и т. д. и т. п.), комментируемый документ после четырех абзацев, носящих протокольный характер, погружает читателя в повествование о плавании, которое уже на Балтике «сопровождалось бурною погодою и другими неблагоприятными обстоятельствами...» (наст. т., с. 161). Отмечена «туманная и дождливая погода» (там же) в Зунде, а потом, после рассказа о техническом состоянии «Паллады», потребовавшем введения судна в док и ремонта, начинается чисто гончаровское повествование, в котором то и дело обнаруживаются переклички с уже опубликованными к тому времени главами «Фрегата „Паллада”». Таково, например, описание Порто-Прайя на острове Сант-Яго («Если бы в нашем распоряжении было и более свободного времени, то печальный вид острова, состоящего из массы скал вулканического происхождения, в беспорядке брошенных в кучу, палимых солнцем и лишенных растительности, бедность города и черных жителей вселяли мало охоты продлить там пребывание. Однодневной прогулки по острову и посещения редких цветущих оазисов с лесом пальм, апельсинных и других деревьев было слишком достаточно, чтобы развлечь плавателей новостью и оригинальностью предметов, не виданных на севере», — там же, с. 165) или «дальнейшего плавания по Атлантическому океану» («Прекрасный колорит неба и воды, свежий воздух и ясные, тихие, один на другой похожие дни и великолепные ночи — всё это поддерживало в офицерах и нижних чинах бодрость, веселое состояние духа и охоту к дальнейшему пути» — там же).
Публикуемый отчет был просмотрен и редактором «Морского сборника» М. Рейнеке; начальными буквами его имени и фамилии подписаны две сноски к тексту документа (там же, с. 195, 197). Неоднократные ссылки на опубликованные очерки Гончарова и статьи и заметки других участников экспедиции носят не столько библиографический, сколько уточняющий или дополняющий характер и принадлежат, скорее всего, самому писателю.
СноскиСноски к стр. 395
1 Здесь и далее указываются страницы и строки т. 2 наст. изд.
Сноски к стр. 398
1 В этот день последовало распоряжение командировать Гончарова «к исправлению должности секретаря при отправлявшемся в экспедицию для обозрения колоний наших генерал-адъютанте, вице-адмирале графе Путятине» (РГИА, ф. 1284, оп. 66, № 49, л. 29—37; РГАЛИ, ф. 135, № 13, л. 5 об.).
2 В секретной инструкции управляющего Морским министерством великого князя Константина Николаевича от 16 октября 1853 г., в частности, говорилось: «Настоящая цель этой экспедиции должна быть сохранена в строгой негласности» (Известия. 1991. 5 окт. № 237). Американский посланник в Петербурге Н. С. Браун в ноте русскому Министерству иностранных дел выразил удивление по поводу отправки в Тихий океан русского фрегата «с неизвестной целью» (см.: Кутаков. С. 112). Характерно и то, что в первых опубликованных «письмах» и донесениях с борта «Паллады» о цели экспедиции не говорилось ни слова (см.: Посьет МСб; Известия из Нагасаки // МСб. 1853. № 12. Ч. IV. С. 168—171).
3 «По сему предмету о границах, — говорилось в «Проекте дополнительной инструкции генерал-адъютанту Путятину» — наше желание быть по возможности снисходительными (не проронивая, однако же, наших интересов), имея в виду, что достижение другой цели, — выгод торговых, для нас имеет существенную важность. Из островов Курильских важнейший, России принадлежащий, есть остров Уруп, которым мы и могли бы ограничиться, назначив его последним пунктом российских владений, так, чтобы с нашей стороны южная оконечность сего острова была (как и ныне она в сущности есть) границею с Япониею, а чтобы с японской стороны границею считалась северная оконечность Итурупа...» (цит. по: Саркисов К., Черевко К. Путятину было легче провести границу между Россией и Японией: (Неизвестные ранее исторические документы о спорных островах Курильской гряды) // Известия. 1991. 5 окт. № 237). «Проект...» был составлен Министерством иностранных дел России 27 февраля 1853 г. (за № 730). На титульном листе его значится: «На подлинном собственною Его императорского величества рукою написано: „Быть по сему. Февраля 27-го дня 1853 г.”» (Там же). Путятину «Проект...» был доставлен на острова Бонинсима курьерами из Петербурга (см. ниже, с. 603—604, примеч. к с. 302). Подробнее о дипломатических целях экспедиции см.: Полевой Б. П. Экспедиция Путятина и ее задачи // Римский-Корсаков. С. 367—369; Кутаков. С. 109—113 и др.
Сноски к стр. 399
1 Полный текст трактата см.: Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. СПб., 1889. Т. 1. С. 369—370; Гримм Э. Д. Сборник документов и других договоров по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1840—1925). М., 1927. С. 52—53; также: Накамура. С. 174—176; Lensen 1955. P. 122—125.
Сноски к стр. 400
1 А. Н. Майков находился на даче, под Лугой.
2 Имеется в виду Логин Логинович Гейден (1806—1901), вице-адмирал, директор Инспекторского департамента Морского министерства.
3 Обо всем этом Брок писал 17 сентября в письме к великому князю Константину Николаевичу (РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, № 5794, л. 145 об.).
Сноски к стр. 401
1 В настоящее время это письмо Гончарова неизвестно. См.: Ляцкий Е. А. Гончаров на фрегате «Паллада» // Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 230—231; Воспоминания А. Н. Гончарова // BE. 1908. Кн. 11. С. 33.
2 Этим же днем датирован рапорт Гончарова «дежурному генералу Главного морского штаба» с просьбою о назначении ему «содержания на денщиков» (РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, № 5794, л. 159).
3 Ср. также во «Фрегате „Паллада”»: «...жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями...» (наст. изд., т. 2, с. 10).
Сноски к стр. 402
1 В статье «Лучше поздно, чем никогда», ссылаясь на «азбуку эстетики», Гончаров писал: «...художественная правда и правда действительности — не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественною правдою <...>. В этом и заключается процесс творчества!».
Сноски к стр. 403
1 См. в неизданной монографии ученого «Путешествие вокруг света Ильи Обломова: («Фрегат „Паллада”» по новым материалам)» (хранится: ИРЛИ, ф. 700; частично материалы этой монографии изложены автором во вступительной статье к публикации писем Гончарова из плавания — Литературное наследство. М., 1935. Т. 22/24. С. 309—343; перепечатана: Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» / Изд. подгот. Т. И. Орнатская. Л., 1986. С. 722—760 («Лит. памятники»); Энгельгардт). Б. М. Энгельгардтом были впервые изучены материалы архива бывшего Морского министерства (РГА ВМФ). Ниже принимаются во внимание и частично используются как материалы названной выше статьи и монографии, так и следующие архивные дела: из фондов АВПР — два тома, связанные с подготовкой и ходом экспедиции (ф. Гл. арх., I—IX, оп. 8, 1852—1856, № 17, ч. I—II); из фондов РГА ВМФ — «Дело об отправлении в заграничное плавание фрегата. „Аврора”, о замене оного фрегатом „Паллада” и о назначении коллежского асессора Гончарова секретарем при генерал-адъютанте Путятине» (Инспекторский департамент, ф. 283, оп. 2, № 5794); предписание начальника Главного морского штаба «фрегат „Аврора” исподволь разоружить, передав часть команды 19-го экипажа <...> для составления кадры команды фрегата „Паллада”. Дополнить кадру эту чинами, по штату положенному, из всех трех дивизий, по выбору же флигель-адъютанта Унковского» (там же); «Об отправлении в заграничное плавание фрегата „Паллада” и о назначении колл<ежского> асессора Гончарова секретарем генерал-адъютанта Путятина» (там же); высочайшее повеление «предположенный к отправлению в Средиземное море фрегат „Паллада” отправить к американским нашим колониям для <...> обозрения их» (там же); «Рапорт командира фрегата „Паллада” командиру Гвардейского экипажа о выходе „Паллады” из Средней гавани на Кронштадтский рейд, с приложением списка и ведомости всех чинов экипажа, находящихся на судне» (Гвардейский экипаж, ф. 935, оп. 1, № 278); «Журнал приписанного к 19-му флотскому экипажу фрегата „Паллада” под командою Е<го> и <мператорского> в<ысочества> Гвардейского экипажа капитан-лейтенанта и кавалера Ивана Семеновича Унковского с 25 сентября 1852 г. по 27 апреля 1853 г.» (ф. 870, оп. 1, № 69146); донесения командира фрегата «Паллада» в Инспекторский департамент (Инспекторский департамент, ф. 283, оп. 2, № 5813, 5794); рапорт командира фрегата «Паллада» «об отъезде И. А. Гончарова в Петербург сухим путем через Сибирь» (там же, № 6309); «Шканечный журнал полукругосветного плавания фрегата „Паллада”. 1852—1854: 1-я часть. Начато: 25 сент<ября> 1852 г. Оконч<ено>: 27 апр<еля> 1853 г.; II. <...> с 28 апр<еля> 1853 по 21 мая 1854 г.; III. С 21 мая по 19 сентября 1854 г.» (ф. 870, оп. 1, № 6914; далее при цитатах из этого источника приводится обозначение: Шканечный журнал (с указанием даты)).
Сноски к стр. 404
1 Записи в Шканечном журнале гласят: от 7 октября — «Сего числа отправлено от нас за болезнию в Кронштадтскую морскую госпиталь нижних чинов 4 человека»; от 8 октября — «больных нижних чинов 8 человек»; от 12 октября — «...больных нижних чинов 15 человек», от 13 октября — «в 8-м часу умер в лазарете от болезни холера <...> матрос 1-й статьи Александр Абрамов»; от 14 октября — «...в 5-м часу умер в лазарете от болезни холера <...> матрос 1-й статьи Максим Русаков <...> больных нижних чинов 14 человек...» и т. д.
2 См. в Шканечном журнале записи от 17 октября: «...в ½ 7 часа умер в лазарете от болезни тифозной горячки <...> матрос 1-й статьи Петр Матюхин» — и 21 декабря: «Отправлен в Портсмутскую госпиталь 1-го учебного экипажа барабанщик Иосиф Трофимов, одержимый болезнию тифозной горячкою» (на следующий день умер и он).
3 В разделе «Ушибы, увечья и случаи, сопровождавшиеся смертию людей» официальной морской хроники записано: «...находившийся на фор-салинге, при поднятии брам-стенег и брам-рей, матрос Борисов упал оттуда на палубу и при падении получил переломы костей с признаками сотрясения мозга. Через 5 часов он умер. 10 июля 1853 г. на том же фрегате при тяге сей-талей, заложенных в помощь грот-вантам, порвавшимся на бензелях от сильного шторма, стояв шему на грот-путенс-вантах матросу Ян Ларю разогнувшимся гаком ударило в голову и раздробило теменные и затылочную кости, отчего он умер через пять дней» (Обзор. Т. 2. С. 201).
Сноски к стр. 405
1 К. Н. Посьет писал позднее в «Письмах с кругоземного плавания»: «...мы видели на шведском берегу четыре купеческие судна, лежавшие на боку, пробитые и выброшенные бурей. По ночам была слышна отдаленная пальба, возвещавшая о затруднительном положении и гибели купеческих судов...» (Посьет ОЗ. № 3. С. 2).
2 «Паллада» в полной мере испытала на себе все сложности позднего плавания по Балтике и Северному морю: от частых качек судно дало течь, помпы не справлялись с откачкой воды, и она постоянно скапливалась в трюмах, вызывая сырость в жилых помещениях (об этом говорят ежедневные записи в Шканечном журнале: «...воды во фрегате 12 дюймов...» (9 октября); «...воды во фрегате 11 ¾ дюйма...» (12 октября)) — и это при начинавшихся холере и тифе.
Сноски к стр. 406
1 К. Н. Посьет писал М. Ф. Рейнеке 12 (24) апреля 1853 г.: «Волненье шло горами, и фрегат ложился то на один, то на другой бок и, несмотря на вторичную, повсеместную оконопатку в Саймонсбее, потек всеми палубами и показал движение в надводных частях корпуса» (РГА ВМФ, ф. 1166, оп. 1, № 6, л. 17; ср. также ниже, с. 589—590, примеч. к с. 242—243).
2 Не об «Авроре», от которой он в самом начале отказался, а о «Диане», недавно спущенной на воду в Архангельске.
3 В Шканечном журнале записано: «...февраля 21-го дня 1853 года. Пополудни <...>. Сего числа водоопреснительный аппарат потек, по осмотру его оказалось, что простенок, наполненный водою между топливом и духовою печью, от скопления морской соли дал трещину, почему тотчас же прекратил перегонку воды, приступили к исправлению».
Сноски к стр. 407
1 20-ти пушечному черноморскому корвету «Менелай», спущенному на воду в 1841 г., новое название было дано по итальянской вилле «Оливуца», на которой отдыхала царская семья.
2 В этот день купеческая шхуна привезла в Шанхай известие «об объявлении Турциею войны России и о близком разрыве нашем с Англиею». Сообщая об этом Л. Г. Сенявину, Путятин писал: «...я оставляю Шанхай немедленно при приходе ожидаемого сегодня почтового парохода из Гонконга, на котором привезут позднейшие европейские новости. <...> Сообразно этих сведений я буду располагать своими движениями и во всяком случае, не теряя времени, оставлю здешние воды» (ЛВПР, л. 90—90 об.).
Сноски к стр. 408
1 Позднее А. Ф. Кони рассказал (со слов Гончарова) об одном из эпизодов этого времени: «Когда в далеком Японском море адмиралом Путятиным было получено на „Палладе” известие об объявленной России Францией и Англией войне, он позвал к себе в каюту Посьета <...> и, сколько мне помнится, Лесовского <...> и, в присутствии Гончарова, связав их обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная о невозможности для парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от последнего, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться...» (Гончаров в воспоминаниях. С. 257; здесь ошибка Кони: вместо Лесовского должен быть назван Унковский). 13 (25) марта 1854 г. Гончаров писал об этом Е. А. и М. А. Языковым с острова Камигуин: «Если у нас с ними <англичанами> война, то, конечно, они не замедлят явиться из Китая со всеми своими фрегатами и пароходами в Восточный океан искать и взять нас. Наши отдаваться не намерены, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух». См. также: наст. т., с. 42—43.
Сноски к стр. 409
1 О холодном приеме у губернатора см.: Всеподданнейший отчет. С. 192.
2 Но это не исправило положения. Г. И. Невельской писал: «После тщательного освидетельствования корпуса <...> оказалось, что верхний баргоут, особенно у вант-путенсов, гнилой, так что болты последних вылезали; несколько бимсов и книц дали трещины, и степсы у грот и фок-мачт сели. Таким образом, фрегат без капитальной тимберовки не мог идти в море» (Невельской. С. 320—321).
3 Результаты проделанной работы были нанесены на карту восточного берега Кореи из атласа И. Ф. Крузенштерна (см.: Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» / Изд. подгот. Т. И. Орнатская. Л., 1986. С. 473 («Лит. памятники»)); описание острова, названного именем Гончарова, см.: МСб. 1855. № 1. Ч. III. С. 25.
Сноски к стр. 410
1 О нем см. ниже, с. 750, примеч. к с. 628.
2 Гончаров рассказывал, как на эту надвигавшуюся опасность реагировала команда «Паллады»: «Дорогой, для развлечения, нам хотелось принять участие в войне и поймать французское или английское судно. Однажды завидели довольно большое судно и велели править на него. Между тем зарядили наши шесть пушечек, приготовили абордажное оружие и, вооруженные отвагой, с сложенными назад руками, стали смотреть на чужое судно, стараясь угадать по оснастке, чье оно. Флага не было» (наст. изд., т. 2, с. 630).
3 Это известие было сообщено приплывшим на гребной гиляцкой лодке («Диана» не смогла сразу подойти к «Палладе») лейтенантом Н. Г. Шиллингом. В своих воспоминаниях он пишет: «Едва я успел произнести это магическое слово («Диана». — Ред.), как отовсюду послышались голоса: „«Диана», «Диана» пришла!” — и радостная весть мигом облетела весь фрегат. Меня моментально окружили офицеры <...>. Адмирал <...> расспросив о нашем плавании и состоянии фрегата, отпустил меня <...> в кают-компании офицеры <...> приготовили новый ужин <...> расспросам и рассказам не было конца» (Шиллинг. С. 18).
4 Путятин был вынужден отдать приказание Унковскому о передаче «Паллады» пришедшему на «Диане» капитану С. С. Лесовскому для постановки фрегата на зимовку в Императорскую гавань. Разоруженную «Палладу» поставили в укромной Константиновской бухте недалеко от берега, отрядив для присмотра за ней одного штурманского офицера (Д. С. Кузнецова) и 10 матросов. В архивном документе говорится: «Мичман Разградский, посланный 14 декабря 1855 г. в гавань Императора Николая I для затопления фрегата „Паллада”, прибыл на место, где нашел команду <...> в совершенном здравии. Выведя фрегат на глубину 8 ½ сажен, мичман Разградский прорубил дно фрегата, чрез что он погрузился до русленей, а сетки были сожжены» (РГА ВМФ, ф. 1191, оп. 1, № 39, л. 17 об.). Дальнейшая судьба затопленного судна трагична. Отечественная война 1941—1945 гг. помешала привести в исполнение подготовленный владивостокскими инженерами план подъема «Паллады». А с 1951 г. фрегат с благословения тогдашнего командующего флотилией и официальных властей Советской (б. Императорской) гавани начал подвергаться регулярному разграблению подводниками-эпроновцами, древесина же и различные металлические детали ручной работы стали добычей «любителей старины». Начальник штаба всесоюзной экспедиции «Паллада», пытавшийся продолжить уже в наши дни работы по подъему фрегата, писал: «Итог этого беспрецедентного и крупномасштабного грабежа печален. Если еще в 20-е годы местные рыбаки любили отдохнуть у возвышающейся из воды мачты парусника, а в 30-е годы с поверхности хорошо была видна палуба, то в настоящее время фрегат истерзан до неузнаваемости. Отсутствует весь рангоут, уничтожены нос и корма, сорваны две палубы и вырван фальшборт из наиболее ценных пород древесины, обшивка корпуса повреждена до уровня жилой палубы — на 4.5 метра. <...> А сама „Паллада” лишилась около 125 кубометров древесины» (Белашук О. Фрегат приоткрывает тайны // Тихоокеанская звезда. 1989. 14 сент.).
Сноски к стр. 412
1 В последний раз в Шканечном журнале имя Гончарова упоминается 2 августа: «По приказу его превосходительства генерал-адъютанта Путятина переведены на шхуну „Восток” отправляющийся курьером в С.-Петербург лейтенант барон Крюднер, лейтенант Тихменев и секретарь при генерал-адъютанте Путятине, коллежский асессор Гончаров и поступивший в денщики к лейтенанту Тихменеву матрос Петр Витул».
2 Ср. запись от 24 июля в дневнике В. А. Римского-Корсакова: «...это человек походный, самый покладистый спутник, самый покойный собеседник, всегда приятный, ласковый и снисходительный. Разговор у него всегда откровенный, свободный, как у человека, которому нечего стыдиться. Речь ясная, логическая, складная — знак, что голова в порядке, что мысль не бродит, не путается. Много в нем юношеского пыла, доходящего иногда до мечтательности, но в этом нет ни тени сумасбродства, а только признак горячего сердца, еще молодого, неизношенного. <...> Словом сказать, это один из тех редких людей, которых природа снабдила и тройною физикой, и тройною дозой душевных и умственных способностей против обыкновенной, дюжинной нашей братии» (Римский-Корсаков. С. 182—183).
Сноски к стр. 413
1 В письме от 13 января 1855 г. он благодарит Волконского за «внимание», проявленное к нему в Аяне, и просит принять в дар тогдашнюю новинку — «резинковый непромокаемый плащ для летних Ваших поездок». В письме от 11 августа 1864 г. Гончаров вновь напоминает князю о встречах «на сибирских тундрах».
2 Ф. Г. Сафронов, автор капитального труда «Русские крестьяне в Якутии. XVII — начало XX в.» (Якутск, 1961), неоднократно цитирует сибирские страницы книги в качестве документальных свидетельств, несмотря на то что Гончаров нередко неточен (что не отмечено автором труда), в частности в названиях станций и поселений Аянского и Иркутского трактов например, вместо Кирпильская — Терпильская (наст. изд., т. 2, с. 649), вместо Юрях — Уряхская и Урядская (там же, с. 651), вместо Ючугэй-Мыранская — Ичугей-Муранская (там же, с. 658), вместо Ноторская — Натарская (там же, с. 660), вместо Пеледуйская — Поледуйская (там же, с. 705) и т. п. Факт этот говорит лишь о том, что Гончаров в работе над этими страницами книги не пользовался печатными материалами и записывал названия станций на слух.
Сноски к стр. 414
1 Т. е. Иннокентия (о нем см. ниже, с. 814—815). К нему Гончаров обращался с предложением, вероятно исходившим от А. А. Краевского, написать что-нибудь для «Отечественных записок» (см. письмо Гончарова к Краевскому от сентября 1854 г.).
2 Т. е. К. Н. Григорьева (о нем см. ниже, с. 811, примеч. к с. 58).
3 Среди купцов был и местный «любитель древностей» Москвин (о нем см. ниже, с. 767, примеч. к с. 686), к которому Гончаров также обращался с просьбой об «источниках» для «Отечественных записок» (см. указанное выше письмо Гончарова к А. А. Краевскому).
Сноски к стр. 415
1 См.: ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 92, л. 15—17. См. также: Демиховскоя О. А. И. А. Гончаров и декабристы // РЛ. 1975. № 4. С. 111—113.
2 Приемная дочь сестры писателя А. А. Музалевской Е. П. Левенштейн позднее вспоминала: «...он много рассказывал о своем путешествии, из которого привез нам всем подарки, между прочим, замечательные японские картинки на рисовой бумаге. <...> Он рассказывал много, но в конце говорил моей матери, что она лучше всего может прочесть то, что он рассказывает, в его „Путевых заметках”» (Гончаров в воспоминаниях. С. 96).
Сноски к стр. 416
1 О подобных приступах хандры, в которых проявлялась психически не совсем здоровая «гончаровская порода», сообщает и племянник писателя, А. Н. Гончаров (см.: Суперанский М. Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии // BE. 1908. № 11. С. 5—48).
2 Среди этих «некоторых» мог быть почти любой из новых товарищей Гончарова. Ср. описание его первого появления на борту «Паллады» в Кронштадте: «Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольцев — мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили всё, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого, коренастого, гладко остриженного матроса (Фаддеева. — Ред.)» (наст. изд., т. 2, с. 19—20).
Сноски к стр. 417
1 См.: Линден. С. 143, а также: Остен-Сакен Ф. Памяти графа Евфимия Васильевича Путятина // ВестнРГО. 1883. Т. 19. С. 386. Последняя статья, изданная в виде отдельной брошюры, была в библиотеке Гончарова (см.: Библиотека. С. 66).
2 В письме к М. Ф. Рейнеке с острова Явы от 19 (31) мая 1853 г. Путятин писал: «В продолжение двух сделанных нами переходов офицеры и гардемарины перевели известное Вам сочинение „Scientific Enquiry”, изданное Гершелом, по приказанию морского начальства, для ученых исследований в дальних плаваниях. <...> Наставления эти могли бы быть полезны в кругосветных плаваниях» (РГА ВМФ, ф. 1166, оп. 1, № 6, л. 133).
Сноски к стр. 418
1 Такие чтения устраивались и для матросов. В очерках «Слуги старого века» Гончаров вспоминает: «Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке <...>. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу...».
2 А. М. Линден, говоря о «горячности» и «запальчивости» Путятина, «доходивших до самозабвения», отмечал, впрочем, что это происходило часто из «чисто напускного желания порисоваться оригинальностью, характерного для Черноморского флота» (Линден. С. 141).
3 В. А. Римский-Корсаков, нисколько не сомневавшийся в «личной честности» адмирала, но испытавший на себе его «скряжничество», которое особенно проявилось во время оснастки новой шхуны «Восток», пишет о нем довольно резко: «Я потерял всякое доверие к его словам и даже обязал себя не иметь с ним никаких сношений, кроме письменных, формальных. <...> это один из таких людей, которые берегут казенные деньги бог весть зачем, без всякого положительного убеждения, без расчета, без взгляда на будущее, рискуя даже безопасностью судов и людей для того, чтобы только в настоящую минуту не показалось им, что они растратили казну...» (Римский-Корсаков. С. 42—43). О. Аввакум также отмечает в своем дневнике ту скупость, с которой, по распоряжению Путятина, производился отбор подарков для японской стороны: «Вообще подарки назначались не в богатом размере. Хлопоты чиновников и переводчиков, состоявшие если не в заботе о наших пользах, то по крайней мере в разъездах с берега до фрегата <...> сто́ят большего вознаграждения. Адмирал, имеющий сердце чрезвычайно [тесное] сжатое, всякую безделицу оценивал весьма дорого и полагал, что никто не заслуживал и тех подарков, которые были всякому назначены. <...> Послу от великой нации следовало бы быть пощедрее, и всякий мелочный труд, для нас понесенный, ценить вдесятеро. Истинно казалось, что он приехал из какого-нибудь нищенского государства. Японцы, глядя на подарочные вещи, не раз предлагали изумительные вопросы: „Ужели только-то?”» (Аввакум. С. 83). После личного объяснения с генералом Римский-Корсаков, однако, говорил о нем иначе: «...это человек души доброй, чувствительной и благородной, но только с самым несчастным, тревожным расположением духа <...> немного бы дать ему осмотрительности, распорядительности — и он, конечно, был бы начальник, какого лучше и желать нечего». Случай же с проявившимся «скряжничеством» он объясняет теперь тем, что адмирал «беспрестанно забывал свои же собственные распоряжения, отдавал противоречивые приказания и совсем сбился с толку» (Римский-Корсаков. С. 45).
Сноски к стр. 419
1 Он даже выхлопотал у российского посланника в Лондоне официальные поручения Гончарову в Берлин и Варшаву, обеспечивавшие ему возможность вернуться в Петербург за счет казны.
2 См. об этом: Кадзухико Савада. Гончаров в Японии // Japanese Slavic and East European Studies. 1989. Vol. 4. P. 98. Один из полномочных пишет: «Гончаров, хотя и без официального чина, служит секретарем, всегда сидит возле посла и вмешивается в разговор. Выглядит главным советником» (Кавадзи. С. 93).
3 Письмо было написано в связи с тем, что Путятин сначала ответил отказом на предложение занять пост министра просвещения. Гончаров замечал по этому поводу: «Он добросовестен и скромен, оттого и не принял дела, которого бы не вынес на своих плечах».
Сноски к стр. 420
1 Причиной послужило намерение адмирала проверить финансовые действия П. А. Тихменева (о нем см. ниже), которому капитан доверял безусловно. Произошла резкая сцена, после которой Унковский решил покинуть «Палладу». Путятин в ответ на это заявление предложил ему «всякое удовлетворение» (имелась в виду дуэль), но по поводу намерения покинуть судно сказал: «Этого нельзя-с <...> я не могу лишить русское судно подобного капитана, в то время, когда Россия накануне военных действий» (Истомин. С. 70).
2 В упомянутом выше письме к Е. А. и М. А. Языковым Гончаров писал: «Поблагодарите кн<язя> Оболенского за рекомендательную записочку, которую он мне дал к капитану фрегата».
3 В письме к семье Майковых от 25—26 мая (6—7 июня) 1853 г. Гончаров касается одной из тем таких бесед: «...я с самого начала похода всё проповедовал о гуманности и жарко спорил с капитаном, который меньше 150 линьков виновным не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по званию».
Сноски к стр. 421
1 Неназванный четвертый член сложившегося кружка — это или К. Н. Посьет, или барон Н. А. Крюднер.
2 Гончаров упоминает о нем в письме к Е. А. и М. А. Языковым из Лондона от 3—4 (15—16) ноября 1852 г.: «У нас на фрегате дня два гостил у капитана его товарищ, находящийся по службе в Лондоне, некто Шестаков. Оба они сегодня предложили мне ехать в Лондон <...> мы промчались в кебе <...> по лучшим улицам до квартиры Шестакова. Мне приготовлена вверху маленькая комнатка...». Подробнее об И. А. Шестакове см. с. 551—552, примеч. к с. 40.
3 Ср. запись в дневнике Кавадзи: «Посьет владеет голландским языком, всем служит переводчиком, принимает на себя всякие переговоры. Довольно способный человек» (Кавадзи. С. 93).
4 Во время описи корейского берега Е. В. Путятин назвал открытую командиром обширную, удобную для стоянки судов бухту бухтой Капитана Посьета (см.: Невельской. С. 311).
Сноски к стр. 422
1 Подробнее см.: Смирнова И. В. Записные книжки капитан-лейтенанта К. Н. Посьета: (К проблеме изучения истории создания очерков И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада”» // Гончаров. Материалы. С. 309—314.
2 См.: Там же. С. 312.
3 В 1858—1873 гг. Посьет состоял его воспитателем.
4 См.: Празднование 50-летия службы в офицерских чинах адмирала К. Н. П<осьета>. СПб., 1887. Характерно, что, заняв сугубо земной пост министра путей сообщения (в конце 1870-х гг.), Посьет не забывал и о море. При нем были усовершенствованы, например, Ладожский канал, Петербургский порт с морским каналом и др.
5 Подробнее см.: Кадзухико Савада. И. А. Гончаров и его знакомые японцы в Петербурге // И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 80—90.
Сноски к стр. 423
1 См.: Невельской. С. 259.
2 См., например, запись из его дневника: «Шанхайские англичане считают китайцев за собак, которых можно бить и даже убивать безотчетно. Граждане свободного государства в этом отношении хуже наших помещиков» (Римский-Корсаков МСб. 1896. № 5. С. 180).
3 В. Макоми весьма высоко оценивает дневники Римского-Корсакова, отмечая их художественное достоинство и эстетический вкус автора. Он подчеркивает, что в них описаны такие моменты, которые были скрыты или завуалированы как в официальных отчетах об экспедиции, так и в книге Гончарова, вынужденного по секретарской должности быть дипломатичным и осторожным. Обращает он внимание и на письма Римского-Корсакова к родителям и младшему брату Нике (будущему композитору), в которых содержатся критические отзывы о личности Путятина (см.: McOmie. P. 43—46, 48—50).
Сноски к стр. 424
1 Он, А. Е. Шлипенбах и врач Генрих Вейрих после Англии перешли на шхуну «Восток». Отмечая встречи «Паллады» со шхуной «Восток» и с ее командиром, Гончаров лишь называет его имя (см.: наст. изд., т. 2, с. 115, 408, 628—633). Единственным исключением является эпизод, относящийся к совместному их пребыванию в Шанхае (описывая «съестной» рынок, Гончаров говорит о своем спутнике: «В. А. Корсаков, который способен есть всё не морщась, что попадет под руку, — китовину, сивуча, что хотите, пробует всё с редким самоотвержением и не нахвалится» (там же, с. 439)).
2 Это ярко проявилось по отношению к упоминавшемуся выше Мише Лазареву: «Нельзя себе представить того тщания, с каким здесь принялись за него на фрегате из уважения к памяти отца; все офицеры с ним занимались с особым усердием, и теперь всем он надоел своей ленью, невниманием и лживостью до того, что все от него отступились...» (Римский-Корсаков. С. 134).
Сноски к стр. 425
1 «Первое лицо» — И. С. Унковский.
2 Степан Степанович Лесовский (1817—1884), командир фрегата «Диана»; в 1862—1864 гг. командовал русской эскадрой у берегов Америки; в 1876 г. стал управляющим Морским министерством, в 1880 г. командовал эскадрой на Тихом океане.
3 «Лейтенант Бутаков, приехавший из Сингапура курьером с „Паллады”, — пишет В. А. Римский-Корсаков, — <...> вышел из корпуса годом позже меня и служил все время в Черноморском флоте, а оттуда вызван был Унковским на „Палладу”. Там он сделал уже 18 морских кампаний и скоро должен получить Георгия» (Римский-Корсаков. С. 135).
4 Об одной такой «критической минуте» рассказывает моряк с «Паллады» А. М. Линден. Случилось, что на фрегате «Диана», только что подошедшем к «Палладе» (см. об этом выше, с. 410), из-за практиковавшихся С. С. Лесовским «постоянных зуботычин и линьков» матросы взбунтовались и чуть было не выбросили командира за борт. Линден пишет: «Но порядок вскоре был восстановлен старшим офицером И. И. Бутаковым, составлявшим в гуманном обращении с командою исключение, а потому и имевшим громадное на нее влияние». Впрочем, в оправдание командиру «Дианы» Линден прибавляет, что Лесовский «был очень образованным и даже по природе не жестокосердым человеком, но он теоретически проникся усвоенным во всем Черноморском флоте в те времена взглядом, что доведение команды в практическом морском деле до желательного совершенства, с безукоризненною чистотою судна включительно, возможно только при беспощадном применении телесных наказаний». Характерна приведенная мемуаристом «аттестация» Лесовского «черноморцем» Путятиным: «Лесовский — прилежный морской офицер и горячо предан своей специальности, но, вследствие запальчивого характера, едва ли способен с успехом управлять отдельною и более или менее обширною частью» (Линден. С. 112—113).
Сноски к стр. 426
1 А. Е. Шлипенбах (Шлиппенбах; род. 1828), племянник директора Инспекторского департамента Морского министерства графа Л. Л. Гейдена, выпускник Морского кадетского корпуса; старший офицер; впоследствии генерал-майор; в числе его наград была и бронзовая медаль на андреевской ленте в память войны 1853—1855 гг. Реже других упоминается на страницах книги: после Англии он шел на шхуне «Восток», а потом на «Оливуце». Строгий В. А. Римский-Корсаков пишет о нем: «...адмирал перевел от меня барона Шлиппенбаха на корвет <...> и я как нельзя более рад, что он (лейтенант Чихачев. — Ред.) достался мне вместо этого лентяя Шлиппенбаха, которого я беспрестанно должен был распекать и штрафовать» (Римский-Корсаков. С. 135).
2 О его специальности Гончаров упоминает в главе «Русские в Японии», на страницах которой описываются японские укрепления: «Как издевался над этими домиками наш артиллерист К. И. Лосев! Он толковал, что домик мешает углу обстрела и т. п.» (наст. изд., т. 2, с. 387).
Сноски к стр. 427
1 В газете «Кронштадтский вестник» (1877. 10 апр. № 43) сообщалось об отпевании его, состоявшемся 9 апреля «в присутствии всех начальствующих лиц».
Сноски к стр. 428
1 Возможно, он являлся и составителем цензурованной Гончаровым брошюры «Отчет Российско-Американской компании за 1856 год» (СПб., 1857), на обложке которой дарственная надпись: «Его высокородию Ивану Александровичу Гончарову» (см.: Библиотека. С. 68).
Сноски к стр. 429
1 В главе «На мысе Доброй Надежды»: «Первые собрались ботанизировать, а мы с бароном Крюднером — мешать им» (наст. изд., т. 2, с. 129); «Мы с бароном пошли гулять на улицу» (там же, с. 184). В главе «Сингапур»: «Мы с бароном Крюднером подолгу стояли на вахтенной скамье, любуясь по ночам звездами, ярко игравшей зарницей и особенно метеорами...» (там же, с. 254); «...мы с бароном Крюднером отправились „посмотреть, что едят”...» (там же, с. 266); «Мы с бароном делали наблюдения над всеми сидевшими за столом лицами...» (там же, с. 267).
2 П. А. Тихменев в ответ на расспросы Гончарова о предстоящем обеде сетует: «Десерта не будет <...> Зеленый и барон по ночам всё поели...» (наст. изд., т. 2, с. 119).
Сноски к стр. 430
1 В описании ночи на шхуне, идущей в Шанхай, Крюднеру, человеку, при всем своем эпикуреизме, весьма неприхотливому, посвящены строки не менее яркие, чем П. А. Тихменеву: «Впросонках видел, как пришел Крюднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту, подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку» (наст. изд., т. 2, с. 442).
2 Благодаря Зеленому в Одессе была сооружена спасательная станция возле села Дофиновка, названная, вероятно по его же инициативе, именем адмирала Посьета. В 1891 г. одесское Общество спасения на водах постановило: «...для увековечения памяти всех заслуг глубокоуважаемого председателя окружного правления Общества <...> почетного члена, контр-адмирала Павла Алексеевича Зеленого, построить новую первоклассную морскую спасательную станцию, назвав ее именем контр-адмирала Зеленого, где поставить и его портрет» (цит. по: Одесса, 1794—1894. Одесса, 1895. С. 767).
3 Вообще среди членов кают-компании «Паллады» благодаря молодежи часто царили веселье и смех («Крики и хохот раздавались по лесу» — наст. изд., т. 2, с. 248), даже в самых острых ситуациях. В очерке «Два случая из морской жизни» рассказывается: «В кают-компании — ничего особенного: по-прежнему читают, пишут, курят: почему ж и не покурить, не почитать перед смертью? „А если канат не лопнет?”. Эта надежда даже внушает некоторым веселые мысли: вон Болтин, по обыкновению, дразнит Урусова, сердит Зеленого; этот последний, по обыкновению, хохочет» (наст. т., с. 21).
Сноски к стр. 431
1 Н. Г. Шиллинг, служивший с Зеленым на «Диане» и вместе с ним возвратившийся в Петербург, рассказывая об их совместном посещении казначейства (для получения двухгодичного жалованья), пишет: «Словоохотливый Зеленый чуть ли не в двенадцатый раз начал свой рассказ о симодском землетрясении, хотя старичок-чиновник и извинялся, что очень занят и не имеет времени слушать. Зеленый прехладнокровно продолжал со словами: „Нельзя, всем рассказывал, так уже и вам следует об этом знать”» (Шиллинг. С. 95).
Сноски к стр. 432
1 Преподавая ему, в числе других гардемаринов, русскую словесность и историю, Гончаров, скорее всего, не мог не коснуться имени Пушкина, так же как Пещуров не мог не упомянуть, что он сын псковского губернского предводителя дворянства и псковского гражданского губернатора А. Н. Пещурова — соседа Пушкина по Михайловскому, его доброго знакомого еще с 1817 г. и к тому же дяди лицейского товарища поэта А. М. Горчакова.
2 В мичманы Пещуров был произведен в декабре 1854 г. у Седельных островов.
3 См. ниже, с. 744, примеч. к с. 620.
4 Упоминают о Пещурове и японцы. Так, Кавадзи записал в дневнике: «Тому, кто сидел за послом и записывал, говорят, 13 лет. Японцы бы сочли его юношей в двадцатилетнем возрасте» (Кавадзи. С. 54), а в «Личных записках Сэйтея» Сэндзю рассказывал: «Говорят, что он племянник посла, ему 18 или 19 лет. Он все время держит в руке тетрадь и грифель» (Сугитани. С. 16).
Сноски к стр. 433
1 Отчет императорского Русского географического общества за 1866 г., составленный секретарем общества бароном Ф. Р. Остен-Сакеном. СПб., 1867. С. 3. Эта книга была в библиотеке Гончарова (см.: Библиотека. С. 66).
2 Отчет императорского Русского географического общества за 1866 г. ... С. 5.
Сноски к стр. 434
1 В томах «Трудов членов Российской духовной миссии в Пекине» Гошкевич напечатал несколько статей, в частности: «Способ приготовления туши, белил и румян у китайцев» (1852. Т. 1. С. 361—384); «О китайских счетах» (1853. Т. 2. С. 169—194); «Императорское, или благовонное, пшено (скороспелое)» (Там же. С. 393—410); «Хонкон» (Там же. С. 393—410); «О шелководстве» (Там же. С. 411—450).
2 Сохранился также его архив за 1830—1871 гг. в Петербургском отделении Института востоковедения.
3 В составе экспедиции был еще один любитель-натуралист — судовой врач Генрих Вейрих. Гончаров мог близко наблюдать его во время путешествия по Капской колонии. Он пишет о нем: «...умеренный и скромный наш спутник, немец»; «Он был, по строгой умеренности и простоте нравов, живой контраст с бароном...» (наст. изд., т. 2, с. 175, 222).
Сноски к стр. 435
1 Близорукость Гошкевича отмечают в своих дневниках и японцы (см.: Кого. С. 246; Мицукури. С. 386).
2 Несомненно, Гошкевич вызывал у Гончарова сильнейшую симпатию; писатель искренно сочувствует его мучениям во время приступов «морской болезни» (наст. изд., т. 2, с. 83), от которой Гошкевич так и не отделался до конца плавания. В письме к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г. Гончаров рассказывает: «...он со стоном бросился на круглый диван, потом перебежал на скамью, потом лег на пол и нигде не находил места. <...> Я дал ему воды, а потом уж не знал, что делать: нашел на полу кусочек апельсинной корки и дал ему пожевать, думая, авось поможет. Нет, ничто не помогает...». И даже такую не слишком приятную черту Гошкевича, как нелюбовь к евреям, многократно проявлявшуюся во время экспедиции, писатель склонен интерпретировать как странность, чудачество, своего рода идею фикс.
3 Квятковский И. А. Океан и корабль. Л., 1972. С. 117.
Сноски к стр. 436
1 Ср. его слова из письма (недатированного, относящегося к 1871 г.) к К. Н. Посьету с отказом от первоначально предполагавшегося плавания на «Светлане» (о нем см. выше, с. 422): «А поехавши с Вами — я беру на себя обязанность непременно написать книгу, притом достойную этого путешествия и особенно главного путешественника (великого князя Алексея Александровича. — Ред.) и сопровождающего его общества, к которому имел бы честь принадлежать» (курсив наш. — Ред.).
Сноски к стр. 437
1 Наблюдения Гончаров отчасти совпадают с впечатлениями Достоевского (и его обобщениями) от праздника в остроге: «Дни великих праздников резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самого детства. Это дни отдохновения от их тяжких работ, дни семейного сбора. <...> Уважение к торжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность; немногие гуляли; все были серьезны и как будто чем-то заняты, хотя у многих совсем почти не было дела. Но и праздные и гуляки старались сохранять в себе какую-то важность...» (Достоевский. Т. IV. С. 104—105). Постепенно и неизбежно праздник перерождался в пьянство, гульбу, чад (Там же. С. 105—116).
Сноски к стр. 439
1 Филиппинца Фаддеев называет «цыганом».
2 При этом отношение к нему автора вовсе не отрицательное; он даже принадлежит к числу «фаворитов» Гончарова; это комический персонаж, суждения которого потешны во всем своем национальном простодушии; так, сигнальщик решительно отказывается поверить в реального дышащего кита, предпочитая ему родные мифологические существа: «„Это не кит, — отвечал он, — это всё водяные: их тут много!...” — прибавил он, с пренебрежением махнул рукой на бездну и, повернувшись к ней спиной, сам вздохнул немного легче кита» (наст. изд., т. 2, с. 620). «Астрономический» урок Феодорову аналогичен «географическому» уроку Фаддееву (там же, с. 128).
Сноски к стр. 442
1 Характерна забавная сценка, в которой Фаддеев намеренно пугает городского слугу Гончарова, продолжавшего отговаривать барина от морского путешествия: «Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где „крутит”, и когда корабль в эдакую „кручу” попадает, так сейчас вверх килем перевернется. „Как же быть-то, — спросил я, — и где такие места есть?” — „Где такие места есть? — повторил он, — штурмана знают, туда не ходят”» (наст. изд., т. 2, с. 22).
2 Ср. с тем, что пишет Гончаров о Фаддееве и о себе: «Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня» (там же, с. 20).
3 Гончаров писал 3—4 (15—16) ноября 1852 г. Е. А. и М. А. Языковым из Лондона: «...здесь, где я теперь остановился, на целый дом прислуживает прехорошенькая девушка лет 20, miss Эмма. Меня ужас берет, как посмотрю, что она делает. Она отперла нам двери, втащила наши sacs de voyages, развела в трех комнатах огонь, приготовила чай, является на каждый звонок и теперь топает над моей головой, приготовляя мою комнату. Она же убирает комнаты, будит по утрам господ (и меня, слышь, станет будить). <...> я бы привел сюда мерзавца своего Филиппа и всех российских Филиппов посмотреть, как работают английские слуги».
Сноски к стр. 445
1 Об этом свидетельствуют слова из письма Путятина к А. С. Норову от 20 сентября (2 октября) 1853 г.: «...не могу умолчать, как много я обязан Вам за рекомендацию и содействие в назначении г-на Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвычайно полезен мне как для теперешних наших сношений с японцами, так и для описания всех происшествий, которые со временем должны сделаться известными публике <...>. Имея дарование живо представлять предметы, г-н Гончаров в состоянии будет придать им занимательный и яркий колорит и тем может возбудить симпатию в публике к соседственной нам стране...» (РА. 1899. Кн. 1. С. 198; курсив наш. — Ред.).
2Слово «журнал» здесь употреблено в его изначальном значении: дневник, поденные записки. Гончаров иногда называет его «общим журналом» или «журналом всего, что увидим», — вероятно, в отличие от записей для обдумываемых «путевых записок». Этот «журнал» подчас ошибочно смешивают с официальным шканечным журналом, к которому Гончаров никакого отношения не имел (см.: Алексеев А. Д. И. А. Гончаров — автор официального «Отчета о плавании фрегата „Паллада”» // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969. С. 370). См. также ниже, с. 826.
Сноски к стр. 446
1 Это потребовало бы от писателя тягостной необходимости собирания разного рода сведений о землях, в которых доведется побывать (а этого по традиции прежде всего ожидали читатели от пишущего путешественника). Таких книжных сведений по всему тексту «Фрегата „Паллада”» разбросано достаточно много (см. шутливые слова из письма Гончарова к А. А. Краевскому, относящемуся к сентябрю 1854 г.: «...надо повыкрасть кое-каких данных из других путешествий»), и они чаще всего (если не считать Капа) сопровождаются отсылкой к источникам, из которых извлечены. Упомянуты следующие имена авторов «путешествий» и ученых описаний: Э. Белчер, С. Билль, Ф. Бичи, Н. Я. Бичурин, В. П. Боткин, В. Р. Броутон, Г. Ванкувер, Г. Гагенар, Б. Холл, М. Геденштром, В. М. Головнин, Н. И. Греч, Н. М. Карамзин, Ф. Карон, Э. Кемпфер, Ф. П. Литке, В.-Г. Нопич, Н. П. Резанов, К. П. Тунберг и др. Книги всех названных авторов несомненно находились в библиотеке фрегата. По словам руководителя работ по подъему «Паллады» на поверхность О. Белашука (об этом см. выше, с. 411), «судьба корабельной библиотеки из восьми тысяч томов» неизвестна: «Незадолго до затопления „Паллады” книги были вывезены в Николаевск-на-Амуре, где и хранились практически до нашего времени. Потом они все бесследно исчезли» (Тихоокеанская звезда. 1989. 14 сент.).
2 О ней см.: наст. изд., т. 2, с. 685, а также письмо к Майковым от 25—26 мая (6—7 июня) 1853 г. Известен лишь небольшой отрывок из нее, представляющий собою запись-автограф в альбоме Г. П. Данилевского, датированную 23 апреля 1855 г. и озаглавленную «Из неизданных записок путешественника». Текст записи несколько отличается от того, что вошел в главу IX тома второго «Фрегата „Паллада”» (наст. изд., т. 2, с. 702): «На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. „Градусов 50, батюшка”, — сказала старуха. Человек мой усмехнулся. „50 не бывает”, — заметил он педантически. „И, родимый, у нас 70 бывает”, — отвечала она» (РНБ, альбом Г. П. Данилевского, с. 83).
3 См.: наст. изд., т. 2, с. 340 («...вырываю несколько листов из дневника...»).
Сноски к стр. 447
1 Вопрос о соотношении фактического материала из частных писем Гончарова времени плавания с текстом «Фрегата „Паллада”» рассмотрен в упоминавшейся выше (см. ниже, с. 403) статье Б. М. Энгельгардта.
2 В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 15 (27) декабря 1853 г. сообщается: «...у меня набросано на бумагу в виде писем всего три-четыре статейки...».
3 «...неудобно еще печатать заранее и потому, что о нашей экспедиции печатно, помнится мне, ни разу не говорилось» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 15 (27) декабря 1853 г.).
Сноски к стр. 448
1 Заглавие требовалось Некрасову для объявления в газетах о содержании № 2 «Современника» за 1856 г., для которого предназначался очерк.
2 15 июля 1854 г. в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым Гончаров говорил: «...мне стыдно было бы явиться с пустыми руками, не в публику, а к вам, в ваш маленький кружок, самый маленький то есть. <...> Из посторонних прибавьте сюда Бенедиктова и Льховского, если только они посторонние. К вам я прежде всего пойду искать награды, а потом уж в публику или к Андрею Алекс<андровичу> <Краевскому>». Ср. замечание в «Необыкновенной истории» о том, что, «раздавая по журналам главы из своих „путевых записок”», писатель «имел обыкновение прочитывать то, что было готово, нескольким человекам».
3 См. выше, с. 414, и ниже, с. 471.
4 «Морская идиллия» (с ловлей акулы) вошла в главу VI («От Манилы до берегов Сибири») тома второго.
Сноски к стр. 449
1 В день возвращения из плавания Гончаров вступил в свою прежнюю должность столоначальника Департамента внешней торговли, а с марта 1856 г. занял должность цензора Петербургского цензурного комитета. За два года новой службы, т. е. за время работы над журнальными публикациями очерков, им было процензуровано около 20 000 рукописных и 1866 печатных листов (см.: Mazon A. Un maître du roman russe Ivan Gontcharov. Paris, 1914. P. 198).
2 В основном «отдельные главы» будущей книги, создавались в квартире на Невском проспекте в доме Кожевникова (современный адрес — Невский, 51); в самом начале 1857 г. Гончаров поселился на Моховой, 3 (этот адрес он называет в письме к М. Н. Каткову от 21 апреля 1857 г., причем как адрес давний: «Живу я всё там же, то есть на Моховой улице, близ Сергиевской, в доме Устинова»).
3 Здесь и далее даются журнальные названия глав.
Сноски к стр. 450
1 Появлялись также повторные публикации отдельных очерков или отрывков из очерков — и до выхода первого отдельного издания, и позднее (в сборнике «Литературный ералаш из повестей, рассказов, стихов и драматических сцен современных русских писателей...» (М., 1858) — очерк «От Кронштадта до мыса Лизарда»; в «Сборнике избранных мест из произведений русских писателей» (СПб., 1869) — отрывки «Посещение нагасакского губернатора» и «Приход на Сингапурский рейд»; в книге «Веселье и радость от колыбели до могилы / Сост. под руководством бар. Соллогуба» (М., 1877. Т. 4) — «Острова Бонинсима»; в «Литературном и иллюстрированном календаре на 1887 год» — отрывок «Акула»). Видимо, с разрешения автора была издана брошюра «Англичане и русские. С видом Лондона» (СПб., 1891; ценз. разр. — 22 нояб. 1890 г.). Не исключено, что Гончаров мог позволить издателю (об их не дошедшей до нас переписке см.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 4. С. 229) сделать в тексте публикуемого отрывка из главы I тома первого книги отдельные сокращения и незначительные изменения.
2 Текст посвящения гласил: «Его императорскому высочеству государю, великому князю Константину Николаевичу с чувствами глубочайшего уважения и беспредельной преданности посвящает автор». Посвящение было принято благосклонно. 20 декабря 1857 г. Гончарову было направлено следующее уведомление: «Великий князь генерал-адмирал соизволил принять с удовольствием посвящение имени Его императорского высочества сочинения г-на Гончарова „Фрегат «Паллада»”. Состоящий при Его высочестве камергер, действительный статский советник Головнин» (РГИА, ф. 777, оп. 2, № 16, л. 33; автограф посвящения здесь же). Позднее в «Необыкновенной истории» Гончаров писал о посвящении: «В 1856 году (кажется, так!) я напечатал <...> путевые записки „Фрегат «Паллада»” — и, конечно, поспешил представить первые экземпляры всей императорской фамилии, с посвящением в<еликому> к<нязю> Константину Николаевичу, которому был обязан этим плаванием. Тут я не робел и не боялся, потому что эта книга была, так сказать, моим обязательным литературным отчетом о путешествии».
Сноски к стр. 452
1 В нем писатель отвечал на вопросы издателя И. И. Льховскому, изложенные последним в письме Гончарову: «Зачем Глазунова приказчик приходит в недоумение по поводу моего текста: вот забота! Пусть недоумевает лучше по поводу типографских ошибок. Велите оставить Фаддеева в покое: ведь в начале письма сказано, что оно написано после всех других. <...> Жаль, что они возятся со шрифтом и не послушались меня: у меня не меньше их смысла и вкуса».
2 В. А. Недзвецкий подчеркивает, что это решение «было глубоко продуманным». Он пишет: «Исполненный „шума, суматохи, движения, криков и говора” Шанхай действительно отличен от погруженной в вековую дремоту Японии в той же мере, как Лондон от Мадеры» (Гончаров. Материалы. С. 130).
Сноски к стр. 454
1 Ср.: «Владея поэтическим талантом, юмором и всеми тайнами родного языка, он <автор> мог ограничиться даже летучими, непосредственными и личными впечатлениями, не дополняя их чужим знанием и опытом» (1858. Т. I. С. III).
Сноски к стр. 455
1 15 ноября 1861 г. последовало цензурное разрешение нового издания романа «Обломов», подвергшегося капитальной переработке и поглотившего все внимание и время писателя (см. Гейро Л. С. История создания и публикации романа «Обломов» // Гончаров И. А. Обломов. Л., 1987. С. 624—631 («Лит. памятники»)), а 6 февраля 1862 г. — цензурное разрешение второго отдельного издания «Фрегата „Паллада”».
2 В письме к И. И. Панаеву от 8 февраля 1862 г. он писал: «...все вожусь с корректурами. Вот теперь „Палладу” читаю — что это за наказание!».
3 Форма «в отеле» вводится непоследовательно: в позднейших изданиях встречаются обе формы.
Сноски к стр. 457
1 В его библиотеке до 1868 г. хранились «Морской словарь...» А. С. Шишкова (СПб., 1832—1840. Ч. 1—3), «Словарь по кораблестроению» ([СПб], 1832), «Словарь по наукам к мореплаванию» ([СПб], 1835), в 1868 г. подаренные писателем сибирской Карамзинской библиотеке (см.: Библиотека. С. 99).
Сноски к стр. 458
1 14 августа 1878 г. в письме к Е. А. Никитенко Гончаров сообщал: «Сегодня же утром я, кстати, уступил право на издание „Фрегата «Паллады»” И. И. Глазунову — единственно затем, чтобы обеспечить образование Сани до конца...». Саня — А. К. Трейгут (1869—1928), воспитанница Гончарова. О ней и ее семье см.: Жданова М. Б. И. А. Гончаров и Трейгуты (новые материалы) // Гончаров. Материалы. С. 275—286.
Сноски к стр. 459
1 Той «выношенности», о которой А. Ф. Кони писал: «Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была выношенность его произведений <...> <они> писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер отрывков» (Гончаров в воспоминаниях. С. 240).
Сноски к стр. 463
1 Ср. у Пушкина: «Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы, речка шумела во мраке» (Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1938. Т. VIII. С. 470).
2 Например, в главе «Шанхай» убирается текст, включающий фразу: «Я так привык к морю и кораблю, что боялся, не будет ли уж берег вреден мне?» (вариант к с. 409, строка 12, ср. строфу II главы I «Евгения Онегина»); в главе «Русские в Японии» — текст, содержащий цитату: «„Карикатура южных зим”, — говорит Пушкин про наше северное лето...» (вариант к с. 448, строка 24, ср. строфу XL главы IV «Евгения Онегина»).
Сноски к стр. 465
1 См. об этом наст. изд., т. 1, с. 689.
Сноски к стр. 466
1 Известно, что корректур (по крайней мере издания 1886) Гончаров не держал. Об этом свидетельствуют его слова в письме к Е. А. Никитенко от 1 августа 1885 г.: «...писал в лавку Глазунова <...> спросил, зачем приглашают Софью Алекс<андровну> <...>. Сегодня приказчик отвечал, что ей хотели предложить держать корректуру „Фр<егата> «Паллады»”, которая вся вышла в продаже, а летом типография свободна, то Глазунов и заготовляет новое издание. Теперь же корректура эта, заключает приказчик, передана другому лицу».
Сноски к стр. 467
1 У Гончарова всегда: Уньковский.
2 Т. е. сам Гончаров.
3 Несомненно, обещанная глава — не более чем шутка; тем не менее в романе «Обломов» появились некоторые эпизоды и мотивы, корнями своими уходящие в путешествие Гончарова. Таковы два разговора Штольца и Обломова о предстоящем Илье Ильичу путешествии в главах III и IV части второй; главный музыкальный мотив романа («Casta diva») в главе IV и описание сборов Обломова в путешествие в главе V той же части. См. также: Гейро Л. С. Роман И. А. Гончарова «Обломов» // Гончаров И. А. Обломов. Л., 1987. С. 530—532 («Лит. памятники»).
Сноски к стр. 468
1 Необыкновенно подробные удивительные инструкции по поводу своих писем он дает в письме к Э. А. Белавиной от 30 июля-20 августа (11 августа-1 сентября) 1853 г.: «Вот лучше скажите-ка мне: не подметили ли Вы за другими, что они скучают, получая так часто мои длинные и неразборчивые письма? Не бранят ли меня, не смеются ли? Мне очень жаль, что Михаиле Александрович (Языков) возит от Майковых мои письма домой к себе: прочитал бы там, да и дело с концом, потом бы пересказал о содержании Вам и жене. А то они попадутся в руки чужих мне людей, совершенно равнодушных ко мне, которые будут искать в них литературы, а не найдя, станут привязываться, осуждать или смеяться. Если такое письмо попадется Вам в руки, прячьте его, пожалуйста, подальше от других и возвращайте потом Майковым: Вы этим меня обяжете. Письма же — чисто дружеские и могут быть только интересны для тех, к кому писаны». Вернувшись в Петербург, Гончаров востребовал у друзей свои первые, очень пространные и литературные, письма. К Ю. Д. Ефремовой, например, осенью 1856 г. он обратился с просьбой «приготовить» письмо, посланное из Англии в конце 1852 г., — «мне крайняя надобность, я сегодня статью пишу об этом». Вне всякого сомнения, с аналогичными просьбами Гончаров обращался и к другим своим корреспондентам.
Сноски к стр. 471
1 В дополнение Гончаров пишет о небольших фрагментах, которые он готов выслать как друзьям, так и в журнал. Но эти весьма туманные обещания он сопровождает юмористическими оговорками и определенными ограничениями, желая поначалу явиться в печати анонимно.
Сноски к стр. 473
1 Кое-что из «выноски» к «Ликейским островам» Гончаров повторил в предисловии к изданию 1879 г., где с удовлетворением отметил прочный успех книги, хотя и скромно отнес его «к самому предмету» очерков. «Описания дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, особенностей и случайностей путешествия и всего, что замечается и передается путешественниками — каким бы то ни было пером, — всё это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов» (наст. т., с. 81). Свое «перо» Гончаров по-прежнему не склонен оценивать высоко. Он извиняется, объясняя неизбежность своего «неотлучного присутствия в описаниях», и еще раз подчеркивает ограниченность своих возможностей и целей, из его книги «не могло выйти ни какого-нибудь специального, ученого (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия с строго определенным содержанием. Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи — словом, очерки» (там же, с. 82).
2 «Дневник <...> воспоминаний» автора неслучайно предстает в виде писем. Эпистолярная форма является в книге преобладающей потому, что Гончаров очевидно расположен к ней. В «Необыкновенной истории» он так писал о преимуществах эпистолярия: «Эпистолярная форма не требует приготовительной работы, планов, поэтому в ту же минуту удовлетворяет природной страсти — выражаться! Ни лиц не нужно, ни характеров, ни деталей, ничего, что задерживает и охлаждает резвое течение мысли и воображение! Нужен только корреспондент и какой-нибудь интересующий меня сюжет, мысль, что бы ни было: этого и довольно! Я сажусь, как музыкант за фортепиано, и начинаю фантазировать, мыслить, ощущать — словом, жить легко, скоро и своеобразно — и почти так же живо и реально, как и в настоящей жизни!». Эти суждения Гончарова во многом близки словам А. И. Герцена о письмах: «Я за отступления и за скобки всего больше люблю форму писем — и именно писем к друзьям, — можно не стесняясь писать что в голову придет» (Герцен. Т. XVI. С. 158). Ср. также слова Э. Фромантена, автора книг «Одно лето в Сахаре» (1856) и «Год в Сахаре» (1859): «Я избрал форму писем, поскольку она давала ббльшую свободу, позволяла понять самого себя и избавляла меня от необходимости придерживаться строгой системы в повествовании» (Фромантен Э. Одно лето в Сахаре. М., 1985. С. 26).
Сноски к стр. 474
1 Получается, что он вел дневник с целью позднее прочесть отрывки из него приятелям, дабы избежать докучливых расспросов. Но писатель с удовольствием рассказывал о путешествии и сразу после возвращения, и в более поздние годы. Е. А. Гончарова вспоминает его в 1875 г.: «Он сидел на кресле около меня, в гостиной, со шляпой в руках, и говорил о своем путешествии, о многих виденных странах, о фрегате „Паллада”, он оживился, и рассказы его были увлекательны» (Гончаров в воспоминаниях. С. 182); В. М. Спасская пишет о Гончарове 1880-х гг.: «Заходила речь и о кругосветном плавании Ивана Александровича на фрегате „Паллада”, и здесь он более всего оживлялся» (Там же. С. 206). Запомнились рассказы Гончарова Е. И. Утину и А. Ф. Кони (Там же. С. 217, 257).
2 Максимов В. В. Тип повествователя во «Фрегате „Паллада”» И. А. Гончарова (глава «От Кронштадта до мыса Лизарда») // Проблемы метода и жанра. Томск, 1990. Вып. 16. С. 111—112.
Сноски к стр. 475
1 Следуя той же устоявшейся традиции, Достоевский аналогичным образом начинает «Зимние заметки о летних впечатлениях»: «Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное, в десять раз» (Достоевский. Т. V. С. 46).
2 Также реального, а не гипотетического или условно-литературного, как в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина: «Представление о господстве в книге непосредственных дорожных впечатлений Карамзина породило версию, согласно которой в ее основе лежит путевой дневник, хотя никаких следов дорожных записей у нас нет и самый факт их существования проблематичен» (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 534 («Лит. памятники»)).
Сноски к стр. 476
1 В очерке «Два случая из морской жизни» Гончаров писал: «У меня в портфеле сохранился листок дневника, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам: там записано, шаг за шагом, день за днем, всё, начиная от погоды до грозившей нам опасности включительно. Прочитаю вам его почти без перемен, как отрывок из морской жизни, который, может быть, покажется вам любопытен, только вставлю некоторые необходимые объяснения, относящиеся до морского дела, чтоб для вас не встретилось чего-нибудь непонятного» (наст. т., с. 15).
Сноски к стр. 477
1 В. И. Бибиков в мемуарном очерке писал, что «„Фрегат «Паллада”» вместе с „Путешествием в Эрзерум” Пушкина до сих пор остаются неувядаемыми образцами путевых записок» (Гончаров в воспоминаниях. С. 226).
2 О предисловии Гончаров напоминает Льховскому в письме от 5 июля 1857 г., советуя: «Не забывайте, что вы не имеете права хвалить меня». Отчаявшись получить какие-либо известия о предисловии, Гончаров готов был пойти на перепечатку своего собственного, сопровождавшего публикацию «Ликейских островов». С неудовольствием он пишет Льховскому 15 (27) июля 1857 г.: «О предисловии Вы не пишете ничего: я опять вывожу заключение... Не забудьте по крайней мере, если не будет его, дать вместо предисловия мою выноску, напечатанную при „Ликейских островах”». К этому очень волновавшему его сюжету Гончаров настойчиво возвращается в письме от 2 (14) августа 1857 г.: «Что касается до предисловия, то если у Вас выдастся в самом деле свободная минута, moment lucide, пользуйтесь и пишите скорей, не надеясь на то, что еще долго не понадобится и время будет впереди: того и гляди обманетесь. А мне самому, признаюсь, не хотелось бы возиться с этим».
Сноски к стр. 478
1 Подробнее об этой рецензии Льховского см. ниже, с. 531—532.
Сноски к стр. 479
1 Одним из источников этого пародийного фрагмента послужила та «История кораблекрушений», которую дал Гончарову «для успокоения воображения» В. А. Римский-Корсаков (см. ниже, с. 546—547, примеч. к с. 28).
2 На это обратил внимание еще в предисловии к первому изданию книги Льховский, коснувшись заключающего главу «На мысе Доброй Надежды» дополнения «Капская колония в историческом, этнографическом и статистическом очерке»: «Очерк этот, очевидно, стоил большого труда автору и заключает в себе любопытные данные, но он не подходит под общий тон произведения, в котором поэтическая и художественная сторона решительно преобладает и составляет главную задачу автора. Полезные данные могут показаться ненужными и скучными самому любознательному читателю, когда его воображение раздражено и изнежено художественными описаниями сладострастных впечатлений новой природы или когда ум его настроен весело и приятно развлечен течением грациозной и игривой мысли» (1858. Т. I. С. V).
Сноски к стр. 480
1 П. В. Анненков, путевые очерки которого Гончаров высоко ценил, создает своего рода «стихотворение в прозе», посвященное Карамзину и его повести: «Кстати об островах: часа в два ночи в среду на четверг открыл я глаза и вдали увидел огненную точку какого-то маяка. Это было Борнгольм! Маяк показался мне духом одного Русского, плывшего некогда здесь, завидевшего этот остров и создавшего сказку, в которой запутался он сам, но которую Россия читала с жадностью и упоением, так что даже первые познания в географии каждого ребенка начались с тебя, остров Борнгольм, так что и теперь, в годы мужества, не верится, чтобы ты, Борнгольм, мог принадлежать какой-то другой державе, а не России... Этот русский первый прикрепил действующих лиц своих к действительной почве. До него были только острова любви, фантастические государства, небывалые города, носившие иногда, впрочем, имена городов русских; он первый поэтическим чувством сдул все эти призраки и влил в людей и в самую почву жизнь и бытие, живут еще они и до сих пор. Прочтите бесчисленные надписи Лизина пруда, прислушайтесь к говору русских пассажиров, которые просят разбудить себя, как поравняются они с Борнгольмом. А вот уже он начал тонуть в серых волнах Балтики...» (Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 235—236).
2 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры. С. 531.
3 Там же. С. 580.
4 Исследователями отмечается жанровая и тематическая близость «английских» страниц Карамзина и Гончарова: «Жанровая традиция карамзинского „путешествия” логично дает о себе знать очевиднее всего в европейской части книги Гончарова, то есть в письмах из Англии. В них рождается образ этой страны, или, говоря по-другому, создается гончаровский „мир Англии”, во многих параметрах схожий с карамзинским» (Краснощекова. С. 164).
Сноски к стр. 481
1 Вряд ли, однако, прямая полемика с Карамзиным входила в задачи автора книги-путешествия. Правда, В. Б. Шкловский считал, что «Гончаров отходит от опыта Карамзина. <...> О Карамзине нам напоминает описание природы с повторами и обращениями к читателю, ссылка на забытого Геснера (в описании Ликейских островов) и — больше всего — внутренняя полемика с книгой знаменитого зачинателя русской прозы» (Шкловский. С. 225), а Цейтлин предполагал даже, что «шутливый и в высшей степени непринужденный зачин» «Фрегата „Паллада”» содержит пародию на «чувствительные „Письма русского путешественника”» (Цейтлин. С. 136).
Сноски к стр. 482
1 «Теорию дружбы» (и любви) подробнее и в интимном стиле (в книге адресат анонимный и обобщенный) Гончаров излагает в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г., обращаясь именно к «Юниньке». Эта «теория» представляет собой развитие мотивов романа «Обыкновенная история» (часть вторая, глава I; здесь Александр Адуев приводит определения истинной дружбы и любви «двух новейших французских романистов» — см.: наст. изд., т. 1, с. 323—324).
Сноски к стр. 483
1 П. Древе в статье «О представлении неевропейских народов во „Фрегате «Паллада»” И. А. Гончарова» приходит в заключению, что Гончаров нередко обращался к уже устаревшим сочинениям, сведения, как правило, приводил без точных отсылок да и вообще старался ограничиваться собственными непосредственными наблюдениями. Но в главах о Южной Африке, Филиппинах, Корее и Японии он счел необходимым дать более пространные исторические справки (правда, и здесь они в значительной степени случайны и избирательны); с явным удовольствием Гончаров цитирует старинные произведения, акцентируя внимание на характерных стилистических особенностях (самым «любопытным» для него источником стала книга «Описание о Японе» Генриха Гагенара и Фридриха Карона, «современница Телемахиды», — см.: Leben, Werk and Wirkung. S. 287—293).
Сноски к стр. 484
1 Н. Г. Чернышевский в рецензии на книгу Боткина (историческая часть ее была написана самим Боткиным) отмечал, что за последние десять (1847—1857) лет количество путешествий, вышедших отдельными книгами, резко сократилось: кроме «Писем об Испании» он называет лишь книги А. Н. Попова «Путешествие в Черногорию» (СПб., 1847) и В. Д. Яковлева «Италия: Письма из Венеции, Рима и Неаполя» (СПб., 1855). А среди книг, вышедших в предыдущее десятилетие, выделяет следующие: Чертков А. Д. Воспоминания о Сицилии. М., 1835—1836. Ч. 1—2; Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж, в 1836 и 1837 годах. М., 1839. Т. 1—2; Ковалевский Евг. П. Четыре месяца в Черногории. СПб., 1841; Строев В. М. Париж в 1838 и 1839 годах СПб., 1841—1842. Ч. 1—2; Левшин А. И. Прогулка русского в Помпею. СПб., 1843; Жукова М. С. Очерки южной Франции и Ниццы: Из дорожных записок 1840 и 1842 годов. СПб., 1844. Ч. 1—2; Погодин М. П. Год в чужих краях (1839): Дорожный дневник. М., 1844. Т. 1—4; Симонов И. П. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань, 1844; Литке Ф. П. Заметки за границею в 1840 и 1843 годах. СПб., 1845. Заключает Чернышевский перечень пренебрежительной репликой: «Не считаем различных „Путевых писем” и т. п. г-на Греча» (Боткин. С. 225) Знакомство с некоторыми из этих книг, в том числе с сочинениями Погодина и Греча, отразилось и во «Фрегате „Паллада”». По цензурным обстоятельствам Чернышевский не называет книгу А. И. Герцена «Письма из Франции и Италии». Не упоминает ее и Гончаров.
Сноски к стр. 486
1 Б. Ф. Егоров по поводу этих эпикурейских грез в духе знаменитого «Сна Обломова» заметил, что Боткин свою книгу «кончил обломовщиной» (Боткин. С. 280).
2 М. П. Алексеев считает, что стилистика «Фрегата „Паллада”» восходит к литературной манере боткинских писем (Алексеев М. П. «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия // Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964. С. 191). Ср. также замечание А. Г. Цейтлина: «Боткин прокладывает дорогу Гончарову непринужденным тоном своих путевых записок, в которых „личное” постоянно смешивается с картинами испанской жизни. Описание Боткиным кипящего и переливающегося всеми цветами моря или симфонии цветов в горах невольно заставляет вспомнить соответствующие ландшафты „Фрегата «Паллада»”» (Цейтлин. С. 148).
Сноски к стр. 487
1 Боткин, как и Гончаров, не англофил (более того, он даже не еврофил); наслаждаясь комфортом, отдавая должное успехам торговли и промышленности, он «эстетически» предпочитает испанское «средневековье»: «Возле испанских нравов, проникнутых врожденным изяществом, это придуманное, сочиненное изящество англичан, их так называемая фашионабельность, кажется смешною карикатурою и пошлостью» (Боткин. С. 115).
2 Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 195.
Сноски к стр. 488
1 Дюма А. Кавказ. Тбилиси, 1988. С. 208.
Сноски к стр. 489
1 Ж. де Нерваль, автор одной из самых талантливых и популярных книг путешествий, имел серьезные основания писать, откликаясь на статьи Ч. Диккенса: «Как же они счастливы, эти англичане, имея возможность писать и читать целые главы наблюдений, лишенные какой бы то ни было примеси романного сочинительства! В Париже от нас бы потребовали, чтобы все это было усеяно анекдотами и сентиментальными историями, заканчивающимися либо смертью, либо браком. А реалистический ум наших соседей довольствуется абсолютной правдой» (Nerval G. de. Oeuvres. Paris, 1952. Т. 1. P. 103—104).
Сноски к стр. 491
1Бенедиктов писал:
И ты свершишь плавучие заезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста.
<........................>
Лети! И что внушит тебе природ
Тех чудных стран, — на пользу и добро,
Пусть передаст, в честь русского народа,
Нам твой рассказ и славное перо!(Бенедиктов. С. 285).
Сноски к стр. 492
1 По-видимому, Гончаров хотел, чтобы эта глава воспринималась «на фоне» бенедиктовского слова (его отношение к творчеству поэта, очевидно, весьма отличалось от инвектив Белинского). Возможно, он даже сознательно «играет» очевидным несоответствием между приземленным «романным» стилем, доминирующим во «Фрегате „Паллада”», и возвышенным, «божественным» стилем Бенедиктова, постепенно ослабляя и почти устраняя контраст.
Сноски к стр. 493
1 Ср. слова Гончарова в письме к семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г.: «Кланяйтесь Бенедиктову; скажите, что Южный Крест — так себе».
2 В этой и некоторых других главах словесная живопись Гончарова достигает исключительной выразительности; ее можно сопоставить с африканскими картинами французского художника и писателя-романтика Э. Фромантена, в творчестве которого литература вступает в своего рода состязание с живописью, фиксируя «то, что осталось за рамкой картины» (Фромантен Э. Одно лето в Сахаре. М., 1985. С. 25).
Сноски к стр. 495
1 «Любезный друг» в ответном поэтическом послании «представил» описание Альпийских гор, которые недавно посетил. Очерк Гончарова Бенедиктов пересказывает в своем стихотворении, выделяя наиболее запомнившиеся образы:
Недавно, странник кругосветный,
Ты много, много мне чудес
Представил в грамотке приветной
Из-под тропических небес.
Все отразилось под размахом
Разумно-ловкого пера:
Со всею прелестью и страхом
Блестящих волн морских игра,
Все переломы, перегибы,
И краска пышных облаков,
И птичий взлет летучей рыбы,
И быт пролетный моряков,
Востока пурпур и заката,
И звезд брильянтовая пыль,
Живое веянье пассата,
И всемертвящий знойный штиль.(Бенедиктов. С. 464—465).
Сноски к стр. 496
1 «Разбросанные по книге картины тропической природы местами, например в знаменитом описании заката солнца над экватором, возвышаются до истинно поразительной роскоши красок, до истинно ослепительной красоты. Но красоты какой? Спокойной и торжественной» (Венгеров С. Иван Александрович Гончаров (6-го июня 1812—15-го октября 1891): Биографический очерк // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. СПб., 1899. Т. I. С. 16). Более всего Гончаров, действительно, ценит красоту безмятежную, спокойную, идиллическую; в той же главе «Плавание в атлантических тропиках» он мечтает: «...ах, если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко покойна! Если б такова была и жизнь!... Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа — для выделки спокойствия и счастия в лаборатории природы...» (наст. изд., т. 2, с. 122).
Сноски к стр. 497
1 См. об этом ниже, с. 590, примеч. к с. 245. О поэтических аллюзиях во «Фрегате „Паллада”» и других произведениях Гончарова см. также: Rothe H. Zwischenzustand: ein Tjutcěvzitat bei Gončarov // Colloquim Slavicum Basillense: Gedenkschrift fur Hildegard Schroeder. Bern, 1981. S. 675—696.
2 Таким же прохладным прощанием завершит Гончаров и следующую главу «Сингапур»: «Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления; и если возвращусь туда, то без удовольствия и только поневоле» (наст. изд., т. 2, с. 283).
Сноски к стр. 499
1 Антипоэтические настроения и декларации вовсе не имеют подчеркнутого характера. Романтическое, безусловно, занимает видное и законное место в многостильной и многослойной книге Гончарова, которому чужды не романтизм, не поэзия, а клише, штампы, риторические фигуры, закостеневшие образы и расхожие представления, сложившиеся у читателя. Преодоление этих клише — черта, свойственная многим авторам литературных писем и дневников. Л. Н. Толстой в своем швейцарском дневнике остался равнодушен к самым знаменитым, воспетым поэтами и занесенным в путеводители достопримечательностям. Достоевский не испытал никаких возвышенных чувств, рассматривая европейские святыни, которыми некогда восхищался Карамзин. Романтик Ж. де Нерваль писал своему другу Т. Готье (неутомимому путешественнику) в духе Гончарова: «Ты все еще веришь в ибиса, в алый лотос, желтый Нил; ты веришь в изумрудные пальмы, опунцию, корабль пустыни. <...> Увы, ибис — это дикая птица; лотос — обыкновенная луковица; Нил — это грязная вода с мутно-рыжим оттенком; пальма имеет вид потрепанной метлы; опунция — просто-напросто кактус; корабль пустыни встречается разве лишь в состоянии облезлого верблюда; альмеи — это переодетые мужчины, а что касается женщин, то глаза бы на них не глядели!» (Нерваль Ж. де. Путешествие на Восток. М., 1986. С. 434—435).
Сноски к стр. 500
1 Этот образ «синтезирован из ряда психологических, социальных и национальных типов <...> „вечный горожанин”, „скромный чиновник”, „русский путешественник”, который всюду унесет „почву родной Обломовки” на ногах. Все эти лики путешественника проявляются не сразу, а высветившись, начинают складываться в динамичное единство» (Максимов В. В. Тип повествования во «Фрегате „Паллада”» И. А. Гончарова (глава «От Кронштадта до мыса Лизарда») // Проблемы метода и жанра. Томск, 1990. Вып. 16. С. 113; см. также: Максимов В. В. Идеологическая позиция героя во «Фрегате „Паллада”» И. А. Гончарова // Проблема метода и жанра. Томск, 1994. Вып. 18. С. 140—151).
2 По мнению Ю. М. Лотмана, «специфика текста Гончарова заключается в том, что сквозь подвижность географических точек зрения просвечивает постоянство авторской позиции. Моряк-путешественник одновременно находится в „своем” мире корабля и в „чужом” мире географического пространства. Соответственно он постоянно меняет свое положение по отношению к внутреннему пространству корабля. Таким образом, пространство задано одновременно в двух противоположных аспектах. У Мериме „экзотический” мир получает специфику на фоне мира „цивилизованного” и по контрасту с ним. Фактически своеобразием наделен именно экзотический мир. У Гончарова релятивны оба пространства, качество каждого из них как бы не существует само по себе, в отрыве от антикачества противоположного пространства» (Лотман Ю. М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. 1997. № 9. С. 160).
3 Е. А. Краснощекова считает, что во вселенной Гончарова «многообразие „миров” не укладывается в простую антиномию только двух возрастов. Каждый своеобразный „мир” имеет свой „возраст”, причудливо сочетающий приметы двух „основных” (детство — юность и взрослость — зрелость), и именно этот конкретизированный „возраст” становится образным лейтмотивом при воссоздании стиля жизни и ментальности той или иной страны» (Краснощекова. С. 176).
Сноски к стр. 501
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 113. Философ приводит и такие слова Гегеля, характеризующие европейское отношение к другим мирам: «После кругосветных путешествий мир стал для европейцев круглым. То, что не было ими покорено, либо не стоит того, либо еще будет покорено» (Там же. С. 97).
2 Толерантность и осторожность — важные черты мировоззрения Гончарова, отразившиеся во многих его произведениях. Так, в предисловии к роману «Обрыв» он писал: «Мы слишком молоды, история нашей умственной жизни еще не двинулась настолько вперед, чтобы мы могли уже из своей эпохи видеть очерк будущего ее здания...».
3 Гегель Г.-В.-Ф. Соч. М., 1935. Т. VIII. С. 97—207.
4 Критик писал в цикле статей «Россия до Петра Великого»: «Азия — страна так называемой естественной непосредственности, Европа — страна сознания; Азия — страна созерцания, Европа — воли и рассудка. Вот главное и существенное различие Востока и Запада, причина и исходный пункт истории того и другого»; в Азии господствуют «неограниченный деспотизм и безусловное рабство <...> совершенный произвол, с одной стороны, и совершенное отсутствие чувства законной приверженности и непоколебимой верности — с другой»; «Сознание азиатца спит, ибо заключено в магическом кругу младенческой естественности»; Восток — это царство «неподвижности», «окаменелости» (Белинский. Т. IV. С. 13, 14, 16, 18).
5 См. об этом: Васильева С. А. Философия истории в книге И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада”»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1998. С. 6—11.
6 См. об этом ниже, с. 518—523.
7 Гегель Г.-В.-Ф. Соч. Т. VIII. С. 94.
8 См. об этом ниже, с. 511—514.
Сноски к стр. 502
1 Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 296.
2 Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 224.
Сноски к стр. 503
1 Сравнение русских и английских слуг в книгу Гончарова не вошло, оно осталось в письмах.
Сноски к стр. 504
1 Далее Гончаров, видимо, чтобы его не упрекнули в предвзятом взгляде и критиканстве, посвящает несколько лирических страниц англичанкам и их небесной красоте, совпадая здесь с восторженными мнениями Карамзина и Достоевского, но не забывая уточнить: «Кажется, женщины в Англии - единственный предмет, который пощадило практическое направление» (наст. изд., т. 2, с. 53).
Сноски к стр. 506
1 Обломовка здесь (в отличие от «Сна Обломова») идеализирована, изображена мягко, сочувственно, даже сентиментально, что сказалось и в стиле: «Стало быть, он (барин) никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного, не брызнет слеза на отекшие от сна щеки?» (наст. изд., т. 2, с. 65).
Сноски к стр. 507
1 Н. И. Барсов пишет о «некотором англофильстве» Гончарова, предполагая, что здесь не обошлось без влияния адмирала Путятина, убежденного англофила, и его жены — «природной англичанки» (Гончаров в воспоминаниях. С. 151). В. А. Римский-Корсаков свидетельствует: «Путятин — прежде всего страстный англоман. Уважение ко всему английскому доходит у него до смешного: он даже готов поверить всякой нелепости, лишь бы она была английской, и, по его мнению, что хорошо в Англии, то хорошо и у нас» (Римский-Корсаков. С. 47).
Сноски к стр. 508
1 Прогнозы Гончарова отчасти перекликаются с размышлениями Пушкина о способах приобщения к современной цивилизации черкесов: «Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением века: проповедание Евангелия. <...> Кавказ ожидает христианских миссионеров» (Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1938. Т. VIII. С. 449). Безусловно близок Гончарову призыв Пушкина к проповеди Евангелия на Кавказе, достигающий большой эмоциональной силы в отрывке, который не был включен в текст «Путешествия в Арзрум»: «Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве Апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, — и никто еще из нас не подумал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братиям, доныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних Апостолов и новейших римско-католических миссионеров.
Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны вы потупить голову и безмолвствовать... Кто из вас, муж Веры и Смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи — но оживленным теплым усердием и смирением? Какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака или странствующего семейства диких, нужда, голод, иногда — мученическая смерть» (Там же. С. 1035—1036).
Сноски к стр. 510
1 Ср. наблюдения Римского-Корсакова, которому запомнилось, как «сквозь безобидную трудолюбивую толпу прорывается энергическою, поспешною поступью дюжая, вскормленная фигура англосаксонского типа, без церемонии оттаскивает одних в стороны за косы, других подталкивает пинками, третьим топчет ноги, а шлепающая исподволь своими неуклюжими башмаками „черноволосая” порода спешит отскакивать во все стороны от грозного Тифона» (Римский-Корсаков. С. 170).
Сноски к стр. 511
1 Свое раздражение по поводу активности американцев высказывал и Римский-Корсаков: «Давно ли, кажется, их самих можно было назвать не иначе [как] только переселенцами, еще не успели они хорошенько заселить и свои Штаты, а уже ищут новых приобретений, новых pied-à-terre» (Римский-Корсаков. С. 115).
Сноски к стр. 512
1 Это рассуждение очень близко (даже текстуально) словам Гончарова в письме к Норову, где сказано об американцах подробнее и определеннее: «Повязка падает с глаз, и они (японцы) не могут не сознаться сами себе, что их так хитро придуманная система держаться взаперти от остального мира, в которую они твердо веровали, падает в одно мгновение, как затея школьников при появлении учителя. Им остается только сквозь слезы сознаться, что они виноваты, как дети, и как детям отдаться под руководство старших. Кто будут эти старшие? С одной стороны, явилась толпа отважных и предприимчивых американцев, которые нелегко отказываются от надежды на успех, имея в виду выгоды; с другой — стучится в заветные ворота горсть русских матросов. Русские штыки, пока еще мирные и безобидные, уже блеснули на японском берегу при церемониальном посещении нами, с караулом и музыкою, нагасакского губернатора; там уже раздался наш народный гимн и команда русского офицера „Марш вперед!”. Avis au Japon!
Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за ними, кому бы ни было, всё равно, но скоро суждено внести в Японию другую веру, жизнь, новые силы, огонь и свет вместо темного невежества и слепого, ребяческого понятия о мире». О блеснувших на японском берегу русских штыках Гончаров пишет и Евг. П. и Н. А. Майковым из Нагасаки 15 (27) сентября 1853 г.: «Мы шли по узенькой улице, поднялись на какую-то лестницу. Колонна солдат змеилась, идя по лестнице, музыка далеко разносилась по берегу, по сторонам стояли какие-то чучелы с ружьями (в чехлах) и сонно смотрели на нас. Я сам думал, не во сне ли я? Нет: явно слышу крик офицера по-русски: „Левое плечо вперед — марш!” — потом стройный топот шагов, вижу блеск штыков, и вот колонна скрылась под какие-то ворота, музыка заиграла глухо и вдруг стихла: мы пришли».
Сноски к стр. 513
1 Об американском нажиме на Японию Гончаров пишет Майковым в упомянутом выше письме, сообщая также, что в связи с начавшейся войной фрегат, возможно, вынужден будет уйти к берегам дружески расположенной к России Америки: «Американцы пристают к японцам с другой стороны. Те вломились прямо в Иеддо и, оставив письмо, ушли, сказав, что придут за ответом через полгода. Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситху, или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем».
Сноски к стр. 514
1 С обычной осторожностью в прогнозах Гончаров говорит: «Здесь всё может быть, чего в других местах не бывает» (наст. изд., т. 2, с. 350).
Сноски к стр. 515
1 Размышлял о миссии России на Востоке (также в сопоставлении со стремлением Англии к господству над морями) и Римский-Корсаков: «Будет ли Англия висеть над всем миром, удесятеряться в государствах, ею созданных, или придавят детки матушку — Бог знает. Но ежели Англия, создавая колонии, будет сама их освобождать, она оставит по себе в истории память и славу, которую вряд ли что затмит. Чем-то наша Русь ознаменует себя в летописи человечества?! Почетно было бы в этом состязаться с Англией. Что даст Бог, — а отчаиваться не надо: в нашем характере есть данные, не уступающие англосаксонским в силе и, может статься, лучшие по своей натуре, чем их ненасытная жажда приобретения» (Римский-Корсаков. С. 320).
2 Мечтает Гончаров (не очень уверенно) и о русских миссионерах в Японии: «Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда слово Божие и водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то? Не даст ли Бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому?». Видится Гончарову в Нагасаки и русская фактория, рядом с английской и американской (наст. изд., т. 2, с. 449, 454).
Сноски к стр. 516
1В 1860-е гг., когда Бодиско служил в Иркутске, он продолжал эту курьерскую деятельность, в частности доставил в Лондон письмо от Бакунина Герцену и Огареву. По всей видимости, Бодиско были адресованы незаконченная статья Герцена середины 1850-х гг. «Premier lettré» и публицистический цикл «Письма к путешественнику» (1865).
2 Дружинин А. В. Повести; Дневник / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, В. А. Жданов. М., 1986. С. 378 («Лит. памятники»).
3 Публикация очерков прервалась в связи с изменением места службы автора, о чем сообщалось в редакционном примечании: «Отъезд г-на Бодиско на устье Амура по необходимости замедляет печатание следующих писем» (С. 1856. № 6. С. 262).
Сноски к стр. 517
1 Какое-то (очень короткое) время Герцен подумывал о переселении в Америку, куда его звал Бодиско; об этом он писал М. К. Рейхель 26 августа (7 сентября) 1853 г.: «Уж не в самом ли Деле в Америку уехать...» (Герцен. Т. XXV. С. 113) — и 24—25 января (5—6 февраля) 1854 г.: «От Бод<иско> из Вашингтона получил письмо, ему очень нравится Америка. Зовет туда — но мы еще погодим» (Там же. С. 150).
Сноски к стр. 518
1 Позднее, в «Письмах к путешественнику», Герцен вернется к параллели «Россия — Америка», формулируя свою мысль таким образом, что станет более очевидным отличие его демократической и социалистической точки зрения от гончаровской, преимущественно просветительской и патриотической: «Бессословная, демократическая Америка и идущая к бессословности крестьянская Русь остаются для меня по-прежнему странами ближайшего будущего. История, вопреки агрономам, заводит трехпольное хозяйство, и пока Европа, истощенная своими богатыми урожаями, лежит под паром, она пашет и боронит два другие поля» (Герцен. Т. XVIII. С. 349). В начале второго письма Герцен уточнял: «Северо-Американские Штаты и Россия — два полюса той социально-гражданской антиномии, к которой примыкает западное развитие со всеми своими перестройками и переворотами. Они оба, за границей старой арены, представляют два противоположные, но неоконченные решения и потому скорее дополняющие друг друга, чем исключающие. Полная жизни и развития противоположность — без замкнутости, без законченности, без физиологической розни, не вызов на вражду и бой, не условие на безучастную посторонность, а на труд для снятия чем-нибудь более широким формального противуречия, хотя бы взаимным пониманием и признанием» (Там же. С. 350). Совершенно очевидна разность подходов, определившая и иные, чем у Герцена, акценты в представлениях Гончарова о будущем развитии Европы, России, Америки. Закономерно, что Гончаров большое внимание уделяет деятельности миссионеров, а Герцен просто обходит этот аспект просветительской деятельности России в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сноски к стр. 521
1 Римский-Корсаков писал о католических миссионерах: «Главная же причина успехов католицизма состоит в том, что его агенты имеют удивительное искусство подчиняться и обстоятельствам, и людям, в среду которых они заброшены. Они тотчас же надевают народный костюм, выучиваются народному языку, заводят больницы, сами в них ухаживают за больными, вообще не только не гнушаются, но и стараются смешиваться с народом» (Римский-Корсаков. С. 167). Протестантские миссионеры, считает он, «по большей части люди нравственные и благонамеренные и даже, пожалуй, более, что называется, порядочные, чем миссионеры католические, но последние преданы делу распространения христианства с большим рвением, нежели первые» (Там же. С. 169).
Сноски к стр. 522
1 О нем см. подробнее ниже, с. 753—754, 769—771, примеч. к с. 632 и 688.
Сноски к стр. 524
1 Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 80. Ср. реакцию А. Н. Майкова, в письме к которому от 11 апреля 1859 г. Гончаров вспоминал: «...еще при чтении моих путевых записок Вы как-то уклонялись более ко сну; мне просто было совестно звать Вас на чтение».
2 В главе «Русские в Японии» Гончаров пишет: «Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день» (наст. изд., т. 2, с. 452).
3 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. XI, кн. 2. С. 189. «Увлекательность» книги отметил и А. Н. Майков, посвятивший Гончарову-путешественнику стихотворение, которое начиналось строфой:
Море и земли чужие,
Облик народов земных —
Все предо мной, как живые,
В чудных рассказах твоих...(Майков А. Стихотворения.
СПб., 1858. Кн. 2. С. 291).Сноски к стр. 525
1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. II. С. 592.
Сноски к стр. 526
1 Вероятно, тот же рецензент вскоре заметит по поводу другого очерка: «„Сингапур” — лучший из всех отрывков путешествия г-на Гончарова» (СО. 1857. № 4. С. 90).
2 Ср. мнение авторов вступительной статьи к книге «Великосветские обеды» (СПб., 1996), в которой часто цитируется «Фрегат „Паллада”»: «Говоря о кухне, мы не сможем избежать суждений о ней современника наших обедов и известного знатока и ценителя стола И. А. Гончарова. Не случайно его описание кругосветного путешествия — это во многом рассказ о его пути от английского обеденного стола к португальскому, японскому и, наконец, к изысканному французскому столу якутского губернатора» (Лотман Ю. М., Погосян Е. А. От кухни до гостиной // Великосветские обеды. СПб., 1996. С. 37).
Сноски к стр. 527
1 Попов В. П. Гончаров как писатель // Общезанимательный вестн. 1857. № 13. С. 481.
2 Острогорский В. Л. Очерки литературной деятельности И. А. Гончарова... //Дело. 1887. № 1. С. 68.
3 Ирония, конечно, была направлена на то, чтобы заклеймить писателя, готовившегося стать цензором: «Гончаров просто хотел добросовестно приготовиться к должности ценсора; где же можно лучше усовершиться в ценсурной хирургии, в искусстве заморения речи человеческой, как не в стране, не сказавшей ни одного слова с тех пор, как она обсохла после потопа?» (Герцен. Т. XIII. С. 104).
4 Не случайно появление первых отдельных очерков послужило одним (если не главным) из поводов для организации великим князем Константином Николаевичем, в это время председателем Русского географического общества и деятельным покровителем «Морского сборника», так называемой литературной экспедиции 1855—1857 гг., участники которой, «молодые даровитые литераторы», должны были представить свои «исследования» в журнал: «Желаю не каких-либо донесений, а прямо статьи для „Морского сборника”, вроде прекрасных статей г-на Гончарова» (цит. по: Максимов С. В. Литературная экспедиция (по архивным документам и личным воспоминаниям) // Максимов С. В. Литературные путешествия. М., 1986. С. 81—86). С. В. Максимов, один из этих литераторов, писал: «После блестящего образца, обогатившего отечественную литературу и представленного И. А. Гончаровым <...> Константин Николаевич снова обратился к содействию литературных деятелей» (Там же. С. 103). Получил такое предложение и сибирский друг Ф. М. Достоевского, юрист и археолог А. Е. Врангель: в 1857 г. он был командирован в качестве секретаря начальника экспедиции к берегам Восточного Китая, Японии и к устью Амура. В одном из писем к Достоевскому он писал: «На днях представлялся Константину Николаевичу <...> и, кроме дипломатической переписки, получил поручения своего предшественника Гончарова...» (Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3. С. 263). Врангель опубликовал очерк «С мыса Доброй Надежды» (МСб. 1859. № 1. Ч. IV. С. 1—14), содержавший ряд прямых перекличек с главой «На мысе Доброй Надежды» «Фрегата „Паллада”» и носивший явно подражательный характер.
Сноски к стр. 528
1 Подразумевается разбор Н. Г. Чернышевского (см. выше, с. 525).
Сноски к стр. 529
1 Дружинин А. В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С. 125—141. Гончаров, прочитав этот отзыв за несколько дней до выхода журнала, 10 января 1856 г. писал Н. А. Некрасову: «Статью о себе я третьего дня проглядел у Тургенева: поджигающая к дальнейшему труду, притом в ней так много угадано и объяснено сокровеннейших моих стремлений и надежд!».
2 Позднее в традиционном ежегодном обзоре русской литературы за прошедший 1858 г. критик той же газеты писал о «Фрегате „Паллада”»: «...большая часть этой книги была уже помещена в журналах; да и она, при всех своих достоинствах, не есть собственно творение литературное, создание оригинальное...» (СПч. 1859. 3 янв. № 3).
Сноски к стр. 531
1 Ср. слова из приведенного выше отзыва «Северной пчелы», в котором говорилось, что «Фрегат „Паллада”» книга «дельная, целомудренная, которую можно читать и старикам, и молодым, и взрослым, и подрастающим. Согласитесь, что это редкость в наше время» (СПч. 1858. 13 мая. № 102).
2 Таков, например, отзыв рецензента «Отечественных записок», напомнившего читателям, что отдельные «увлекательные рассказы» писателя появились именно в этом журнале и что теперь, собранные в одну «весьма изящную» книгу, они, конечно же, привлекут к себе внимание «прелестью рассказа». «Г-н Гончаров так умеет взять в руки читателя, — пишет автор, — что, начав читать его книгу, не оторвешься от нее, пока не дочитаешь до конца. Этим даром немногие могут у нас похвастаться» (ОЗ. 1858. № 6. Отд. III. С. 9).
Сноски к стр. 532
1 Ср., например отклик М. Ф. Де-Пуле, рассматривавшего книгу Гончарова с такой точки зрения: «Сочинение г-на Гончарова не ученое, а поэтическое описание кругосветного путешествия. <...> С этой же точки зрения должна смотреть на этот труд критика и не требовать от него того, чего он не дает, что не входило в планы автора, — научного интереса...» (Атеней. 1858. Ч. 6. С. II). Гончаров обратил внимание на этот «весьма благоприятный» отзыв (см. ниже, с. 799).
Сноски к стр. 533
1 Григорьев А. А. Литературная критика. М., 1967. С. 332—333.
2 См.: Там же. С. 583.
Сноски к стр. 534
1 Появившиеся следом за «Фрегатом „Паллада”» «путешествия» в большей или меньшей степени испытали на себе литературное влияние книги Гончарова. Это очерки И. И. Льховского «Сан-Франциско» (МСб. 1861. № 1, 2, 11. Ч. III) и «Сандвичевы острова» (Там же. 1862. № 2. Ч. III); «Морская поездка» и «Путевые очерки» А. Ф. Писемского (Там же. 1857. № 4. Ч. IV) и «Корабль „Ретвизан”» Д. В. Григоровича (очерки печатались в 1859—1863 гг. на страницах «Морского сборника», а также «Современника» и «Времени») и др. О степени влияния Гончарова на Григоровича можно судить уже на основании того, как последний определял свою цель: «...рисовать корабельную жизнь, схватывать общие черты стран, мимо которых проходим, наблюдать обычаи чужеземных берегов и стараться, по возможности, вести параллель между этими обычаями и обычаями нашего родного берега» (Григорович Д. В. Полн. Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1896. Т. IX. С. 144). Очерки «Корабль „Ретвизан”» закономерно сравнивались читателями и критиками с «Фрегатом „Паллада”». Н. Рыкачев, рецензируя очерки Григоровича, с удовлетворением отмечал: «Было время, когда русская публика знала о море из одних только романов Фенимора Купера и капитана Мариета; о наших мореплавателях имели только самое смутное понятие и едва подозревали, что у нас есть флот, есть моряки, житейская обстановка которых совершенно не та, что прочих смертных. Время это миновало благополучно благодаря „Морскому сборнику”, книге Гончарова, путевым запискам г-д Григоровича, Вышеславцева, Максимова и Льховского. Теперь у нас начинают интересоваться морскою жизнью, начинают знакомиться с нею...». Но одновременно критик писал и о «неполноте очерков морского быта г-д Григоровича и Гончарова», которые «очень мало касались главных вопросов морского быта»: «Палуба корабля представляется им чем-то вроде золотой нивы, бархатных лугов с одиноко растущими ветлами и серыми, вросшими в землю избами. Везде ищут они народный элемент и радуются, когда под синей матросской рубашкой и лакированной шляпой, где-нибудь на поэтических берегах Средиземного моря, на пустынных островах Бонинсима или на мысе Доброй Надежды, встречают старых приятелей <...> под новыми образами. <...> Отдавая должное их наблюдательности и желанию отыскать в матросе черты национальности, мы не можем, однако же, согласиться с мыслью, что в этих неполных очерках заключается морская жизнь». Впрочем, критик счел необходимым тут же уточнить мысль: «Все вышесказанное касается вообще случайных мореплавателей и скорее относится до г-на Григоровича, чем до г-на Гончарова» (МСб. 1862. № 5. Критика и библиография. С. 1—17).
Сноски к стр. 535
1 См. также: Орнатская Т. И. Достоевский и Гончаров // И. А. Гончаров: (Материалы юбилейной Гончаровской конференции 1987 года). Ульяновск, 1992. С. 107—114.
2 В «Зимних заметках о летних впечатлениях» «обломовским» страницам «Фрегата „Паллада”» соответствует глава 3 («и совершенно лишняя»), в которой Достоевский лукаво извиняется (почти в духе Гончарова): «Но что это? Куда я заехал? <...> Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень про нашу русскую Европу раздумался; простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что ж уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя» (Достоевский. Т. V. С. 63—64).
Сноски к стр. 536
1 См., например: Н. Т-н. Библиографическая заметка: («Фрегат „Паллада”» в новом издании) // Донские областные ведомости. 1879. 29 авг. № 67.
Сноски к стр. 537
1 Миллер О. Русские писатели после Гоголя: Чтения, речи и статьи. 3-е изд., изм. и доп. СПб., 1886. Ч. 2. С. V.
Сноски к стр. 538
1 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1978. Т. XIV—XV. С. 34.
2 Там же. С. 889.
3 См. в неизданной монографии ученого «Путешествие вокруг света Ильи Обломова»: («Фрегат „Паллада”» по новым материалам) (хранится: ИРЛИ, ф. 700). Ср. слова А. Ф. Кони из статьи 1911 г. «<Некоторые вопросы авторского права>». Осуждая шовинистические настроения в русском обществе, пагубно влиявшие на ход русско-японской войны, он напоминал: «В 1857 г. вышла книга Гончарова „Фрегат «Паллада»”, где с тонкою наблюдательностью были изображены коренные свойства японцев <...> их стойкость и настойчивость, их вера в себя и страстная любовь к родине, их упорная работоспособность в преследовании твердо поставленной цели, их презрение к жизни и тонкое искусство в защите своего права. Как было бы полезно своевременное знакомство русского народа с этими свойствами „вождей восточных островов” вместо близорукой похвальбы и пошлого издевательства над „япошками” и „макаками” и лубочных картин, изображавших русского силача, сталкивающего плечиком сидящего на лошади микадо в пропасть!...» (Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. VII. С. 300).
Сноски к стр. 539
1 Об отношении Гончарова к переводам своих произведений см.: наст. изд., т. 1, с. 750.
2 Подробнее о восприятии Гончарова в Чехии см.: Drews P. Zur Gončarov-Rezeption in der Tschechischen Literatur // I. A. Gončarov: Beitrage zu Werk und Wirkung / Hrsg. von P. Thiergen. Кöln; Wien, 1989. S. 3—14 (Baustein zur Geschichte der Literatur bei den Slaven; Bd. 33).
3 Gončarov I. A. Od Jakutska do Irkutska: (Uryvek z «Fregat „Pallade”») // Květy. 1866. № 32. S. 378—382; № 33. S. 390—392; № 34. S. 406—407; Gončarov I. A. Atlanticky oceán a ostrov Madeira: (Z cestopisu «Fregat „Pallade”») // Květy. 1867. 1 pololeti. S. 276, 286—288; Gončarov I. A. Cesta po Jakutské oblasti v Sibiri // Světozor. 1871. Pril. k № 34. S. 406—407; Pril. k № 35. S. 418—419; Gončarov I. A. Kapštat / Prel. Th. Vodička // Světozor. 1874. Pril. k № 49. S. 585—586; Pril. k № 50. S. 597; № 51. S. 607—608.
4 Гончаров И. А. Тропическото небе над морето; Тропическа гора // Костов С., Мишев Д. Христоматия по изучаване словесността. Пловдив, 1888. Т. I. С. 79—80, 89—100.
5 Gontcharof I. A. Le ciel des tropiques: (Voyage de la frégate «Pallas») // La littérature russe, notices et extraits des principaux auteurs depuis les origines jusqu’à nos jours, par L. Leger. Paris, 1892. P. 503—507; 2-e éd, revue et augmentéee. Paris, 1899.
Сноски к стр. 540
1 Записки о плавании Путятина в Японию. / Пер. Такасу Дзисукэ //Дайнихон исин сирё. Токио, 1939. Т. 2, ч. 1. С. 91—94, 125—138, 228—233, 246—247; Т. 2, ч. 2. С. 250—263.
2 Записки о плавании в Японию / Пер. Такано Акира и Симада Ё. Токио, 1969. Сведения о японских переводах предоставлены профессором Кадзухико Савада.
3 Сборник исторических материалов о восстании «Сяо дао хуэй» в Шанхае. Шанхай, 1980. С. 697—721.
4 Goncharov I. Voyage of the Frigate «Pallada» // Travel Accounts: Travel Accounts of the Islands, 1832—1858. Publications of the Philippinians Book-Quid. 1974. N 22. P. 153—213.
5 Gontscharow I. A. Die Fregatte «Pallas» / Deutsch bearb. und hrsg. von A. Luther. Berlin, 1925 (Reisebilder; Bd. 5) (переизд.: Stuttgart, 1967).
6 Gontscharow I. A. Fregatte «Pallas» / Deutsch von H. Wolf. Berlin, 1953.
7 Gontscharow I. A. Briefe von einer Weltreise, ergänzt durch Texte aus der «Fregatte „Pallas”» / Hrsg. und űbers. von E. Műller-Kamp. Hamburg; Műnchen, 1965 (переизд.: Zűrich, 1982; Műnchen, 1990).
8 Gonczarow I. A. Fregata «Pallada» / Tlum. R. Andeski; Przejrzel i skrócil Z. Fedecki. Warszawa, 1960.
9 Goncharov I. A. The Voyage of the «Frigate „Pallada”» / Ed. and translated by N. W. Wilson. London, 1965.
1010 Goncharov I. A. The Frigate «Pallada» / Ttanslated by K. Goetze. New York, 1987.
Сноски к стр. 541
1 Gončarov I. A. Fregata «Pallade»: Cestovní obrázki / Prel. St. Minaŕík. Praha, 1927 (переизд.: 1951, с предисл. С. Д. Муравейского).
2 Gonciarov I. A. Tutte le opere narrative. V. 2: Une stoira comune; La fregata «Pallada» / Lucio Dal Santo e De Dominicis Jorio Giacinta. Milano, 1970.
3 Гончаров И. А. Фрегата «Паллада»: Лътеписи / Прев. от рус. Сидер Флорин. Варна, 1977. Т. 1—2 (Библ. Морета, брегове и хора; № 36, 37).
4 Gontcharof I. A. La Frégate «Pallas» / Traduit du russe par Suzanne Rey-Labat; préface par Jacques Catteau. Paris, 1995.
Сноски к стр. 798
1 Цензуровал «Подснежник» сам Гончаров; его очерк был отдан на просмотр цензору Д. Мацкевичу.
2 Об этом журнале подробнее см.: наст. изд., т. 1, с. 613—619.
Сноски к стр. 799
1 Эту мысль, как свидетельствует письмо к И. И. Льховскому от 5 ноября 1858 г., Гончаров разделял уже давно: «О „Фрегате «Паллада»” сейчас прочел я в „Атенее” весьма благоприятный отзыв, где автор доказывает, что глупо созидать детскую литературу, что она заключается уже готовая в недетской литературе». Ср. слова А. П. Чехова из письма к врачу-издателю Г. И. Россолимо от 21 января 1900 г.: «Писать для детей вообще не умею, пишу для них раз в 10 лет и так называемой детской литературы не люблю и не признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых. Андерсен, „Фрегат «Паллада»”, Гоголь читаются охотно детьми, взрослыми также» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1980. Т. IX. С. 19).
2 Ср. два рассказа Гончарова в изложении А. Ф. Кони: «Особенно помнится мне его рассказ о наших матросиках, которые покатывались со смеху, указывая пальцами на голые колена двух неподвижно стоявших у одного из лондонских дворцов часовых в шотландском костюме, красных от гнева, но покорных дисциплине. „Что вы тут делаете? — спросил их Гончаров. — Чему смеетесь?” — „Да ты посмотри, ваше благородие, королева-то им штанов не дала!”. Или другой рассказ о том, как в окрестностях Капштадта, подойдя к кучке матросов, что-то любопытно разглядывавших, Гончаров увидел на ладони одного из них огромного скорпиона, тщетно силившегося пробить ядовитым хвостом толстый, сплошной мозоль на руке, привыкшей скользить по вантам. „Что ты? Брось, брось! — воскликнул Гончаров. — Он тебя до смерти укусит!”... — „Укусит? — недоверчиво спросил матрос, презрительно скосив глаза на скорпиона. — Этакая-то сволочь?! Тьфу!”. И он бросил скорпиона на землю, раздавив его необутой для прохлады ногой» (Гончаров в воспоминаниях. С. 257). Еще один рассказ, сохранившийся в памяти Кони, см. выше, с. 408.
Сноски к стр. 802
1 Складчина: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов... С. III.
2 Имеется в виду замысел первого очерка цикла «Слуги старого века» (1888).
3 Не исключено, что в это же время им была предпринята попытка вернуться к оставленным во время завершения первого отдельного издания книги «Фрегат „Паллада”» материалам, позднее, в 1891 г., составившим очерк «По Восточной Сибири» (см. об этом ниже, с. 807).
Сноски к стр. 803
1 Характерно, что все эти береговые «опасности» в 1860—1870-е гг. являлись предметом внимания Гончарова-публициста (см.: Гайнцева Э. Г. И. А. Гончаров и «Петербургские отметки»: (к атрибуции фельетонов в «Голосе») // РЛ. 1995. № 2. С. 163—180).
Сноски к стр. 807
1 «Восстание 14 декабря и сами декабристы составляют теперь историческую страницу в русской жизни и прятаться им не нужно», — так объяснял Гончаров причину возвращения к оставленным материалам в очерке «По Восточной Сибири» (письмо к Д. Н. Цертелеву от 2 января 1891 г.).
Сноски к стр. 808
1 См.: наст. изд., т. 2, с. 634, 635, 644 и далее.
2 Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. VIII. С. 109—110.
Сноски к стр. 809
1 В письме от 29 декабря Гончаров пояснял, почему он не хочет раскрывать это имя: «Что касается до П. (Петрашевского), то хотя он тоже, по словам князя <М. С. Волконского>, умер, но все-таки имя его следует печатать под одной заглавной буквой П., так как многие из его современников и участников этого дела еще живы».
Сноски к стр. 810
1 Возможно, имеется в виду анонимный положительный отзыв в № 2 «Книжек „Недели”» (разд. «Литературная летопись»).
2 Золотое руно. 1993. № 1. С. 152.
Сноски к стр. 825
1 В официальном ходатайстве от 28 августа 1852 г., поданном Путятиным в Министерство финансов, значилось, — что Гончарову поручались «письменные дела и производство отчетности» (РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, № 5794, л. 71).
Сноски к стр. 826
1 «Я вел и веду общий журнал <...> большую часть событий я обязан вносить в общий журнал» (письмо к семье Н. А. Майкова от 17 (29) марта 1853 г.); «...чуть выдается свободная минута, надо приниматься за казенный журнал» (письмо этим же адресатам от 25—26 мая (6—7 июня) 1853 г.).
2 Так, в письме к А. Н. Майкову от 20 сентября (2 октября) 1853 г. Гончаров писал: «...депеши, и бумаги к японцам (по-русски) — всё я пишу». А о. Аввакум отметил в дневнике 30 октября 1853 г.: «... Гончаров рассердил меня защищением своей бестолковой бумаги, которую я переводил» (Аввакум. С. 64).
3 Между этим «проектом» и окончательной «бумагой о церемониале» прошло довольно много времени (по тексту «Фрегата „Паллада”» получается, что прошел один день). В. А. Римский-Корсаков пишет: «Так японцы имеют терпение торговаться по целым часам, уступая или запрашивая шаг за шагом, ради какой-нибудь формальности. О церемониале свидания адмирала с губернатором переговоры длились целую неделю, и целый день речь шла о том, где и как губернатору встретить адмирала» (Римский-Корсаков. С. 139).
Сноски к стр. 828
1 Отчеты с других судов (шхуна «Восток», корвет «Оливуца», транспорт «Князь Меншиков») составлялись их командирами. Ср. слова В. А. Римского-Корсакова в письме от 5 декабря 1853 г. к родителям из Шанхая: «Шхуна в доке, красится и перевооружается, а я ежедневно просиживаю до поздней ночи за отчетами о своей экспедиции, поспешая окончить их к отправлению курьера» (Римский-Корсаков. С. 131; курсив наш. — Ред.).
2 Об этом писатель сообщал Н. А. Гончарову в Симбирск 1 декабря 1855 г.
3 Ср. письмо Гончарова к Е. В. Толстой от 14 ноября 1855 г.: «Адмирал Путятин <...> просит меня у моего начальства на два месяца — писать для государя отчет за всю экспедицию. Много работы, надо написать целую книгу...» (курсив наш. — Ред.).
Сноски к стр. 829
1 Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 177. Высочайший приказ по гражданскому ведомству «о награждении Гончарова, вне правил», этим чином последовал 25 декабря.