I
II
III
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
МАСТЕРСТВО
ГОГОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1934 • ЛЕНИНГРАД
IV
Переплет и форзац
Л. Р. МЮЛЬГАУПТА
Типография „Коминтерн“ ФЗУ им. КИМ’а Ленинград Красная, 1.
V
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга Белого о Гоголе — большая и нужная работа. Я, впрочем, вполне согласен с автором в том, что по-настоящему нужной она скажется главным образом для людей его собственного цеха; это — книга, написанная не для читателей, а для писателей. Нельзя сомневаться в том, что писатели, мастера словесного искусства, найдут в ней много для себя полезного, узнают из нее много нового о своем собственном ремесле. Она будет способствовать тому, чтобы люди, имеющие орудием своего воздействия на общество и историю художественное слово, осознали приемы пользования этим орудием, проверили и изощрили собственные методы его употребления.
В этом — оправдание книги Белого и ее ценность.
Революция языка, революция приемов художественной прозы продвинулась у нас, подгоняемая коренной, неслыханной по размаху и глубине ломкой социальных отношений, достаточно далеко. Но, кажется, осознание происшедших и происходящих в этой области сдвигов не поспевает за ходом последних; и здесь теория значительно отстает от практики. Во всяком случае книга Белого о Гоголе впервые за время революции пытается на анализе практики одного из величайших художников слова показать те приемы его мастерства, которые в свое время революционизировали русскую художественную прозу. Революционеров невольно заинтересовывают революционные процессы в любых областях жизни; революционеров наших дней заинтересует и процесс революционизирования русской литературной речи, который описывает в своей книге Белый. Что же касается писателей наших дней, то они, конечно, обязаны знать не только историю и ход революционного процесса в своей стране, но и специально те революционные встряски, через которые прошло их собственное «ремесло». В этом смысле книга Белого и актуальна.
Мы говорим и пишем не так, как говорила и писала пишущая Россия тридцать-сорок лет назад. Наши писатели создают новый литературный язык, и скоро язык «Анны Карениной» будет звучать для нас, как сейчас звучит язык «Капитанской дочки». Изучение «мастерства Гоголя» может помочь осознать этот процесс. Белый вскрывает внутренние закономерности в том, что кажется (и было?) стихийным, органическим, неосознанным у самого мастера. Это работа анатома: Белый разлагает словесную ткань Гоголя на ее составные части и за блестящей поверхностью того или иного литературного
VI
пассажа показывает то сцепление звуков и ритмов, которым достигнут словесный эффект, читателем воспринятый, но не осознанный. Следуя за Белым в его анализе «мастерства Гоголя», часто испытываешь чувство радости и облегчения, как при найденном решении сложной задачи или разгаданном механизме непонятного явления. «Так вот в чем дело!» — хочется воскликнуть, когда анализ Белого вскрывает приемы, которыми «сделан» тот или другой, с детства застрявший в памяти и до сих пор продолжающий жить в тебе, отрывок гоголевской прозы.
В книге Белого мы имеем, таким образом, ценную попытку не индуктивным, а дедуктивным путем, на почве массового изучения основных элементов художественной прозы большого мастера, вскрыть законы организации словесного материала, как составного и конститутивного элемента художественного произведения. Музыкальное ухо Белого, его изощренное внимание к строению словесного материала, поразительная настойчивость в разработке вопросов словесного оформления, наконец, применяемые им методы массового (иногда и статистического) обследования дали ряд любопытнейших результатов.
Сказанное свидетельствует, что мы готовы достаточно высоко оценить труд, вложенный Белым в его книгу, а самую книгу рассматривать как серьезный и плодотворный вклад в создающуюся науку о словесном искусстве.
Но это не значит, конечно, что мы во всем согласны с Белым.
Белый рассматривает свою книгу как «одну девятую полного исследования». «Правильное же суждение о творчестве Гоголя, — полагает он, — мы могли бы тогда лишь составить, если бы форма, содержание, формосодержание были бы девятижды рассмотрены во всех аспектах их отношения друг к другу».
Нам, следовательно, если серьезно отнестись к словам автора, следует подождать еще восьми томов, выполненных если не Белым, то по плану Белого, для того чтобы составить «Правильное суждение» о Гоголе. Но заранее можно сказать, что этих восьми томов никогда не будет написано; а если бы они и были написаны, для них не нашлось бы читателей. В другом месте своего исследования автор говорит: «об употреблении Гоголем частиц «ни», «не», «и» уже можно прочесть четыре лекции». Допустим, что можно. Но нужно ли? Не грозит ли здесь благородное увлечение своей темой перейти в педантство? Эта опасность стояла у колыбели всякой науки. Она — свидетельство ее незрелости, невыработанности ее методологии, а никак не обширности самой темы, будто бы не могущей уложиться в скромные размеры. Пусть Белый вспомнит, что величайшие перевороты в науке создавались не многотомными исследованиями, а сплошь и рядом небольшими по размерам «ударными» работами. Неизбежным признаком подобных, «делающих эпоху» работ всегда было — и не могло не быть — установление новой, четкой и точной методологии. Нагромождение же материалов, хотя бы в девяносто девяти «аспектах», большею частью свидетельствовало
VII
именно о слабости методологических приемов их собирателей и отнюдь не гарантировало «правильного суждения».
Думается, что и Белый влечется к «девяти аспектам» только потому, что ему не удалось справиться с основными методологическими вопросами той сферы знаний, которой он посвятил свой труд.
Белый ставит свою работу, как описание и классификацию внешних — по отношению к мысли произведения — приемов Гоголя. Особенно ясно становится это из последней главы книги: «Гоголь в XIX и XX веках». Автор сближает здесь приемы Достоевского, Сологуба, Блока, Белого, Маяковского с приемами Гоголя. Сопоставления, сделанные здесь Белым, показывают, что ни один из названных художников не избежал повторения некоторых приемов Гоголя. Сопоставления Белого иногда убедительны, иногда — нет. Трудно, например, признать какое бы то ни было родство между «на сажень человечьего мяса нашинковано» Маяковского и гоголевским — «телега едет по сушняку в четверть сажени» (см. в тексте главку «Гоголь и Маяковский»).
Но что всего достопримечательнее, — все эти, удачные и неудачные, сопоставления даются без всякой связи, с темой, задачей, направленностью рассматриваемых произведений. Здесь словесная инструментовка самых различных произведений, от «Мертвых душ» до «Стихов о прекрасной даме», сознательно рассматривается независимо от содержания и формы последних. В итоге подмеченные автором совпадения остаются в сознании читателя — совпадениями, иными случаями, иногда интересными, способными вызвать на более глубокие размышления о природе творчества того или иного художника, иногда — притянутыми за волосы, но никак не вскрывающими никакой закономерности в истории русской художественной прозы: между тем сам автор считает, что эти подмеченные им совпадения уполномочивают его на далеко «идущие выводы: на их основании он открывает в Гоголе и Ницше, и Метерлинка, и Верхарна, и символиста, и футуриста.
Эта преувеличенная оценка значения приемов словесного оформления в общем облике писателя не случайна у Белого: она непосредственно вытекает из его общей концепции художественного творчества. В данной книге автор нигде не говорит о последней прямо. Но эта концепция определила исходные точки его работы, и в ряде мест ему приходится, хотя бы бегло, повторить ее основные черты.
В первой же главе своей книги, говоря о творческом процессе вообще, Белый высказывает следующие положения: «Продукт процесса с момента восприятия его слухом автора до подачи его как ответа на спрос переживает три стадии: рождение образа из звука, рост и членение образа в систему образов и, наконец, всплывание в ней тенденции, совпадающее с заковкой в слоговую форму».
Та же мысль в другом месте выражена утверждением о «фазах сложения сюжета, сперва данного в напеве, потом в образе и, наконец, в рефлексии». Продолжая первую цитату, читаем: «Формование
VIII
протекает двояко: от звука к слоговому оформлению... и от звука посредством сюжетного образа к сознанию смысловой тенденции». (Во всех трех фразах подчеркивание — мое).
Все эти формулы — основные для Белого, и все три подчеркивают бессознательность процесса творчества, ставят его исходной точкой звук, напев, исключают сознание, мысль из «производственного процесса» художника: тенденция, смысл произведения «всплывает» для автора лишь в окончательной стадии последнего. Но и тут автору грозит, по Белому, страшная опасность: «переосознать» (его слово!) тенденцию собственного творчества. Сознание, сознательно поставленная цель, выработанный план — вот что, по Белому, всего опаснее для художника слова. Отдаться мелодии, предоставить образам, возникающим из этой «мелодии», жить собственной жизнью, «гоняться за ними, как пастух за разбежавшимся стадом», — вот по Белому, плодотворнейший путь творчества.
Имея план, — пишет Белый в главке «О третьей фазе творчества Гоголя», — нужно уметь от него отвлекаться, где надо: а то, вперевшись в цель, дашь маху в средствах; мудро не заглядывать в «послезавтра» уже выверенного в мелодии целого, которое — лучший план... Из мудрости должен он (художник-писатель) «легче ступать»; играя, научишь легче, чем втемяшивая тенденцию». Малюсенькая, ставшая уже азбучной, истина о вреде рассудочности и дидактики прикрывает здесь большую неправду о роли сознания и продуманной до конца мысли в создании художественного произведения.
Но мы не станем спорить здесь с Белым по существу его концепции художественного творчества: говоря откровенно, эта отрыжка мистико-идеалистических представлений не заслуживает в наше время серьезного оспаривания. Взглянем лучше на последствия ее применения к конкретному материалу; посмотрим, что дала эта концепция для понимания Гоголя. Быть может, проверив с нами свою «практику», Белый и сам согласится, что его «концепция» никаких плодотворных результатов не дает, сбивает его с пути, «морокой» заводит его в тупики, и что лучшее, что можно сделать, — это — поскорее развязаться с этой «концепцией», предоставив ей догнивать в каком-нибудь мусорном ящике истории, в который наша эпоха свалила столько идейной дребедени.
Свою схему: звук, напев, музыка; — образ; наконец, «всплывающая» тенденция; опасность «переосознания» смысла своих образов — Белый, конечно, приложил и к Гоголю. Гоголь Белого проходит три фазы. В первой фазе его творчества «украинские повести и рассказы» движутся напевом, мелодией; во второй (главным образом петербургские повести) «нет звуков музыки»; ее сменили образы и их стилевая «ухищренная» разработка; в третьей фазе Гоголь, как художник, проваливается. Почему? «Изумительный художник слова, давший творения незабываемой формы, разбил свои формы в усилиях вынуть из переразвитых слоговых ухищрений костяк недоразвитой тенденции; и за этим костяком... отправился на тот свет». Ясно? По совести очень неясно.
IX
Выходит так: жили «переразвитые слоговые ухищрения» и «недоразвитая тенденция», что вместе давало... «творения незабываемой формы». Затем художник задумал (зачем бы?) «вынуть» «недоразвитую тенденцию» из «незабываемой формы», — отчего формы разбились. Нет, воля ваша, товарищ Белый, это решительно ничего ие разъясняет в интересном вопросе о провале Гоголя. Послушаем, однако, дальше.
«В просторечии мы говорим: образы живут; автор гоняется за ними, как пастух за разбежавшимся стадом; если детали тенденции вынуты автором, как незыблемый план, до деталей процесса, то такая отдача ненужной рассудочности равнозначна собственничеству в отношении к тому, чему следует внимать как силе коллектива; в просторечии говорят: «вдохновение покинуло автора». Это произошло с Гоголем». И с этим положением мы очень немного подвигаемся вперед в понимании «провала» Гоголя. Модернизация выражений (чего уж «модернее» обвинение Гоголя в присвоении коллективной собственности!) не скрывает бедности и старозаветности мысли: она сводится к тому, что погубила художника его попытка рассуждать, осознать смысл своих произведений. «Вдохновение» и «отдача себя ненужной рассудочности» сказываются на двух полюсах творческого процесса. Рассудочность губит вдохновенье! Как это старо, и как мало этого для понимания трагедии Гоголя!
Будем, однако, терпеливы и послушаем еще, хотя бы в последний раз, высказывания Белого по этому поводу.
«Гоголь, начав с пленяющих безделушек, цельных музыкой, дав цельность стиля за счет погасшей мелодии, вдруг ужаснул узкой тенденцией, в которой завял его стиль, отчего и организм его творчества оказался... без головы; а голова осталась без туловища; тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромнейшей значимости; из неоконченной головы им изваяемого процесса, оторванной от тела, Гоголь, выпотрошив мозг, сделал... жандармскую каску и арестовал свое творчество; но «жандармская каска», просунутая в «Переписке» и «Исповеди», не смогла отвести тока, шедшего через Гоголя-творца в рассудочно-безголовое тело его творений... «жандармская каска» и «арестовал свое творчество» — это сказано хорошо; это запомнится. Но по существу этот майн-ридовский всадник без головы, скачущий волею Белого по пажитям русской литературы, опять-таки ничего не объясняет в исторических судьбах Гоголя. Поскольку в приведенном рассуждении, — не случайном, а итоговом для всего построения Белого, — поскольку в нем есть какое-либо содержание, оно ведь только повторяет то, что восемьдесят пять лет тому назад сказал Белинский: «И в то время великий писатель, который своими дивно художественными произведениями, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России... является с книгой, в которой выступает проповедником кнута и апостолом невежества».
X
Итак, что же дала «концепция» Белого для решения центрального вопроса гоголевской проблемы — расхождения образа и тенденции? Ничего, ноль, или точнее — отрицательную величину, вреднейший вывод об опасности для художника «переосознавания» своей тенденции.
Впрочем, этот свой вывод Белый обосновывает не только разворачиванием своей концепции художественного процесса — от звука к образу, в котором «всплывает» тенденция, «переосознание» которой губит художника и его произведение. У Белого есть еще дополнительное «социологическое» построение, которое выглядит куда более современным, чем теория «напева», но служит автору для той же цели. «Сквозь автора, как сквозь проволоку, бежит электрический ток от посылающего к принимающему; посылающий — рождающий спрос коллектив; получающий — читательский коллектив... Ток из А в Б бежит и далее, в В, а проволока от А до Б не бежит с током... Если мы перехватим ток между А и Б, весть до Б не дойдет; это случается, когда автор ненужно переосознает не им начатое, не им кончаемое; в ненужных деталях ограниченного растяжения в малом отрезе времени он выявит присвоением тока себе лишь ряд аберраций». Вывод: Гоголю надо было отдаться бегущему через него «току» и поменьше «рассуждать» — и великий художник был бы спасен. Эта примитивная «социология» «посылающего» и «принимающего» коллективов, да еще подогнанная под дефектный вывод, заводит Белого в невылазные противоречия.
Так как в этой путанной форме Белый, как-никак, все же пытается учесть социальные факторы в творчестве и судьбе Гоголя, то эта «социология» наталкивает его кой на какие элементы правильного решения задачи, иногда на элементы большого значения и недурно выраженные. Тогда Белый видит, что «раздвой (на своеобразном и нарочито «заковыристом» языке автора это значит — раздвоенность) Гоголя — следствие его стиснутости двумя прослойками: двух разных классов», что «тенденция класса, породившего Гоголя, была мертва», что в «Исповеди» и «Переписке» заговорил «мелкий собственник», что яркость «Мертвых душ» — «яркость тусклятины», что для Гоголя «царство трупов — вся русская действительность», и т. д. и т. п.
Но так как это — социология очень примитивная, то она путает автора среди этих элементов истины, не давая их синтеза, не давая решения задачи. Белый добирается до истины (конкретной социальной обусловленности творчества Гоголя и распада его творчества) окольными путями, как ежели бы кто в наши дни попытался добраться до истины современной химии методами, приемами, формулами алхимии. Кое-что, вероятно, и этот... страстотерпец угадал бы верно, кое на какие элементы истины наверно наткнулся. Но это — не благодаря своим алхимическим приемам, а вопреки им, благодаря общему прогрессу научных знаний. Так и у Белого: правильные замечания и наблюдения в области общих вопросов художественного творчества Гоголя здесь — результат не авторской
XI
методологии, а лишь того обстоятельства, что в нашей стране ныне вся атмосфера пронизана истинами марксизма. Собственная же «социология» Белого только путает... факты, автора и читателя.
Для иллюстрации вернемся к «всаднику без головы».
Вспомним: организм его (Гоголя) творчества оказался... без головы: а голова осталась без туловища; тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромнейшей значимости... Головой оказалась вся русская литература, продолжавшая развивать дело Гоголя: без Гоголя — проповедника. Так стала она — литературой мировой. Несколькими страницами ниже, переводя эту тираду на язык своей «социологии», автор поясняет: «Гоголь-художник внял спросу коллектива новых людей, оторванцев от своих классов... Величие Гоголя в том, что он воспринял их радиовесть к нему, конденсировав ее в фазах своего производственного процесса... «заказчик» нашел отразителя... «незримый», но уже слышимый спрос указал Гоголю на Белинского».
Итак, повидимому, все-таки через Гоголя шли два «тока» и было два «посылающих» коллектива: повидимому, в своем производственном процессе Гоголь «отражал» Белинского; а в своей «тенденции» — врагов Белинского; повидимому, значение для судеб русской литературы имел не «всадник без головы» сам по себе, а «тенденция огромнейшей значимости», вложенная в него Белинским. Но в таком случае причем же тут «мастерство» Гоголя? Но тенденция, раскрытая Белинским в безголовом «теле» Гоголя, была не что иное, как обличение российских крепостнических порядков и ими порожденных уродств человеческой психики; значение этой тенденции — узко национальное, и не она, конечно, обусловила мировое значение русской литературы. Уже Чернышевский, большой поклонник Гоголя и Белинского, много десятилетий тому назад писал: «Ревизор» хоть и идеальная вещь, — вещь очень мелкая по содержанию». И чего стоит вообще теория проволоки и «посылающего» коллектива, если по той же проволоке могут быть посылаемы одновременно прямо противоположные запросы двух друг другу враждебно противопоставленных «коллективов»?!
Ложна и основная посылка всей этой схемы. Гоголь — весь целиком, и со своими образами и со своей тенденцией, — продукт распада феодально-патриархальной среды, а не духовный сын и не отразитель Белинского, тем менее — Чернышевского. «Социология» Белого соединяет несоединимое, тенденции Гоголя и тенденции Белинского, и разъединяет неразъединимое — образы и тенденцию художника, не умея найти для них единого социологического эквивалента.
В этом провал всей методологии Белого: чтобы понять Гоголя и его судьбу, он его раздваивает, в то время как задача состояла в том, чтобы понять Гоголя в единстве его противоречий. Разорвав Гоголя надвое, Белый затем спасает все свое построение единственно возможным при такой методологии путем — простым осуждением одного из двух конструированных им ликов Гоголя: Гоголь-сознаватель (словечко Белого!) погубил Гоголя-художника.
XII
Вывод ясен. Вредно, когда художник пытается осознать тенденцию своих произведений, когда он перестает гоняться за образами, «как пастух за разбежавшимся стадом», а пытается их привести в какую-то целеустремленную систему. Художнику, вступившему на этот путь, грозит гоголевский провал.
Это — вывод, за который самый мягкий литературный трибунал должен был бы приговорить автора к самой суровой литературной казни. Белый уготовил себе эту неприятность исключительно тем, что в эпоху разложения атома и синтетического каучука продолжает пользоваться методами алхимии, тем, что пренебрег драгоценным орудием исследования — материалистической диалектикой.
Она показала бы ему, что расхождение общественной значимости художественного образа и общественной тенденции его автора — не случайность и не индивидуальная вина авторского сознания, а неизбежный продукт определенных общественных условий.
Она заставила бы его понять, что попытка художника осознать свою «мелодию» и свои образы может быть вредоносной для общества и гибельной для него лишь в том случае, если его устами говорит реакционный, обреченный на смерть класс, и что, наоборот, для художника восходящего класса осознание своего творчества, приведение теснящихся в его мозгу образов и напевов в целеустремленную систему не только не опасно, а и плодотворно и необходимо; что это потенцирует в громадной степени самое его творчество и удесятерит силу его произведений.
Гоголь кончил художественным провалом потому, что был реакционным утопистом; потому, что утопизм отталкивал его от расстилавшейся перед ним действительности, а реакционность заставляла искать спасения от нее в прошлом, а не в будущем; потому, что расхождение между тенденцией и образами действительности неизбежно у подобного художника и что трагический исход предрешен в таком случае, если только отталкивание от действительности у художника искренно и глубоко, если с ним, как с Гоголем, по слову Чернышевского, «нельзя шутить идеями»1.
Наконец, материалистическая диалектика показала бы, что выводить из факта расхождения образа и тенденции у ряда художников, связанных с уходящими классами (Гоголь отнюдь не единственный пример подобного расхождения), общее поучение о гибели для художника «пересознания» тенденции — и неправомерно и вредно.
Резюмирую. В своей конкретной части работа Белого и значительна, и актуальна, и интересна. Ее будут читать с пользой, — хотя не без труда: виною специфический язык и стиль автора, — особенно соратники Гоголя и Белого по словесному искусству. В
XIII
своей же теоретической части, в общих суждениях о характере художественного творчества, в попытках решения вопроса о судьбе Гоголя, она лишь еще раз подтверждает необходимость быстрейшего перевооружения нашего старого литературоведения.
Мы можем, следовательно, закончить, как начали, — согласием с автором. В заключительных строках первой главы своей работы он предлагает рассматривать последнюю лишь как «введение к словарю Гоголя, к элементам поэтической грамматики Гоголя» и продолжает: «Все же, что не имеет прямого отношения к будущему «словарю», я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы». Мы можем согласиться с обоими предложениями автора.
Л. Каменев
————
XV
К ТЕКСТУ КНИГИ
Моя книга — сплетенье цитат, иногда их раккурсов (в свободной редакции); в таком случае в скобках я делаю ссылку на заглавие цитируемого или излагаемого произведения; чтобы не увеличить на треть размер книги, я вынужден сокращать заглавия произведений, на которые я часто ссылаюсь.
Список сокращений сочинений Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — «Веч.»
«Предисловие к первой части «Вечеров» — «Пред. I»
«Предисловие к второй части «Вечеров» — «Пред. II»
«Сорочинская ярмарка» — «СЯ»
«Вечер накануне Ивана Купала» — «ВНИК»
««Майская ночь» — «МН»
«Пропавшая грамота» — «ПГ»
«Ночь под Рождество» — «НПР»
«Страшная месть» — «СМ»
«Иван Федорович Шпонька» — «Шп»
«Заколдованное место» — «ЗМ»
«Миргород» — «Мирг»
«Тарас Бульба» — «ТБ»
«Вий» — «В»
«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — «ОТ»
«Нос» — «Н»
«Портрет» — «П»
«Шинель» — «Ш»
«Коляска» — «К»
«Старосветские помещики» — «СП»
«Записки сумасшедшего» — «ЗС»
«Рим» — «Р»
«Невский проспект» — «НП»
«Ревизор» — «Рев»
«Театральный разъезд» — «ТР»
«Женитьба» — «Ж»
«Игроки» — «Игр»
«Лакейская» — «Лак»
XVI
«Театральные отрывки» — «ТО»
«Мертвые души». Том первый — «МД»
«Мертвые души». Том второй — «МД, 2»
«Выбранные места из Переписки» — «Пер»
«Исповедь» — «Исп»
Другие сокращения:
«Серебряный Голубь» (А. Белого) — «СГ»
«Петербург» (А. Белого) — «Пет»
«Мелкий бес» (Сологуба) — «МБ»
«Двойник» (Достоевского) — «Дв»
«Хозяйка» (Достоевского) — «Хоз»
Гоголь — Г.
Достоевский (в главке «Гоголь и Достоевский») — Д.
Белый (в главке «Гоголь и Андрей Белый») — Б.
Блок (в главке «Гоголь и Блок») — Б.
Сологуб (в главке «Гоголь и Сологуб») — С.
Маяковский (в главке «Гоголь и Маяковский») — М.
Мейерхольд (в главке «Гоголь и Мейерхольд») — М.
————
1
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
МАСТЕРСТВО ГОГОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
2
3
«Не бесцельны... скромные работы собирателей сырья: в качестве... введения к элементам поэтической грамматики Гоголя, работа моя... не бесполезна... Все же, что не имеет прямого отношения к... «словарю», я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить». (Из первой главы.) |
4
5
ГЛАВА ПЕРВАЯ — ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГОГОЛЯ
ПУШКИН И ГОГОЛЬ
Гоголь имеет право на равное место с Толстым и Достоевским. Преимущество его в том, что он первый: по времени. Наши поэты прекрасно владели прозой. Но проза Пушкина и Лермонтова не центральна для целого их творений. Пушкин-прозаик ясен и сдержанен; он показывает, что̀ может сделать с языком стилист, взросший на классиках, если захочет привить «отечественной» литературе приемы ей доселе чуждой культуры.
Между поэзией и прозой Пушкина есть-таки грань. Не ищите в ней лирики и драматики; она — великолепна; она — умна, но... как... «проза». В «Полтаве», в «Медном всаднике» Пушкин иначе оформляет образы; там он — у себя дома; с его пера срываются и вольные шутки, и драматические признания; до ощущения отсутствия Формы он не стеснен сюжетом; в этом его победа над формой.
Пушкин-прозаик скован обязанностью: написать рассказ; человека, отдавшегося излияниям, оторвали от круга друзей, внезапно вызвав по спешному делу; и вот он докладывает, выйдя в другую комнату, скрупулезно изученное им дело, поражая сдержанностью безукоризненных выражений дипломатической речи, в которую не ввержена вся душа; такова холодноватая фраза Пушкина; в лирике она дружески открыта; в прозе закрыта; там ему читатель — друг; здесь — посторонний; переменился состав не слушателей: переменились комнаты: домашняя на парадную.
Так отличен способ изложения «Пиковой дамы» от «Медного всадника».
Лермонтов в прозе и красочней, и интимней, ставя перед нами Печорина; но и он паузой молчания проходит по тем местам текста, где он открыт в своих стихах.
Не то — Гоголь.
Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций. До него попытки в этом роде не увенчивались успехом: лирика Карамзина охладела для нас; Марлинский нам и вовсе не нужен. Гоголь же и волнует, и удивляет нас через сто лет; и это есть факт им осуществленной победы, граничащей с революцией нашей словесности.
«Мертвые души» — целая эпопея, раздвигающая границы эпоса. В эпопеях древности сохранен отзвук еще допоэтических, синкретических
6
форм, не сохранившихся в эпических поэмах позднейшего времени. И до Гоголя — нет эпических поэм в прозе; как нет и в поэмах широкоохватности. Поэма Гоголем влита в прозу; жизнь эпохи — в поэзию; эпопею подчеркивает Гоголь, как отдельную от поэм форму. Гоголь — сама эпопея прозы, поскольку в ней русский народный язык влил жизнь в «литературу и только»; «штиль» мелкопоместного, дворянина, сниженного в мещанстве, высокопарица канцеляриста и грубая смачность семинариста им впаяны вместе с местными народными говорами в литературную форму; Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности. Там, где были местные и сословные языки, стал «язык языков», гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Переродилось самое понятие «проза»; и русская литература заняла первое место в мировой.
Толчок к тому — в Гоголе.
Творения Гоголя имеют одну особенность: анализ сюжета, тенденции, стиля их являет имманентность друг другу: сюжета, тенденции, стиля; тенденция — красочна; краска — осмысленна; слоговые особенности обусловлены стилем мысли; видишь, как форма и содержание рождены формосодержательным процессом; социальное содержание движет процессом; форма и содержание, — продукты процесса, — носят его печать, подобно печатям вулканической силы на мертвом камне, выпертом из подземного недра; Гоголь любил сравнения с вулканом: «Азия была народовержущим вулканом» — говорит он; в «СМ» вложен миф о потухшем вулкане, как о великом мертвеце, трясущем землю.
Конвульсией, источник которой скрыт, передернут творческий процесс в Гоголе; его сознание, ограниченное распадом социального слоя, его породившего, напоминает потухший вулкан, а его «мертвые души» — пепел и магму. Рассуждая, Гоголь осыпается пеплом; творчески действуя, воспринимает вздрог как бы огненного центра земли, пропечатывая им страсти своих «слепых» героев и наделяя их судорожным жестом, как бы вырывающим из устоев, в котором и окаменевают они; и то — действие «электрического потрясения», о котором Гоголь мечтал, когда писал «Рев». Вздрог жеста оттого, что его «герои», продукты, не отделились от автора сотрясающего процесса, которым он так ужасался, силясь прочесть в нем мандат как бы врученной ему кем-то миссии. Перевести социальный спрос на язык ему внятной тенденции Гоголь не мог.
Неувязка меж слышимым, взятым и сделанным, отданным — нерв творчества Гоголя от «Веч» до второго тома «МД», ставшего в пламени процесса развеянным пеплом; недоосознанности первых соответствует кривая переосознанность последнего периода. Продукты Гоголя сотрясаются в Гоголе, как в процессе; и он — процесс, — сотрясается в них; отсюда атомистическая динамика жестовых передергов героев «Рев» и «МД». Неравновесие сил,
7
строящих процесс, имманентно неравновесию между формой и содержанием в творениях Гоголя; в имманентности этой само неравновесие становится равновесием особого рода, обратным равновесию Пушкина.
Оно у Пушкина — плюс, как умножение плюса формы на плюс содержания; плюс Гоголя — минус, умноженный на минус. Современники Гоголя, дивясь красочному содержанию его творений, подчеркивали дефекты слога до... неумения писать по-русски, что верно отчасти; но дерзкие победы в ритме и вся сила изобразительности, возносящая Гоголя в мировые стилисты, остались вне поля зрения даже Пушкина; подчеркивался плюс содержания при минусе формы. Обратно: иные из наших современников, с бо́льшим опытом ставя диагноз форме, столь удивляются ей, что приписывают ей исключительно то, что нам кажется силою содержания. Дав прекрасный анализ приемов «Ш», проф. Б. Эйхенбаум сводит к стилевому приему и вздрог сострадания, извлекаемого из нас Гоголем при вскрике Акакия Акакиевича: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» (Ш). Казавшееся и Пушкину минусом (форма, слог) открылось проф. Б. Эйхенбауму как величайший плюс; зато умаляется содержание повести Гоголя; глубина сюжета, например, в «Н», еще ждущего своего социального обоснования, В. Виноградовым низведена до дешевых и ходких «носологических» каламбуров начала XIX века.
Нет дыма без огня: у Гоголя «плюс» достигаем умножением того, что кажется минусом формы, на то, что кажется минусом содержания; и это потому, что форма и содержание даны у Гоголя в диалектике, меняющей плюсы на минусы; и — обратно: та и другое текут в формосодержательном процессе от «Веч» к «МД»; в последнем периоде звучные приемы «Веч» разложены в их умерщвляющую тенденцию, значимость которой открываема опять-таки не с фаса, а, так сказать, с черного хода.
Прозаические произведения Пушкина замкнуты; автор, написав каждое, ставит его, как статуэтку, пред нами; и переходит к следующему. Гоголь обрастает продуктами своего творчества, как организм, питающий свои ногти, которые он держит на себе, хотя они и срезаемы без ущерба; они, и отданные читателю, никогда не могут закончиться, ибо законченность их — не они сами, а целое питающего организма, который — творческий процесс; в нем включены продукты творчества с жизнью Гоголя так, что с изменением жизненных условий менялися в Гоголе они; и отсюда перемарки, новые редакции, фрагменты, оставшиеся недоработанными, и перевоплощение персонажей и тем из одной повести в другую; и наконец вечная трагедия: воплощенное не воплощаемо в новый этап сознания: исключение из плана собрания сочинений «Веч» и двоекратное сожжение «МД».
Производственный процесс Гоголя подобен циркуляции крови, омывающей отдельные органы; струя ее, пробежав сквозь все, не створена ни с одним; отсюда неравновесие формы и содержания,
8
которые — в постоянном споре корней и ветвей крыловской басни; кажется преобладающим то одно, то другое; это — пульсация; тезис-арсис; целостность — в стиле ритма, не воплощенном нигде.
У Пушкина единство формы и содержания дано в форме; у Гоголя единство формы и содержания дано в содержании; эта форма у Пушкина — отдельность произведения; здесь Пушкин элеец, замыкающий бытие произведения в круг; и это содержание у Гоголя — целое всего процесса творчества, символом которого стала единственность задания ненаписанных томов «МД»; в разбитии форм, в размыкании круга бытия одного произведения Гоголь — гераклитианец, охваченный огненным вихрем, в котором таки сгорел и он, и «МД», когда алчущее самосознание этого стихийного творчества осознало себя в «я» Гоголя; и в нем — угасло.
Стереотип прозаической фразы Пушкина: она — коротка; она точками отделена от соседних: существительное, прилагательное, глагол, точка; строй таких фраз подобен темперированному строю Баха. У Гоголя фраза взорвана, разметанная осколками придаточных предложений, подчиненных главному, соподчиненных между собой; нарушено равновесие между существительным, прилагательным, глаголом; вместо «1+1+1» — например, «3+1+5»: «взглянул... на листики, на мужиков, которые... когда-то... работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали» (2 существительных, 5 глаголов); или: «черство, неотесанно, неладно, нестройно, нехорошо...» (5 наречий) и т. д. Но для фразы Гоголя не типична и периодическая речь: «когда..., когда..., когда..., тогда»; в готическом периоде Карамзина на придаточных «когда — когда», как на стрельчатых дугах, возносится вверх главное предложение; Гоголем разорван период Карамзина; ряд придаточных предложений становятся побочными главными; но строй их образует — целое повторов.
Вместо дорической фразы Пушкина и готической фразы Карамзина — асимметрическое барокко, обставленное колоннадой повторов, взывающих к фразировке и соединенных дугами вводных предложений с влепленными над ними восклицаниями, подобными лепному орнаменту. Но и короткая фраза Пушкина, как составная часть стиля, имеет тут место, подобно пустому простенку между горельефными влеплинами; как то: «небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней» (ВНИК); но имеет место и период Карамзина, например, в «Р».
Основа же речевого стиля — изрыв периода; и — неравновесие фразы, блещущей дерзостью неологизмов, у Пушкина еще редких, и тяжестью архаизмов, у Пушкина уже редких. Состав слов у обоих стилистов разительно отличен; словарь Пушкина — словарь высокообразованного интеллигента, некогда более владевшего французским, чем русским, но много потрудившегося (в отцах и дедах), чтобы привить галльскую гладкость речи нашему литературному языку, дать ему русскую интонацию; и этим обогатить. Усилия увенчались полным успехом; труды — длились столетие, и — ни одной грамматической ошибки против хорошего языка, что Пушкин ставит
9
в заслугу себе: он пишет-де правильней, чем говорит; но он-де говорит правильней, чем пишет Гоголь.
У Пушкина не встретишь в прозе простонародных выражений, которыми он блещет в письмах. У Гоголя стык многих словарей с синтаксическими головоломками дает впечатление, что автор изучил словарь Даля до словаря Даля; из мозаики местных и сословных жаргонов извлекает он новые звуки языка. Пушкинский язык подытожил усилия лучших русских стилистов от Кантемира и Ломоносова: заговорить по-русски без возврата к церковной славянщине. Фраза Пушкина корнями сращена с XVIII веком; расцветя в XIX, она обращена в «назад». Фраза Гоголя начинает период, плоды которого срываем и мы: и в Маяковском, и в Хлебникове, и в пролетарских поэтах и беллетристах.
Гоголь — новый Тредьяковский, питающий будущее: в усилиях явить нового коллективного Пушкина. Этот потебнист до Потебни смеется над усилиями блюстителей чистоты языка втиснуть язык в грамматику... «от профессора (имя рек)», являя украинца, не овладевшего грамматикой «москалей» и мысленно переводящего на русский с родного наречия, что доказали биографы, — украинца, пишущего «послать по художнику» (вместо «за»); Гоголь доказывает: революция языка может обойтись без соблюдения всех грамматических чопорностей, потому что язык — в «языке языков»: в мощи ритмов и в выблесках звукословия, или в действиях опламененной жизни, — не в правилах вовсе; звукопись, переходящая в живопись языка, есть выхватившееся из вулкана летучее пламя.
Поэзия Пушкина знает встрясы и отсветы пламени («звуки сладкие»); кодекс сознательно тушит их в прозе Пушкина. То, что в будущем выдохнется, как «за́умь», выдохнется из недр гоголизма.
Сила же языковых перетрясов русского языка, грамматикой которого недоовладел Гоголь, — в разорванном равновесии фразы вместе с сюжетом, в ней данным, одною лишь стороной влитой в форму, другой слитой с процессом, не отливаемым до конца в продукты, не угашающим свои пылания и после того, как произведение напечатано; отсюда — перемарки, новые редакции, вплоть до сожжения первоначального текста.
О ТВОРЧЕСКИХ ФАЗАХ ГОГОЛЯ
Отметили две группы стилей в литературах всех времен и эпох; вычурный «азиатический» стиль всюду противопоставлен простому «классическому»; утверждают: Гоголь-де «азиатик», ширящий образы до крайних пределов; отсюда — гиперболизм, превосходная степень, отказ от определения: «неизобразимый», «неисчислимый»; силы расширения подобно температуре плавления.
Образы Пушкина даны в положительной степени; они — устойчивы; Гоголь — текучий переход к сравнительной, превосходной и даже супер-превосходной степеням: «Неизобразимо! Господи, боже мой! Где найду я перо!» Просто шествие восклицательных знаков
10
порою. Образы даны как бы в парообразном состоянии: в меняющей, подобно облаку, очертания гиперболической напученности, переходящей в бесформенность, в безо́бразность просто, отчего вместо образа — итог, учет: риторическая сентенция (в последней творческой фазе).
Гипербола «минус» образ — просто надутый троп; а сила расширения, строящая самую гиперболу в дообразной стадии и не исчерпывающая себя в одном сюжете (у Пушкина исчерпывающая), есть сам производственный процесс до оформления, или мелодия сюжета; в ней ритм — звуки ковки словесных форм.
Продукт процесса с момента восприятия его слухом автора до подачи его как ответа на спрос переживает три стадии: рождение образа из звука, рост и членение образа в систему образов, и наконец всплывание в ней тенденции, совпадающее с заковкой в слоговую форму. Формование протекает двояко: от звука к слоговому оформлению, как процесс осознания стиля, где слог — итог осознания; и от звука посредством сюжетного образа к осознанию смысловой тенденции. Если фазы двоякого оформления вполне наложимы друг на друга (первая на вторую) и наложим ряд на ряд (слоговой на смысловой), то установлена связь тенденции к слову со словом тенденции в общем источнике, питающем и слова, и понятия.
В первичной мелодии неотчленимы изобразительность, стиль и тенденция; уже позднее — процесс членения; сравнения, гиперболы, метафоры и т. д., которыми овладевает автор, аналогичны логическим процессам; метонимизм — аналогия принципа причинности; гипербола — аналогия индукции и т. д. В овладении фигурами и тропами осознается стиль в слоге; а в овладении смыслом сюжета осознается тенденция; тенденция плюс слог — готовый продукт, отданный спросу. Стиль, как процесс, аналогичен процессу образного мышления; пересечение того и другого в первичном звуке темы, где аналогии еще гомологии, откуда членится в органы будущий литературный организм, — это пересечение есть результат воздействия на автора «инспирирующего» его коллектива; оно не исчерпывается продуктом, но сквозь него ширится, видоизменяясь в поколениях читателей.
Путь от начала процесса к продукту (ритм, стиль, слог; или — тема, образ мысли, его тенденция) отпечатлен и в материале, являющем слои, подобные фазам процесса; в ранних произведениях Гоголя особенно явны печати фаз формообразующего процесса; в более поздних они уже не так отчетливы.
Расположим произведения Гоголя во времени; будем считать первую редакцию временем написания: «ТБ», «Ш», «Рев» — отработаны гораздо поздней. Будем помнить: условны три периода, на которые я делю творчество Гоголя; они соответствуют группам произведений, объединенным родственностью черт; каждая группа, так сказать, заезжает в смежную; произведения первой группы преобладают в первом периоде; это — группа украинских рассказов;
11
в них подчеркнуты: фольклор, история и фантастика; изображены: украинский, крестьянский быт, перемешанный с казацким; оба — вряд ли были известны мелкопоместному панычу «Никоше» Гоголю.
Общность сюжета и стиля устанавливает группу произведений первого периода, написанных в молодости: не ранее 1829 и не поздней 1831 года, за исключением «Шп» и «СП», о времени написания которых нет точных сведений. «В» писан в 1833 году, «ТБ» — в 1834 (переработка 1839—1842 годов не изменила ни стиля, ни мелодий первой редакции; видоизменения — в ретуши тенденции).
Вторая группа повестей и комедий обнимает главным образом период от 1833 до 1836 года, кончаясь временем отъезда за границу («Ж» начата в 1833 году); эта группа повестей, объединенная рядом признаков, пересекается с повестями первой фазы: «Шп» напечатан в «Веч»; «ОТ» и «СП» в «Мирг», точно нарочно, столкнуты с «В» и «ТБ», чтобы подчеркнуть антитезу второй фазы сопоставлением с тезой первой; что общего между «СП» и «ТБ», «В» и «ОТ»? На это восклицание напрашивается автор «Мирг». Другим, так сказать, концом группа бытовых тем и их отражений в комедиях пересекается в круге дум о них с третьей фазой (переработка «Ш», «П», «Рев» с приписанием к нему «ТР»; в это время пишется первый том «МД», начатый уже в Петербурге; однако он — начало третьей фазы; думами о «МД» переполнена жизнь Гоголя до смерти).
Знаю: сюжет «Рев» и сюжет «МД» имеют много общего; но они, встречаясь, как конец и начало, втянуты в совсем разные фазы; в «Рев» еще замирают взрывы вовсе иного смеха и иного отношения к действительности в сравнении с «МД», центральной эпопеей Гоголя, втянутой в пламенный водоворот, сжегший ее продолжение. В «Рев» Гоголь еще оглядывается в покидаемое вчерашнее. В «МД» уже приоткрыта дверь: в смерть; образы здесь — под черным крепом.
Три группы тем, объединенных каждая своими особенностями, мною прикреплены к трем эпохам жизни Гоголя; первая отражает допетербургскую эпоху жизни; вторая — петербургскую; третья — эпоху жизни вне России и в Москве.
Два принципа классификации удобства ради мной слиты в один.
И тогда обнаруживается: три фазы становления каждого продукта творчества (восстание звучащего образа из звука спроса, его членение в сюжет системой образов, абстрагирование тенденции), совпадая с фазами организации ритма, стиля и слога, суть не только пласты, прощупываемые в каждом продукте, но и характеристики трех эпох творчества Гоголя.
В первой группе «романтических» и исторических повестей в наличии: и напев, и стиль, и слог, и образ, и тенденция; но принцип организации — не слог, не тенденция; сюжет, вынутый из композиции, — противоречив; еще более противоречива тенденция при попытке ее осознать в рефлексии, ибо в ней смешаны воедино несмешиваемые начала: героизированное и Гоголем
12
измышленное казачество с мало ему известным украинским крестьянством. Но эта неувязка смягчена все выносящей музыкой; тенденция есть; но в сознании Гоголя она как бы еще отсутствует; а действительность стиля ее как бы выявляет лозунг Верлэна, осуществленный до Верлэна: «Прежде всего музыка!» И «СМ» — повесть-песня: не вовсе «литература»; встреченная неодобрением современников, она продолжала быть темой игнорирования критиками прошлого века. Между тем: ни в одном произведении Гоголем не выявлен так музыкальный принцип; и если внять ему, открывается, как ниже мы попытаемся доказать, вся глубина социальной тенденции, но данной, так сказать, в латентном состоянии: духом музыки; наивно-реалистическое истолкование сюжета ее выявит лишь неудачную сказку; не в этом истолковании — истолкование «СМ»; ключ к истолкованию — погребен в музыке композиции.
Недаром Гоголь пишет в статье, набросанной в 1831 году: «Музыка — страсть и смятение души... Слыша музыку, как бы душою овладело... одно желание вырваться... Она — наша!.. Все составляет заговор против нас... О, будь... нашим... спасителем, музыка!» В статейке, написанной для Уварова, «О малороссийских песнях», он так выражается об украинском стихосложении: «В нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков... быстро; ...строка... не... длинна; ...цезура... с звонкою рифмою, перерезывает ее. Рифмы... сшибаются..., как серебряные подковы... Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы... Встречается такая рифма, которую... нельзя назвать рифмою, но она так верна... отголоском..., что нравится... более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке».
Последние строки можно было бы отнести к звукам гоголевской прозы первого периода, столь богатым звуковыми отголосками, что они не пришли бы «в голову поэту с пером в руке»; а ритм повестей местами напоминает сшибающиеся серебряные подковы; но это невиданное богатство «звуков» раннего Гоголя просмотрено его современниками; говорят обо всем, но не о «серебряных отголосках»; в них, а не во внешнем сюжетном содержании, таится подчас глубочайшая социальная тенденция, узренная лишь позднее у Гоголя; тогда как она дана и в первом периоде; но вряд ли Гоголь в рефлексии ее доосознал.
Позднее Гоголю не до музыки; он более рассуждает о пластических искусствах; лозунги Верлэна и, вероятно, не читанных им фрагментов Новалиса глухо, отдаленно уже звучат в нем; мелодия переходит в многоголосицу гармонизованных диссонансов; мелодия рвется системою лейт-мотивчиков и испаряется в туман невзрачных словечек («в некотором роде», «того», «этого»); образ, прежде гонимый, как облако, музыкой, на ней плотнеет, как... кровью напившийся паразит; и становится сатирической гиперболой «Носа» (нос, как «все, что ни есть»), «Шинели» (шинель, как «все, что ни есть»), «Ревизора» (35 тысяч курьеров).
13
Гипербола первой фазы — след напева, переполняющего сознание; она вспоена ладом украинских думок, столь изученных Гоголем. Как удары бьющей в берег волны оставляют, каждый, линию принесенных песчинок, а из них растут песчаные косы, так гипербола Гоголя в первом периоде — след сознания, переполненного напевом; параллелизм и повтор, слоговые особенности Гоголя — как бы продукт действия волн, перечерчивающих песчаный берег штриховкою линий из принесенных песчинок.
Во втором периоде гиперболизм и мощней, и плотней; но стиль гипербол — иной; он — следствие усилий сознания выявить несоответствие между мелодией и выросшим из нее образом; содержания главных масс гипербол первого и второго периода находятся друг относительно друга в отношении тезы и антитезы.
Круг быта, изученный Гоголем, — украинское поместье, украинский городок (Миргород, Нежин, Полтава), украинский мелкий помещик и захудалый чиновник; последний и есть, так сказать, чорт, перенесший Гоголя, как кузнеца Вакулу, в Петербург, да там и оставивший; ведь и Гоголь был украинцем, силившимся пристроиться в столице, которого он так осмеял в «СП», противопоставив ему «древнего» дворянина, Афанасия Ивановича; но и его изобразил в мертвой привычке и в неубедительном добродушии.
Круг быта Гоголем дан перерожденным из фона истории; гиперболизм первой творческой фазы — следствие смещения перспективы культом старины, преданий, легенд Украины. Вот как Гоголь говорит о родной старине: «чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно..., а душа, как... в раю» (МН); «Эх, старина, старина! Что за радость нападает на сердце, когда услышишь про то, что давно, давно! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну, тогда и рукой махни» (ПГ). Все любо в прошлом, когда «пировали, так, как... уже не пируют» (СМ); «шинки были не то, что теперь» (ПГ); теперь «не увидишь больше запорожцев»
И он непроизвольно силится вдавить запорожцем в глубину истории ему современного Довгочхуна, мелкопоместного дворянина, вкладывая в уста ему «дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про старинное, чудное дело» (ВНИК); мелкопоместный быт с деревней, неведомой Гоголю и оттого населенной чертями, перерождается... в «что за великолепие»: «Как полно... неги малороссийское лето» (СЯ); «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии» (СЯ); «Знаете ли вы украинскую ночь?.. Божественная ночь!» (МН); Днепр — «ему нет равной реки в мире!» (СМ); не говоря о «роскошном небе» (МН), «величественном громе украинского соловья» (МН), — гиперболизируется всякий пустяк: свитки, — «таких и на свете не было»; галушки, — «угодники... едали галушки» (СМ); и он зовет Максимовича: «Бросьте... кацапию, да поезжайте в гетманщину»; или: «принялся за историю нашей единственной, бедной Украины» (из писем 1833 года); подчеркивает: «Киев «наш», а не «их» (не «кацапский»).
14
Украина, где и танцуется и поется, есть «все, что ни есть на свете»; это — фраза-рефрен, фраза-штамп первой фазы творчества Гоголя; и в ней иронии нет; она — образ стиля, как всплеск напева, как в небе облако, когда «брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы» (ВНИК), а посредине стал старец-певец, «вещий духом» музыки, и «поваживал своими глазами на народ, как будто зрящий» (СМ); но он — привидение: в настоящем и нет его; в эпоху Гоголя он — великий и всюду сущий мертвец, легендарно изображенный в «СМ». Нет продумывающих «величественную судьбу свою» Тарасов; есть — Довгочхун, да миргородская свинья.
В первой фазе дана не Украина, а испарение полумифических образов над песней без слов; все прочее — «литература», которая пока еще не нужна Гоголю; литератор еще только загадан в нем; литературно противоречивы его сюжеты; краски — впестрядь; слова — впестрядь; помещик впестрядь с крестьянином и с историческим казацким «батькой»; чорт впестрядь с чиновником, немцем, свиньей, москалем: «О, Русь! Старая, рыжая борода! Когда ты поумнеешь?» (Из писем 1832 года.) Гоголь еще «песнеслов», и выборматывающий, и вытопатывающий свои рифмы, напоминающие звуки серебряных подков, ударяющих друг о друга, и еще не обложенные словами. Литературно не убедителен он.
Образы его тем убедительней — в ритмической композиции.
Но гром «украинского» соловья — не «украинский» гром: Украина, Петербург, Россия, Швейцария, Рим, Иерусалим в будущем сознании Гоголя только ступени осознания в человечестве «человека»: «занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека» (Исп). Вернувшись из Рима, «России» он не находит в России: в Петербурге о России не говорят; в провинции о России не говорят: пялят глаза на Запад; речь идет о провинциальной знати; разумеется же «вся, что ни есть» Россия; в мещанской массе хотел бы Гоголь найти отклик; он жаждет просветить мещанство: «Мне казалось более требовавшим внимания... то мелкое сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности,... вредит всем..., чтобы жить на счет бедных» (Исп).
Гоголь бежит из «не-русской» ему России, чтобы в Риме ее воссоздать в себе: «Родина есть то, чего ищет наша душа» (ТБ); он мечтает о сети русских корреспондентов, к нему протянутой: первый зовет к «очерку»; и в мечту об этюдах к «МД» отступает от текста «МД». В этих усилиях его напевная «украинская» дума распадается на «очерк-этюд» и «самосовершенствование»; первый еще не творчество; второе уже не творчество; все — от усилий найти «реал» утопии о «всем, что ни есть на свете».
В первой творческой фазе это «все» — только след ритмических переживаний и усилий слуха прочесть весть «заказа» под формой гиперболы.
15
ОТ ПЕРВОЙ ФАЗЫ КО ВТОРОЙ
У преддверия второй фазы исчезает из текста «гром украинского сословья»; мы узнаем: Украина поставляет в столицы «низких малороссиян» из дегтярей, переполняющих департаменты; не похожи на них «коренные» дворяне (СП); но и их Гоголь заставляет либо без толку глотать соленые грибки (СП), либо исходить в подлых мелкостях (ОТ). Вместо гиперболы воспевания («божественная!») — ирония: «Не имеет ли... воздух Малороссии... свойства, помогающего пищеварению?» (СП).
Мелодия позднее еще лишь позыв показать в драме «беспечность забубенных веков» (Набр. 1839 года); с «беспечности» начались «Веч», когда Гоголь настраивал себя под звуки бандуры; и он еще силится (речь об исторической драме) под звуки их сюжет «облечь... в месячную... ночь и... серебряное сияние»; «облить ее сверкающим потоком солнечных лучей; и да исполнится она вся нестерпимого блеска» (Набр. 1839 года); из «божественной ночи» ведь некогда встал «ослепительный день» («как роскошен... день в Малороссии»); в «СП» в самом дне — ужас ночи; и — не божественной: «Если бы ночь... бешеная, ... с... адом... настигла меня одного... я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня» (СП); «все, что ни есть» переживается теперь паническим ужасом — по Тютчеву: «все во мне, и я во всем»; и Гоголь жалуется: «Отдайте... юность мою! О, невозвратимо все, что ни есть на свете»! (Набр. 1839 года). Или: «У, какой гром...» Но это не «вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь» (Набр).
Нет звуков музыки; чтобы вызвать ее, «для этого надо стать лучше» (Исп); и он вспоминает прошлое: «Первые мои опыты... были... в лирическом и серьезном роде»; не думалось, «что... придется быть писателем сатирическим»; позднее: «я увидел, что... смеюсь... сам не зная зачем. Если смеяться, так... над тем..., что... достойно осмеяния» (Исп). Так вспоминает Гоголь свой переход к позднейшей фазе. Но фазы творчества Гоголя оригинально совпадают с фазами сложения вообще сюжета, сперва данного в напеве, потом в образе, и наконец в рефлексии.
Образ второй фазы подан гиперболой осмеяния того, что в Гоголе некогда жило гиперболой воспевания; но сознания нет, что в Довгочхуне отчасти осмеяна и тень его, убежавшая в глубь веков и слившаяся с образом Тараса Бульбы, ибо Тарасово «все, что ни есть» стало — провал, куда ухнули и колдун из «СМ», и Хома Брут (В), и сыноубийца, оказавшийся помимо сознания Гоголя ренегатом, сам Тарас Бульба, и казачество, и мечта о самостийной Украине под управлением казацких батек (дворян), и сам Гоголь, мечтавший «дернуть» восемь томов, посвященных истории Украины; батько, разбухший шар, дрыхнет на перине в Миргороде; судьба его «дела» — тяжба о «гусаке» (ОТ).
Во второй фазе «все, что ни есть» — «ничто»; и в этом узнании — первая прорезь тенденции из гиперболы, ставшей центральным
16
образом; тенденция — сатирична; ее стилистическая разработка необычайно махрова; осознанию стиля в слоге не соответствует осознание целей тенденции к сатире, что подготовляет близящийся конфликт с недоуменным читателем, разразившийся на первом представлении «Ревизора».
Свергнутые в провал образы «романтики», как бы вывернутые наизнанку, переполняют произведения второй фазы: они показаны в ином кругу, в ином обличии, в иной эпохе; и — вверх ногами, как бы прилипшие подошвами к подошвам своих романтических двойников; стоит перевернуть двойную вселенную Гоголя так, чтобы надир стал зенитом, зенит — надиром, чтобы казацкий батько стал помещиком из мелких дворян, нечисть стала чиновным кругом, но не Украины, а — всей Российской империи; и то — Петербург; «зенит» ее, Киев, опрокинется «надиром» в «великолепную» лужу любого уездного городишка.
Еще различие: «герои» прорастали из общего родового фона; Вакул и Оксан выгопаковал дед, как деда — прадед из вещего своего чрева; и они мыслили гопаком ног, имея лицом общее всем прародимое чрево, т. е., не имея лица, а имея стереотип личины; живы их позы и жесты (рук, ног, туловищ); лица — нет. Теперь — ожило лицо в каждом, но оказалось мизерным и недостойным гиперболических панегириков; но панегирик остался... иронией без ясно осознанной цели иронии (тенденция еще сращена с оболочками).
Еще штрих: прошлое неотчетливо слагавшегося в небольшой народец разнообразного племенного состава (казачество), сильного духом, оказалось во второй фазе... только классового прослойкой, но распластанной на всю империю; миргородский Довгочхун, более «натура» Гоголя, чем романтический Тарас, после того, как побывал в казаках XV столетия, раздул свои штаны, став символом «русского помещика», иногда чиновника из дворян: в нем есть черты и от Яичницы, и от Григория Григорьевича, и поздней от Собакевича, Петуха и т. д.1 Он — гипербола, подобная своим надутым штанам; «русского» помещика не знал Гоголь; и в усадьбах его не бывал в той же мере, как и не видел «исторического» Тараса2. Фигуре гиперболического нарастания шаржа соответствует фигура уже нереального умаления лица человеческого: «лицо, изукрашенное оспою» (Шп), лицо «кофейником», «редькою вверх», «редькою вниз» (ОТ); «похоже... на аптекарский пузырек» (ЗС), «на аиста» (ЗС), лицо — «три бородавки» (ОТ); «есть нос... стало быть... нет никакого ущерба» (Н); «лицо глупое и больше ничего» (Ж); лицо «обширное»: и — больше ничего (Шп); «нос запачканный, как большой топорище»; «сверх носа небольшая нашлепка» (Рев); «нос не
17
из золота сделан» (ЗС), и — «никак не больше жилетной пуговицы» (Н) вместо носа место — совершенно гладкое, как... выпеченный блин» (Н) и т. д.; наконец: замена лица принадлежностью: нос, усы, бакенбарды, и — все: лицо почти выкинуто за ненадобностью.
Тем не менее: как ни мелка личность Гоголя, в каждом рассказе какая-нибудь из сошек разрастается в перевлекающий на себя внимание центр. В «СМ» действуют: Данило, колдун, Катерина; в «МН» — Вакула, Ганна, голова, панночка; в «Н» же сплошное стоит: «Ковалев, Ковалев!» В «ЗС»: «Поприщин, Поприщин!» Ковалев ушел в нос, а — «нос не из золота сделан» (ЗС); а лозунг Поприщина — «ничего, ничего... молчание!»
И оттого фабула тоже — «ничего, ничего»: она — молчит!
Во второй фазе всюду удвоение образов первой фазы: «эфирным» русалкам соответствуют «эфирные» дамы; но — эфирность первых всерьез; «эфирность» вторых — лишь ирония; там — сквозящее месячное сияние; здесь «месячное сияние» шали, наброшенной на... тяжеловатые телеса Агафьи Тихоновны. Ведьме, пьющей из горла кровь (ВНИК), соответствует Агафья Федосеевна, закусывающая ухо у заседателя (ОТ); сквозная дева и ведьма-баба суть в первой фазе два порознь Гоголем данных аспекта им не данной реальной женщины; аспекты эти даны второй фазой, как бы двумя возрастами в биографии того же типа: летам к пятидесяти станет Агафьею Федосеевной... Агафья Тихоновна. В «Мирг» сопоставлены рядом, как конец напевного «вчера» с началом непевучего «сегодня» — Тарас с Довгочхуном; Довгочхун выглядит слезшим с седла и заленившимся в своем хуторке Тарасом, сатирически осмеянным; а Тарас выглядит патриотически воспетым Довгочхуном; если бы последний исполнил свой долг и поступил в милицию, — вероятней, в народное ополчение 12-го года: «Тощая баба», которая выносила на двор проветриваться «залежалое платье», вынесла же и «синий» казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович, когда готовился... вступить в милицию и отпустил было уже усы» (ОТ); «тощая баба» выволокла, «кряхтя и таща на себе, старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем» (ОТ); это — седло исторического Тараса, как знать, не прадеда ли Тараса; наконец, «шаровары Ивана Никифоровича... заняли собой половину двора» (ОТ); в шароварах казацких сращены Тарас с Довгочхуном, ибо казацкие шаровары — «шириною с Черное море» (ТБ). Соединяющим звеном меж обоими — ленивый, объедала, как и Иван Никифорович, бежавший из Сечи Пацюк, которого шаровары опять-таки напоминают «винокуренную кадь»; Пацюк — тоже заросший салом Тарас в упадке позднейших столетий, а сбросивший с себя лень Иван Никифорович, — Иван Никифорович, готовый при случае и сесть на коня, — напомнил бы Петра Петровича Петуха; проведите линии от Тараса и Довгочхуна к Петуху и Пацюку; и — круг замкнется; очерченные толщиною, штанами, жраньем и отпусканием грубых словечек, сотрутся различия; и — Довгочхун ли,
18
Бульба ли, Петух ли, Пацюк ли, — сквозь всех выступит мелкопоместный нахал, лентяй, жора, собственник1.
Второй фазою уличается романтическое отвлечение от «натуры» — показом «натуры» так точно, как «лучи солнца, охватывая синий или зеленый рукав... или играя на шпажном шпице», преобразили проветриваемый, залежалый довгочхунов скарб и «делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи» (ОТ); и «толпа... глядит на царя Ирода в золотой короне» (ОТ), а мы на «Тараса Бульбу»; кочующий пройдоха, Гоголь, расставив вертеп, показывал нам переодетого Довгочхуна; в этом вертепе чудные происходят дела: в первом действии показан провал, куда сбрасывают «колдуна»; а во втором он — рама портрета, из которого выпрыгивает ростовщик, переодевшийся наскоро за кулисами; в третьем действии провал — дверь; она отворяется: и оттуда выходит... грек Костанжогло!
Во второй фазе линия фабулы становится... точкою каламбура о носе, шинели, иль бородавке под носом у бея (ЗС); вместо смены авантюрно поданных сцен — стояние сюжета на месте, почти отмена его описанием мелкости центрального образа, развивающего рококо и барокко стилистики; стиль — переосознан; тенденция — недоосознана; это впоследствии ужасает Гоголя.
В самом деле.
Фабула «ОТ» — ссора из-за «гусака», пустячок пустого денька, но данный обстанием великолепно мелкого быта и сальто-морталями слоговой клоунады: «Что за объядение!» — восклицает, автор перед громадой... ничтожества. Тенденция просунута только кончиком носа автора: в последней фразе: «Скучно нам на этом свете, господа!» Она действует, как разрыв бомбы.
В «СП» — никакого сюжета; дан круг: частокол, за который не перелетает «ни одно желание» (СП); в круге — круг яств: «Что за объядение!»; в центре — сидение Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны с приторными улыбками; в центре же этого центра — серая кошечка, мяукающая о смерти; и — взрыв бомбы, соответствующий «профершпиливанию» именьица пустоватым наследником: «День... был самый ясный и солнечный... Но... если бы ночь бешеная... настигла меня... я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди... дня» (СП).
«Н» — сюжета нет: каламбур о носе, соскочившем с лица и опять вскочившем на лицо, после чего обладатель носа «прогуливался, как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде, и нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его
19
лице» (Н). Тенденция автора — аннулирование собственного рассказа: «Во-первых, пользы отечеству нет никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы» (Н). А между тем чисто физиологический ужас «безносицы» — исчерпан до дна.
Выщипываю кое-какие цитаты: «хлеб — дело печеное, а нос совсем не то» (Н); «вместо носа совершенно гладкое место» (Н); «у меня нет именно того, чем бы я мог понюхать» (Н); «должен был итти... закрывши платком лицо» (Н): «хотя бы что-нибудь... вместо носа, а то ничего» (Н); «не может быть, чтобы нос пропал сдуру» (Н); «господин в мундире... побежал вверх по лестнице... Это был — собственный его нос!» (Н); «нос... вышел» (Н); «нос, который... был у него на лице и не мог... ходить» (Н); «милостивый государь... Вы должны знать свое место» (Н); «мне ходить без носа, согласитесь, неприлично... Будучи во многих домах, знаком с дамами» (Н); «вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выжались» (Н); но «нос спрятал... лицо свое» (Н); «носа уже не было: он успел ускакать... с визитом» (Н); «из... ответов носа... можно было видеть, что для этого человека нет ничего священного» (Н); «плут и мошенник... мог... улизнуть из города» (Н); «он уже садился на дилижанс» (Н); «нос мой... пропал... Это не то, что... мизинец на ноге... Подточина, Пелагея Григорьевна... у ней дочка очень хорошенькая...» (Н); «если пропал... это дело медика» (Н); «но без носа человек...— птица не птица» (Н); «у порядочного человека не оторвут носа» (Н); явился квартальный «и вытащил... завернутый в бумажку нос» (Н); «вот он прыщик на левой стороне» (Н); «хотел уехать в Ригу» (Н); «а что, если не пристанет?» (Н); «О, ужас! Нос не приклеивался» (Н); «нос падал на стол... как будто бы пробка» (Н); «оно, конечно, приставить можно; ...но... это для вас хуже» (Н).
Довольно, читатель: ведь это же... ужас!
В первом периоде Гоголь нас страшит, а... смешно; во втором — каламбурит, а... страшно: ужасает в бесфабульном стоянии сюжета на месте и раздутие до «мирового всего» ничтожества Ковалева, когда «мировое все» удостоверяется, что «все, что ни есть, сидит на своем месте!» (Н); «все, что ни есть, опять-таки — нос, нос... нос!»
В «Ш» — никакой фабулы, но грохот высокопарицы канцелярских бумаг, пропетой не старцем «вещим духом» (СМ), а точно «великим мертвецом»; маленький Акакий Акакиевич, исполин в чувстве внушаемой жалости («зачем вы меня обижаете?» И в этих... словах звенели... слова: «Я брат твой»), выставлен в бесчеловечьи своих идеалов, когда он «питался духовно, нося в мыслях... вечную идею шинели» (точно идею Платона); «как будто... другой человек присутствовал с ним... И подруга... была никто другая, как... шинель, на толстой вате» и «с лапками под аплике» (Ш). «Как много в человеке бесчеловечья» (Ш). В том ли «бесчеловечье», что автор издевается над «маленьким человеком», заставив его «питаться духовно» идеей шинели «на толстой вате» и «с лапками под аплике»?
20
И в том ли «человечность» Товстогуба, что он с приятным идиотизмом «бесчеловечной силы привычки» равно улыбается всем за «соленым грибком»?
В «ЗС» — бездвижность, бесфабульность, безвременность: «месяца тоже не было» (ЗС); Поприщин, «испанский король», перешил фрак — в мантию, как Башмачкин, перешивший шинель в... вечную идею Платона; так темой пустой оболочки и в «Ш», и в «ЗС» подменил Гоголь личность; Поприщин — «инкогнито» испанского короля; Акакий Акакиевич — инкогнито привидения; Ковалев — инкогнито носа; инкогнито во второй фазе — все; и все бродят на Невском; в «НП» инкогнито — Невский проспект, эта «всеобщая коммуникация» «северной столицы нашего обширного государства»: «Не верьте Невскому проспекту!» (НП).
Нет фабулы и в «НП», и в «П»; фабула в «П» подменена неинтересным повествованием между живыми сценами; говорится «о том» без «того именно», о чем говорится, ибо воочию истории перерождений Чарткова не видим мы; в «НП» не вскрыто психологически самоубийство Пискарева; здесь беден рассказ; все богатство — в обстании: в «Невском»; но богатство — ничто: «Не верьте Невскому!» Смешно, когда чорт переносит Вакулу в столицу империи; но не смешно, когда чортом выносится из этой столицы в провинцию Хлестаков: крутить вихри мороков и разращиваться здесь — генералиссимусом, так — капитаном Копейкиным (тоже инкогнито Наполеона).
В «Рев» и «Ж» фабула — круг; Подколесин кончает тем, с чего начал; в «Рев» последнее явление возвращает к первому; и там, и здесь — страх: середина же — вздутый морок, великолепнейше; слаженный, или: «Андроново», гремящее «турусами» колесо вертится на месте: ни с места! В «ни с места» — вся сила взрыва, в итоге которого действие оборвано пантомимою, окаменением героев: навеки-веков!
Линия времени заменена кругом пространства; но этот круг — ноль; и недаром в «П» выныривает мосьё Ноль: «Мсье Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть!.. Вы не знаете мсьё Ноля?» (П). Как же не знать: режиссер, костюмер, гример, парикмахер, — прикосновением к мелким героям Гоголя он во мгновение ока перевоплощает в себя их; подошел к Чарткову, и — дамы, пищавшие о Ноле, пищат о Чарткове; «Видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова» (П). Чудодейственное прикосновение мосьё Ноля преображает безносого Ковалева: «Видит он: нос! хвать рукою... нос!.. Взглянул... в зеркало — нос! Вытираясь полотенцем... опять взглянул.. нос!.. И долго смотрел на нос... Приподнял два пальца... поймать его за кончик... Все, что ни есть, сидит на своем месте... И майор; Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем ни бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице» (Н).
Эпиталама — Чарткову, Невскому, носу, Но́лю; но — «не верьте
21
Невскому!» На нем сущностен только Ноль — ноль, ничто; Мережковский в пусто риторическом исследовании утверждает мосьё Но̀ля (он же и Хлестаков, и Чичиков), как до конца воплотившегося чорта1; какой вздор! Свинья, немец, чиновник, своеобразно преломляясь, сложили Гоголю его виньетку «чорта» в первом периоде; и «чорт» забытийствовал, украв луну. Во второй фазе «виньетка» разложилась на составные части: на чиновника, немца и миргородскую свинью; сумасшедший чиновник переселил носы на луну, лежащую в кармане у «чорта» — немца; а немец объяснил гамбургское происхождение ее: «Луну делают в Гамбурге» (вероятно, часы были приняты за луну) (ЗС); потому-то и оказалось, что «месяца... не было» (был, но в кармане: у немца Шиллера); миргородская же свинья, кравшая свитки, украла прошенье; чорт, наоборот, исчез, став — «ноль в нолях», «ничто в ничто».
В первой фазе дан напев фабулы быстрым извивом сцен; и на напеве, как плот на реке, она несется; во второй, — где мелодия? Иссякла, ширясь в невидных болотцах, проросших цветением слоговых форм; в первой ритм — мощней стиля, а во-второй стиль — мощней ритма; в первой ритм — толкач стиля, а во второй слог — толкач стиля. Музыка дана здесь, как ракушка: слоговым отверденьем; так распадается композиции в слоговую изобразительность; жест — в атомы жеста; и уже нет речевой сплошности: лишь лейт-мотивчики, перебиваемые прыгом вводных словечек. Словом: распад жеста, речи, мелодии; организму противопоставлен механический атомизм.
Сквозь все точки просунут, как кончик рапиры, — авторский нос, убегающий, но... не в Ригу, а — за границу: доосознать свой сюжет (после недоумения с «Рев»).
Распаду композиции, жеста, Фабулы соответствует распад коллектива; «герой» родовой жизни, иль «дед» (полу-казак, полу-крестьянин) исчезает из поля зрения; появляются личности без роду и племени, регулируемые не «думкой», а Санкт-Петербургом; этого центра в пространстве нет в первой фазе, где показан во всех уголочках Украины казак и крестьянин, створенные в целое «думками»; Гоголь записывал их; он их знал2.
Гипербола осмеяния выглядит каламбуром словечек испытанного остряка; позднее ее так увидел и Гоголь: «Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром... Смеяться, так уж... над тем, что... достойно осмеяния... Я увидел... что не могу писать без плана... Не случайно следует... взять характеры... Я обратил внимание на узнание вечных законов, которыми движется человек... Говорить о высших чувствах... нельзя по воображению... Нужно стать лучше» (Исп). Гоголь сидит в Риме, изучает человека, раздваивая творчество между собой и «МД», обнаруживая неувязку между себя улучшением и вышелушиванием «полезной» тенденции из гипербол... о носе.
В этом суть перехода от второй фазы в третью.
22
ТРЕТЬЯ ФАЗА
Третья фаза творческой жизни Гоголя соответствует третьей фазе творческого процесса; но в ней именно произошел скандал; словесное оформление центрального образа творчества не осмыслилось вовсе в тенденции; где у Пушкина — торжествующая гармония, у Гоголя кричащий «Театральный разъезд»: окаменив героев своим «электрическим потрясением», выступил на сцену Николай Васильевич Гоголь и стал проповедывать, умоляя дать ему время доизучить никем не изученные законы души на основании корреспонденции к нему. «Что он говорит?» — кричали, схватясь за голову и откачнувшись вправо и влево, Аксаков с Белинским, пока он описывал им «Хлестакова в себе».
Бальзак лупил к славе на десятках романов; отмахав один, махал другой; для Гоголя же «МД» стали образом мысли: его самого; кончить их — быть, или не быть; изумительный художник слова, давший творения незабываемой формы, разбил свои формы в усилиях вынуть из переразвитых слоговых ухищрений костяк недоразвитой тенденции; и за этим костяком, как за великим мертвецом, отправился на тот свет, после мучений: пережить себя одноруким (с десницею, вросшей в шуйцу); отвергнуты «Веч»; сожжены дважды «МД»; отсечена шуйца; а в ней оказалась отсеченной десница. Сознался, что «если он при всех... дарах... приобретет полное познание земли своей и своего народа в корнях и в ветвях... как гражданин всего человечества... тогда он выступит на поприще» (Исп); такого знания «в корнях и в ветвях» быть не может: корни — убегают в тысячелетия родового прошлого; «ветви» — в память поколений.
Личное сознание — ствол; ветви — судьба творений, а корни — наследственность, быт, социальный устой; Гоголь, обещав воплотить в себе невоплотимое, стал синицею, поджигающей море... окончанием «МД»; и в этих потугах их сжег: «Мне верно потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений... Но, как честный человек, я должен положить перо» (Исп); показ скромности сопровождался показом примерного царя и примерного попа; таково печальное применение «примерной» тенденции: «Сила влияния нравственного выше всяких сил» (Исп) (Гоголь оправдывался: «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно») (Исп). Но если бы Пушкин предвидел последствия своего совета, воскликнул бы он: «Голубчик, Николай Васильевич, делайте, что хотите! Пойте, пляшите, смейтесь, осмеивайте, — только: не придавайте такого значения моим словам!»
В 1835 году Гоголь принимается за «МД»; в первоначальной редакции, которую слушал Пушкин, господствовал гиперболизм (второй фазы); его-то и силится за границею затушевать Гоголь.
Прием, который он применяет, — единственен.
Свое «все, что ни есть» первой фазы, ставшее не Украиною,
23
а Россией, он уличает, как только «ничто»; и фигуре нарастания противополагает фигуру умаления; показав «натуру» и перлом создания, и «яка кака̀ намалеванна» (НПР), он без возврата к предмету, претворением двух проекций (со знаком «плюс» и «минус») проекцию третью, в ней открывает новое качество, оттенок тусклости, «натуре» аналогичный, но с ней не створенный; качество подобно радию; его эманация выявляет мертвость основы натуры при видимой ее жизни; контуры тел, лиц и жестов невыразимо ярки; между тем: яркость, — да простит мне читатель, — есть яркость тусклятины; все гальванизировано и являет не жизнь, — дерг лапочек мертвой лягушки; мертвость живее жизни; все дано в выпуклом величии прижизненной смерти; все только выбух физиологического процесса; но процесс — трупное разложение: «Тучная собственность его... стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие...» и т. д.; «барабан... флейта, и... отрывистый гул, точный собачий лай» (МД, 2); вместо слов — «стерляжья уха с налимами и моло́ками шипит и ворчит у них меж зубами» (МД); и даже предметы издают угрожающий шип: «гость... испугался; ...вся комната наполнилась змеями» (МД); это — часы: не жизни, а — смерти; о смерти шипят меж зубами моло́ки; о смерти вещает «отрывистый гул, точный собачий лай» спящего Петуха.
Царство трупов — вся русская действительность.
Такого величия в изображении мелочей не знала мировая литература; его неуловимо тонкий прием охарактеризую при помощи грубой модели: соедините «все» с «ничего»; получится «что-то», «в некотором роде...» и т. д.; в итоге таких приблизительностей, дающих и перелет, и недолет (мимо цели), предмет излучает специфический колорит: «ни то, ни се»; предмет не «неверно изображен»; вместе с тем: он не показан; он — в полутенях атмосферы, а кажется выпуклым в своем тусклом ничтожестве; и вдруг — шип атмосферы, подобный шипу часов Коробочки: «Прижизненная смерть!» «Душа бессмертна!» — воскликнул Московский цензурный комитет и запретил было «МД» за одно заглавие.
Всюду — реальный символизм предметов, не выпирающих, нарочно стоящих в тени углов комнат, чтобы оттуда, слепить бликом четкой осмысленности; и Гоголь пишет: «Я... почувствовал, ...смех мой не тот, какой был прежде» (МД); всюду — выбух физиологического процесса, но как... трупного набухания; ларчик красного дерева, дорожное колесо, все — зерна, могущие произрасти отдельным сюжетом; встреча с губернаторской дочкой побочно поднимает тему «НП»; но Пискарев в Чичикове становится и Пискаревым, и Пироговым, переживающими каждый свое; Пискарев: «Она... белела и выходила прозрачною... из мутной толпы»; словом: «души настало пробужденье»; Пирогов: «Славная бабенка... Из нее мог бы выйти... лакомый кусочек» (НП).
Первый том — попытка к синтезу сюжетного изображения: синтез — ломаной линии первой фазы с кругом, ставшим точкой; сюжетная линия первой фазы, будь сюжет шуткой (СЯ), — интересен
24
зигзагами смены сцен, разнообразием декораций; во второй фазе линия сюжета, как змея, кусает свой хвост вокруг центрального каламбура: нос, нос, — и только! Круг сюжета, сжатый в точку, соединяется в «МД» с линейностью первой фазы тем, что из точки «героя» линия все же вытягивается, но она — прямая; это линия пересечения Чичиковым ряда усадеб; сюжет — монотонный, не усложненный: дорога, «плюс» остановки в одной, другой, третьей усадьбе с покупками мертвых душ — здесь, там и там; отдельные, замкнутые в себе сцены, как кольца, надеты на дорожную линию; и, как кольца, легко снимаемы; все подано без мотивировки: никакой психологии! В каждом кольце, как паук в паутине, сидит помещик — зерно самостоятельной повести, растоптанной отъездом Чичикова, сюжет которой не связан с «МД»; вместо надетых «колец» — Коробочка, Манилов, Ноздрев — могли бы надеться другие кольца: «Коляска», «Старосветские помещики», — чем не эпизоды из «МД»? Стоило бы Чичикову заехать в Миргород, и Довгочхун с Перерепенкой оказались бы в «МД».
Вначале Чичиков — не лицо, а какое-то полнотелое колесо: в Москву доедет, а «в Казань не доедет» (МД); в конце первой части показан и «червь», снедающий Чичикова (страсть к деньгам); показано и начало: прошлое Чичикова; автор еще только обещает представить по-настоящему своего «героя» в следующих частях; но в отрывках второй он — тот же; сюжет Гоголя, по замечанию Переверзева, растет вширь, умножением количества показываемых «персон», а не вглубь; и оттого «герои Гоголя не эволюционируют1. Костанжогло справа, Муразов слева указывают на задатки «великого человека» в Чичикове; к заявлениям этим Гоголь относится с уважением, подпирая сентенции лиц, ходящих в «положительных типах», своею риторикой: «Я обратил внимание на узнание... вечных законов, которыми движется человек» (Исп). А Чичиков продолжает высовывать лишь «нюхательную часть тела», которую в профиль приняли за наполеоновский нос.
Из двух створок гиперболы («плюс», «минус»), когда вылезло ядро таимого смысла, то оно было — пустой риторический троп: печальный итог десятилетнего творчества.
Гоголь, пожелав граждански выявить тенденцию без оболочек, выявил «Переписку» и «Исповедь»; оболочки он сжег. А подлинная тенденция, латентно скрытая мелодией первой фазы, выявясь «электрическим потрясением», убила наповал жизнь в героях Гоголя, дав великолепные изваяния фигур, отданных будущему; Гоголь эпохи «Исп» покушался разбить эти формы, в них вложенною тенденцией, — «тенденцией своего рода». Но тенденция эта — не «та» тенденция; Гоголь вспоминает свою мелодию, свой некогда слышимый «звук»: «это были лета поэзии»; и еще: «это было время... порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком»; «малороссийские ли песни... навеяли их» (из писем
25
1839 г.); «выясниваются и проходят... строем времена казачества»; воспоминания навеяли проработку «ТБ»; но это — воспоминания о прошлом; в настоящем — «ужасно найти в себе пепел вместо пламени и найти бессилие восторга» (к Балабиной); он знает, что переосознание тенденции до сроку — губительно; и вкладывает свою мысль «Михал Михалычу»: «автор, если бы даже имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы обнаружил ее ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию» (Дополнение к «Развязке Ревизора»); и в том же году в «Исп» поступает вопреки написанному: кладет перо, потому что «аллегория» тенденции не влезает в живые образы творчества.
Тенденция класса, породившего Гоголя, была мертва; тенденция спроса шла от другого класса, зрея и воплощаясь в тех именно образах, которые разбил Гоголь. «Творец и мелкопоместный дворянин поменялись местами в нем: творец стал творить себя («надо стать лучше»); дворянин стал писать; миссию творца присвоил себе мелкий собственник; и она лежала в его ларчике из красного дерева судебно-юридическим актом: отказа от всего лучшего в себе.
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГОГОЛЯ
Вернусь к тому, с чего начал.
Творческий процесс имеет три фазы; в начале первой еще невнятен рассудочный принцип выбора «сырья»; внятен осмысленный «звук» темы, т. е. намерение к тенденции; в нем воля к творчеству как бы магнитной силой притягивает и стильно располагает самое сырье (не рефлексии над ним); творчество в этой фазе — еще отбор сюжетов, выявляющий как бы трепет эфирной волны, переданной по «радио»: коллективом; из звука рождается образ, так, как набор буквенных знаков; он выстроен звуком; он — новое качество суммы сырья: в химии сплава; он — типичен (в терминах прошлого); он — стилистичен (в терминах настоящего); и он не отчленим от образа мысли автора в той мере, в какой последний автором не «просвоен» насквозь (еще осознается) в деталях, адекватных деталям художественной организации, — что значит: автор мыслит необычно, ибо сквозь него, как сквозь проволоку, бежит электрический ток от посылающего к принимающему; посылающий — рождающий спрос коллектив; получающий — читательский коллектив, взятый не только в объеме массы, но и в линии дистанции; поколение — масштаб измерения дистанции.
Влияние автора, или возможность зарядиться образами, зависит от способности образов видоизменяться: в сознаниях поколений; автор — двояко обусловлен: коллективом, формующим спрос, и коллективом, принимающим предложения автора сотрудничать с ним во временах, т. е. в ряде поколений.
В Гомере более живая весть о дальней культуре, чем в музеях и в словарях; голос художника слова звучен, когда он звучит и из могилы, — в нашем творчески воспринимающем ухе.
26
Стиль, как след спроса в звуке, — живая сила; центральный образ, «герой», есть конденсатор ее, как запас энергии, чаще всего вскрываемый нами посредством не тех рефлексий, какие были в распоряжении автора: сила — в кабеле, а не в том, что настроено на нем; перестраиваются фабрики и заводы, а кабель, их обслуживающий, остается. Тютчев полагал силу в патриотике своего стиха; клеймил «австрияков» и звал «братушек» под знамя самодержавия; «братушки», передравшись, дрались и с нами; поэзия ж Тютчева во время драк осталась жива, но как... поэзия стихий, а не «славянщины»; то, чем Тютчев говорил Брюсову, привело бы Тютчева в ужас: живую тенденцию тока, бегущего сквозь него, осознал он мертво, убив жизнь тенденции; и рассудочное ее отражение в нем отвергнуто нами.
Ток из a в b бежит и далее, в c, а проволока от a до b не бежит с током; она стабилизирована в сознании автора, принявшем ее как свою собственность; и это — рефлексия в рассудке; сила тока — воля к действию; если мы перехватим ток между a и b, весть до b не дойдет; это случается, когда автор ненужно переосознает не им начатое, не им кончаемое; в ненужных деталях ограниченного рассуждения в духе момента, не в линии времени, он присвоением тока выявит лишь сумму уклонов; ответ будущего на них: «Ты нам не нужен!» Такой ответ получили: Марлинский, Булгарин, Нарежный, Кукольник.
Гоголь оказался нужным вопреки собственному отказу от творчества; отказ — следствие присвоения себе того, что подано сквозь него коллективом для... коллективов; «сознаватель» был мелкий помещик и неудачный учитель, «Николай Васильич»; но это — «нос» художника, ставший статским советником самодержавного православия; и «нос» вообразил: он «духовным регламентом» пересоздаст... «свой класс», принятый за Россию.
Основной образ заряжает силою и его обстающие образы: круг за кругом преображается силою центра; более дальние круги — более всего «сырье»; словесное оформление их взывает к все большей технической сознательности; выступают задачи ремесленные итог — слог.
Параллельно с этим процессом образ произрастает мыслями в деталях тенденции, которая должна быть пластичной, способной к модификациям; в просторечии мы говорим: образы живут; автор гоняется за ними, как пастух за разбежавшимся стадом; если детали тенденции вынуты автором, как незыблемый план, до деталей процесса, то такая отдача ненужной рассудочности равнозначна собственничеству в отношении к тому, чему следует внимать, как силе коллектива; в просторечии говорят: вдохновение покинуло автора. Это произошло с Гоголем: «Все у меня выходило натянуто насильно» (Исп); «я пробовал несколько раз писать попрежнему как писалось в молодости», т. е. певуче, стильно, «но ничто не лилось на бумагу» (Исп); и мелкий собственник уничтожал «все что ни писал в последнее время» (Исп).
27
Принципиальный противник писания «из нутра», подобного процессам выделения, я утверждаю: искусство — в редком умении осознавать суть процессов, но не для резонирования над ними, а для действия формования. Имея план, нужно уметь от него отвлекаться, где надо: а то, вперившись в цель, дашь маху в средствах; мудро не заглядывать в «послезавтра», уже выверенном в мелодии целого, которая — лучший план; в этом и состоит умение писать, чуждое и рассудочному ковырянию, и бессознательной отрыжке. Все, приобретенное усилием сознания, становится навыком в повторных опытах, — той живостью мысли, которою Пушкин определил вдохновение; с привитым навыком, не целясь, попадаешь в цель; дар к этому не в бессознании, а в высшей стадии того же сознания: сознания в действии. Речь идет о разных сознаниях; верней, — разных функциях того же сознания: вслушиванья, об отдаче слуха радиоволне коллектива, которую в просторечии называют «музой»; и о контроле слухом — рук, ног, выполняющих, кующих: в ритме напева; я в танце не попаду в такт, рассуждая о том, что происходит в это время с мускулом.
Так и художник: насилуя софизмами «натуральную» мысль, он рождает дидактику; чтобы этого не случилось, из мудрости должен он «легче ступать»; играя, научишь легче, чем втемяшивая тенденцию; читатель сам вынет из образа то, что увидит, что не всегда видит автор, стоящий спиною к тому, что одаряет его, и передом к обрабатываемому сырью: читатель и не увидит маленького человечка с перепачканными руками, присвоившего себе дары коллектива; не увидит он «носа» автора.
Что происходит каждый раз со стадиями производственного процесса, происходит и с целым творчества; фазы формования новичка в «мастера» обнимают десятилетия; Ибсен вошел в возраст «мастера» к шестидесяти годам.
У одного менее зрима связь отдельных произведений; у другого сквозь все продукты сквозит явственно один процесс; не ищите законченности в продукции, ибо она — в процессе: в подобном случае.
Гоголь, начав с пленяющих безделушек, цельных музыкой, дав цельность стиля за счет погасшей мелодии, вдруг ужаснул узкой тенденцией, в которой завял его стиль, отчего и организм его творчества оказался... без головы; а голова — осталась без туловища; тело без головы взял в свои руки Белинский, раскрыв в нем тенденцию огромнейшей значимости; из неоконченной головы им изваиваемого процесса, оторванной от тела, Гоголь, выпотрошив мозг, сделал... жандармскую каску и арестовал свое творчество; но «жандармская каска», просунутая в «Переписке» и «Исповеди», не смогла отвести тока, шедшего через Гоголя-творца в рассудочно-безголовое тело его творений, головой которых оказалась вся русская литература, продолжавшая развивать дело Гоголя: без Гоголя-проповедника.
Так стала она литературою мировой.
28
Сказав о процессе вынашивания образа, скажу о процессе типизации сырья.
Наблюдение и описание обнаруживают три группы фактов в словесном материале Гоголя.
Первая группа — сырье, натура; обличие ее меняется: то она в шароварах, то в нанковых штанах, то в вицмундире (Чуб, Довгочхун, Яичница); но — то же обжорство, та ж толстая шея; натура изучена и не нуждается в зарисовке; копия впечатана в Гоголя до появления ее в повестях; прикосновение смачного слова, и — портрет выпуклен, вылезает из рамы со всем гиперболизмом болезни: в опухолях быта и даже независимо от личного отношения к нему автора; здесь гипербола — преувеличение природы жизни (сосновая шишка в Аджарии величиной с ананас); гипербола надета на жизнь; и — бьет обухом; Гоголь лишь ставит ее на свое место; она — помещик в усадебке, в городишке, не успевающий, показанный в раззоре, обжорстве, лени, прострации; показан мелкий чиновник (помещик на службе), порой в столице, куда его занесла нелегкая, где он или — забит, или — стал авантюристом, забалансировавшим между лумпен-пролетарием и... капиталистом; обоих еще не видит Гоголь; и оттого линии авантюристических антраша, рисуемые выкидышами из класса, стилизуются в фантастике.
Опись инвентаря выделяет группу сырья — в первую очередь; вокруг него — круг за кругом — рисуется обстание: усадьба, природа полей, крестьяне, ремесленники, купцы, разночинцы-интеллигенты, капиталисты, знать и т. д.; чем дальше от «натуры», тем Гоголь абстрактнее, с тем бо̀льшим трудолюбием силится копировать он; и делает ряд промахов в рисунке; порою нарочно смазывает не ради стиля, а от беспомощности: таково изображение капиталистов, знати; но Гоголю удается ремесленник.
Вторая и третья группа фактов — сырье, подвергнутое искусственной обработке; гипербола здесь не болезнь жизни, а надстройка над жизнью; в ней «натура» подана, как сквозь кисею, то преувеличивающую размер явления, то преумаляющую: в первой фазе — кисея месячного сияния создает романтический колорит; во второй это — «вуали с мушками»: с настоящими; мушиные рои с любовью описанные Гоголем, сознательно безобразят натуру; действует тенденция стилизовать: сперва художественно, потом обличительно и наконец — дидактично; стилизация сперва напяливает на Довгочхуна казацкую шапку с золотым верхом; потом — картуз, подчеркивающий безобразие головы; меняется и фон, в котором вглублены отодвинутые стилизацией предметы натуры; то он — прошлое, то — будущее, куда срывается тройка «быстрых, как вихорь, коней», унося Чичикова.
Исследователи говорят о двойственной натуре Гоголя и о трагедии его сознания; они орьентируют раздвой стилей на раздвое души, подчеркивая двузначность всех образов Гоголя: Довгочхун и Тарас, Бетрищев и... есаул Горобец — два стиля одной натуры; молодой человек в разрезе романтики — Левко, в разрезе сатирики —
29
Хлестаков; молодая дама — и русалка, и «так сказать русалка»; затрапезная тетушка, Василиса Кашпаровна — то ведьма, то мегера; после Гоголя открылось множество «мегер» и «ведьм» там, где их не было: в нашем сознании; и заспорили о том, что в России — неблагополучно; смутился Пушкин.
До этого было и невдомек, что угроблен жизнью слой русской жизни: мелкопоместный, патриархальный. Позднее лишь Гоголь задумался над своим социальным заданием; но — все напутал.
Раздвой Гоголя — следствие его стиснутости двумя прослойками: двух разных классов.
ЛИЧНОСТЬ ГОГОЛЯ
Гоголи — мелкопоместные дворяне недавнего происхождения1. Дед Гоголя, Афанасий Демьянович, — семинарист, отказавшийся от духовной карьеры ради службы в войсковой канцелярии; он стал войсковым писарем; отец Гоголя «пробовал служить... при Малороссийском почтамте по делам сверх комплекта»; болезненный мечтатель, он писал стихи и устраивал, подобно Манилову, разные «долины спокойствия», был «большим мастером на малые дела»; «мать, ...Марья Ивановна, была дочь почтового чиновника Косяровского». Дед бабки, Лизогуб, — валах, сосланный в Сибирь за корыстолюбие. В «СП» — много от семейного быта: «Товстогубы» от Лизогубов. Родственник Гоголя, Трощинский, вышел в «министры» из казачков; какой-то протопоп, родственник Гоголей, тягался с Гоголями за доли наследства; была и польская кровь: Гоголь-Яновский.
Гоголь одел незнатность Гоголей в фикцию выдвигаемой родовитости; он с детства был уязвлен тем, что был «ниже» многих из сверстников; «ребенок был... странный... У него течет из ушей, тело... покрыто нарывами... Его отпаивают декоктами»; в Нежинской гимназии его встречает развал; сверстники, Редькин, Базили, Кукольник (будущие — ученый, дипломат, драматург), блещут в кружке для самообразования; Гоголь сперва держался вдали от кружка, как мало успевающий, мало подготовленный и как отталкивающий от себя «золотушными явлениями». В старших классах он отдается театру и литературе.
Выезды к Трощинскому — окно в свет (со стороны), чтобы пережить грань, отделяющую его от общества; учил его в детстве семинарист; западная литература и позднее — предмет, не изученный Гоголем; позднее ему указывают на Мольера, Гёте, Шиллера, Шекспира, романтиков; семинарская вычурность выражений, мещанские словечки и канцелярская высокопарица, — элементы, из которых позднее вылепливает он свой русский язык.
Мелкий помещик и не взлетал в «свет», разве — трудом и упорством,
30
не брезгающим средствами, достигал он служебных успехов; не делался и предпринимателем; чаще всего оседая все ниже, прищемливался между бытом мелких чиновников, мещан, разночинцев, отщепенцев от разных сословий, позднее сваренных мелкобуржуазной средой.
Гоголи, выйдя из низших сословий, были, так сказать, «мещанами во дворянстве» (не по быту, а по происхождению) среди помещичьей знати; в кружок Фомы Григорьевича, дьяка диканьской церкви, описанный в «Веч», являлся и паныч-латынщик; и называл бабу — «бабусом» (Пред. I); им могли быть: и дед Гоголя, да и сам «Никоша» Гоголь, притянувшийся к писарям и дьячкам в силу уз крови, как позднее притягивался к землякам в силу национального родства; великороссийский аристократ, «боярин» по крови, был наиболее чужд Гоголю; в кругу дьячков чувствовалась непринужденность; здесь можно было и «назиднуть», и блеснуть «светом», поставив «перед собою палец и, глядя на конец его», — назвать бабу «бабусом», а лопату «лопатусом»; и в пику тем, кто утирает носы полою, изумить всех тем, что вынуть «опрятно сложенный белый платок, ...и, исправивши, что следует, складывать его снова... в двенадцатую долю и прятать» (Пред. I).
Паныч из «Предисловия» поздней разругался с кружком, дернув в Питер, где град неудач заставил почувствовать бессилие своего выдвиженчества в «высшем свете», где, не владея образованием, языками, средствами, манерами, умением танцовать и свободно болтать с золотой молодежью, надо было скромно усесться в угол. Сологуб описывает встречу с Гоголем, тогда еще домашним учителем, забавлявшим ребят передразниванием звуков, издаваемых животными; «незадачник» читал свои первые опыты в кругу приживалок.
Личная обида сидела невынутою занозой; отсюда позднее самозащита при помощи оригинальничанья, потом докторальности, выросшей в гидру самомнения, в каприз «гения», с которым возились взапых представители того сословия, среди которого Гоголь некогда появился «гадким утенком».
«Дернула... охота и пасечника потащиться за другими» (Пред. I); «нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои — куда? зачем?.. мужик, пошел!» (Пред. I); молодой Лев Толстой там именно плавал, как рыба в воде, и едва подавал руку выскочкам «Гоголям», где эти «Гоголи» чувствовали себя, как рыба, выброшенная на сушу1: «На балы... едете... позевать в руку» (Пред. I); коли не умеешь пройтись мазуркою, остается... «зевать в руку»; вспомните, с каким благодушием описывает Толстой танцы: мазурки Денисова, Николая Ростова, вальс князя Андрея с Наташей, Анну Каренину на балу; воздух бала был свойственен его сословию.
31
Гоголь же отзывается — на гопак: «А у нас... заведутся такие штуки что и рассказать нельзя» (Пред. I); на мазурку ж — зевает в руку: «выдумали балы! Чорт бы их побрал... Сколько... денег усадят!.. Человек..., и эдак проводят время!.. Ногою дрыг, дрыг!.. Сова-совою, а ногою дряг, точно... блохи кусают его за ноги» (переделанные отр. из «МД»).
Гоголь обсмеивает салоны с «Индиями и Персиями» позолоченными; но и простые его отношения с родными «делаются все менее... искренними». С кружком же Фомы Григорьевича рвет он так, как поздней рвет его великодержавная идеология с будущими самостийниками и австрофилами вроде Грушевских и Антоновичей.
Расщеп в Гоголе — во-первых: смешение кровей, впитанное с молоком матери; во-вторых: признаки подымающейся борьбы классов; сквозь усилия «оморалить» мелкопоместную жизнь чувствуется тяга к мещанскому сословию и снюханность с бытом писцов и поповичей.
Позднее «великороссиянин» Гоголь с великоруссами и мудрил, и хитрил: едва отвечал на вопросы, засыпал, или открыто зевал в восхищенно раскрытые на него рты Аксаковых; встретив же украинца, часами отдавался с ним «хохлацки-бурсацким» замашкам; позднее, став знаменитостью, европейцем, шокирует он манерами дурного тона представителя света, сетующего на Смирнову за то, что она покидает свой круг для выскочки Гоголя. Подчеркивают безвкусицу пестрых жилетов его, ярких галстуков, бледно-голубой фрак с золотыми пуговицами; и подстриженными висками, и хохолком, и претенциозностью производит он неприятное впечатление на С. Т. Аксакова: при первом знакомстве.
Чего стоит тон писем молодого Гоголя! Из письма к Жуковскому 1831 года: «О, с каким бы... восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов Ваших,... возлег бы у ног Вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст Ваших». Из письма к Дмитриеву (1832 г.): «Я вижу в Вас нашего патриарха поэзии... упрашивая не переменять драгоценного Вашего расположения ко мне»; в более своем кругу выражается он иначе; о Пушкине (про которого пишет Жуковскому: «Пушкин, как ангел святой»): «он протранжирит всю жизнь свою» (Данилевскому); о Крылове (Погодину): «этот блюдолиз... летает, как муха, по обедам». Чувства его изменны: «что значит не встретить отзыва» — пишет отзывчиво Погодину он; а бежит через несколько лет из его особняка: отвязаться от дружбы; заискивая у Белинского, конфузится общения с ним.
Вот первое впечатление А. И. Арнольди от Гоголя в эпоху, когда Гоголя носили на руках: «В 6 часов вошел... человек маленького роста, с длинными белокурыми волосами, причесанными à la moujik, с маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким носом... Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одною рукой, которой держал
32
шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса»1; а вот впечатление Н. В. Берга: «Небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками... несколько бледный... Походка его была... мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить... вперед, отчего один шаг выходил... шире другого. В... фигуре... что-то сжатое... в кулак... Ничего открытого..., ни в одном движении... Взгляды, бросаемые... то туда, то сюда, были... исподлобья, наискось, мельком... лукаво, не прямо... в глаза»2. Вот впечатление Тургенева: «Был одет в темное пальто, в зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны... Казался худым и испитым... Заостренный нос придавал... нечто... лисье; невыгодное впечатление производили... одутловатые, мягкие губы... когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий, бархатный, черный галстук. В осанке... было что-то... напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах». Из воспоминаний С. Т. Аксакова: «Я едва не закричал... Передо мной стоял Гоголь.... вместо сапогов длинные шерстяные чулки выше колен; вместо сюртука... бархатный спенсер, а на голове — бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник... Гоголь писал и был углублен... Он долго не зря смотрел на нас..., но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас вышел, и я...»
Любовь к пестроте лишь подчеркивала: связанность, странность, измученность; и Аксаков в нем сомневался: не то мученик, не то шарлатан. А когда за ним не подглядывали, из него вырывался... откровенный гопак: «Гоголь взял с собой зонтик... и как только повернули мы... в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песнь, наконец, пустился... в пляс и стал вывертывать зонтиком... такие штуки, что... ручка... осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону»3; после интимных слов к Анненкову Гоголь, садясь в дилижанс, «поднял воротник шинели... принял выражение мертвого бесстрастия... и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами... кивнул мне головой».
Между гопаком и «позой» искала равновесия измученная личность; но неравновесие было предопределено: неравновесием социальных условий, породивших Гоголя; гопакующий писарь себя защищал величием дворянина; а «дворянчик» лез в генералы наставлять «их высокопревосходительств»: «огромно, велико мое творение... Еще восстанут против меня новые сословия... Кто-то незримый4 пишет передо мною могущественным жезлом». И тут же гордится, что «люди в остальных двух частях выходят покрупнее
33
обыкновенных и в значительных должностях» (sic). (Из письма А. П. Толстому.)
Все знали необыкновенность Гоголя; но осознание им самим этой необыкновенности есть начало разрыва его с необыкновенными творениями собственного пера и связи с кругом лиц, в котором он задыхался.
Он был прав: на него восстало «новое сословие» разночинцев, пролетаризированных дворян и выходцев из народа, предводимых Белинским: «Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом или гордости, или слабоумия... Вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других..., но и о самом себе — это уж гадко...» (Из зальцбруннского письма Белинского 1847 г.) Так пишет человек, 10 лет единственно понимавший Гоголя. Венгеров1 показывает: ставшие трюизмами классные определения Гоголя, вплоть до «смеха сквозь слезы» (что повторил и Гоголь — позднее), были новооткрытыми Америками Белинского, — тем, чего не видели в Гоголе ни Шевырев, ни даже Пушкин; для них Гоголь — незаурядный талант; для Белинского — гений.
Можно сказать, пародируя слова Гоголя («кто-то незримый пишет передо мною... жезлом», что «незримый» но уже слышимый спрос указал Гоголю на Белинского, как на спутника в столетнем пути с ним: сквозь сердца поколений; и тот факт, что именно этот спутник развенчал личность Гоголя, — было для Гоголя незабываемым потрясением2.
ЗНАЧЕНИЕ ГОГОЛЯ
Тот, кто осознал себя «великим», был мал, мелок, малокультурен; тот же, кто в Гоголе себя «великим» не сознавал, — тот огненно сотрясал проходящим сквозь него током, взрывавшим все, защищаемое «мещанином во дворянстве»; тот открыл глаза всей России на ее действительность; и тот учил до желания «поучать».
Довгочхунов изобразил Гоголь-художник в их настоящей, мещанской участи; Герцен уже был близок к формуле мирового мещанства. Гоголь же до него в образе дворянина дал образ... мирового мещанина; Европа приподнимала к поверхности жизни пролетариат; его толчки снизу, соответствуя ударам сверху растущего капитализма, уже раскалывали третье сословие: сверху донизу; трещина разделяла мелкую буржуазию на два борющихся лагеря: один, пролетаризируясь, створялся с революцией; другой взбухал в
34
неопределенно вязкое мещанство; двойная наследственность Гоголя соответствовала двойному спросу к Гоголю-художнику: со стороны левой интеллигенции и тех, кто выступал поздней в зубрах.
Судьба мелкого дворянства определялась уже не в нем, а — в мещанстве; классовый прослоек, породивший Гоголя, становился символом в нем созревающего «червя», который гнездился под дворянскою оболочкой Чичикова; мелкого собственника Гоголь мог видеть и в Вевэ, и в Париже; сквозь «помещика», изображенного Гоголем, просвечивают: и французский буржуа, и американский авантюрист без удачи, и швейцарский кантональный общественник, состоящий все еще в «либералах»; сила Гоголя в открытии «мертвой души» в мещанине, не только в дворянине, уже не ремесленнике, не капиталисте и не интеллигенте; в отрывке «О сословиях в государстве» Гоголь, указав на роль других сословий, начинает: «Сословие граждан, самое разнохарактерное, меньше всего получившее выражение, от неопределенности занятий..., должно возвыситься до понятия...»; и — точки; Гоголь обрывает; но мы знаем: речь идет о мещанстве; в «Исп» он говорит: более всего хотел бы он писать для сословия «мещан», чтобы его «возвысить»; и нудится воскресить «мертвость» Чичикова пассами своего генерал-губернатора при содействии откупщика Муразова. Собакевич, Манилов, Коробочка выглядят русскими помещиками; Бузескул и Венгеров доказывают: Гоголь не знал помещика и русской провинции (до окончания I т. «МД»); он 8 часов просидел в Подольске на постоялом дворе, и 7 дней в Курске (без интереса к Курску); все остальное в России увидел — мимолетом, из почтовой кареты; Венгеров соглашается с Брюсовым1: у Гоголя гипербола сидит на гиперболе; не может быть речи о натурализме «русских» красок у Гоголя; он знал Миргород, Нежин, Полтаву; «натура» Гоголя — украинский провинциальный быт; сквозь него — формирующийся быт мирового мещанства; украинская натура плюс узренный мещанский «интернационал», деленные на два, породили — гомункула, «ни то, ни се», влепленного в центр провинциальной России; изображением, же гомункула Гоголь в России наповал убил класс, к которому был приписан рождением.
Кто же «человековед» в Гоголе? Тот ли, кто о «душеведении» заикался жалко, или — в ком «открылись вещие зеницы, как у испуганной орлицы»? Когда закрылись, остались — две темных дырочки: «не то», «ничто»!
Гоголь-художник внял спросу коллектива новых людей, оторванцев от своих классов; из них и сковалась первая фаланга бойцов; величие Гоголя в том, что он воспринял их радиовесть к нему, конденсировав ее в фазах своего производственного процесса, как ответное предложение художника, с восторгом принятое: «заказчик» нашел отразителя; со-творец Гоголю, Белинский, раскрыл
35
Гоголя нам, вложив «Гоголя» в сердца поколений тем сильней, чем резче отверг он в Гоголе — «гоголя»: мелкого собственника; этот последний, слыша «звон» и не зная, откуда он, присвоил лично себе ему не принадлежавшую тенденцию его инспирировавшего коллектива; и миссию отражения мещано-дворянской, мелкочиновной России понял, как миссию преображения именно этой России.
Ворона в павлиньих перьях закаркала с «Собрания сочинений Гоголя».
Здоровье и «слух» — с Гоголем незнатным, горячо разделявшим споры дьячка с пасечником, и их нападение на «паныча»; «паныч» — обиделся: «сел и уехал... Не нужно нам таких гостей! Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх» (Пред. II) «Паныч из Полтавы» — тенденция казаться знатным; но ссора с «пасечником» окончилась для Гоголя тем, что смачный народный язык обернулся... в «бабуса».
Гоголь с Россией мирился лишь «из прекрасного далека»; его приезды в Россию кончались недоумением: «Россия, Петербург, снега̀, подлецы, департамент, кафедра, театр, все это снилось». (Из письма 1837 года.) В 1840 году он пишет из Москвы: «Какой тяжелый сон... О, мой Рим!»; «как тягостно мое существование в моем отечестве» — пишет он Максимовичу в 1842 году и — к Балабиной (того же года): «с того времени, как... ступила моя нога в родную землю... как будто очутился я на чужбине»; «Исповедь» полна недоумений: в России Россию нельзя понять: у каждого в голове своя Россия; в России не говорят о России, не знают России, не хотят России (Исп).
Перетасовка сословий, «Россий» в России, для Гоголя — кавардак.
Недоумение растет, подобно расте́ру Поприщина, с конца второго периода и разражается скандалом с постановкой «Рев»; и Гоголь бежит за границу: доосознать тенденцию; вместо музыки — рев Гоголю непонятных стихий; «дворянин во мещанстве» учиняет месть «мещанину» (не в смысле Герцена), еще связанному с народом, — «мещанину», вкравшемуся «во дворянство», чтобы эзоповым языком жечь и жалить истлевающую личину.
Язык этот вырван.
Эпоха, предшествующая самосожжению, отмечена ростом недоумения: в росте недоумения «героев» повестей; уже у Чуба наличие «поперечивающего себе чувства»; и «дед» — разгонится оттопатывать; вдруг — ни с места! Изменяла музыка; мелодия перерождалась: в контрапункт диссонансов, и слышался невнятный гул. Происшествие с «Николаем Васильевичем», ставшим великим писателем, «скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно» (Н); «нос его находился бог знает в каких местах» (Н); «ничего не разберу» (Н); произошло явление «необъяснимое» (Н); «неизвестно для каких причин» (Н); таков припев «Носа» с недоуменно торчащим сквозь «Нос» авторским носом: «непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты» (Н).
36
То же недоумение в «Портрете».
«П», как и «Н», кончается недоуменно: «и долго все присутствующие оставались в недоумении...» (П); недоумение — атмосфера «П»; «что-то непонятное самому себе почувствовал он» (П); «не озаренный светом... непостижимой, скрытой во всем мысли» (П); «Господи, боже мой, что это!» (П); «неизъяснимое чувство оставалось в душе» (П); «не мог изъяснить, что с ним делается» (П); «чувствовал... чувство, непонятное себе самому» (П); «чувствовал... ожидание чего-то...: точно... сидит шпион какой-нибудь» (П.), т. е. мировой мещанин в художнике из мелкопоместных дворян: «так говорил он..., но изнутри раздавался другой голос» (П); «нет ли здесь какой-нибудь тесной связи с его судьбою» (П) и т. д.
Автоматизмом из недоуменности проштрихован в «Ш» Акакий Акакиевич, до отказа понять что-либо; подмигнув хвостику «у», он вздыхает: «ничего... неизвестно» (Ш); «нивесть от какой причины» (Ш); такими фразочками переполнена «Ш»; «побежал было... неизвестно почему, за какою-то дамой» (Ш); ему ли бегать за дамами? Но это потому, что «как будто все переменилось... и показалось в другом виде» (Ш).
Пискарев побежал за Прекрасною Дамой, а прибежал... в публичный дом, потому что перед ним «все окинулось каким-то туманом» (НП); «мост... ломался на своей арке... дом стоял крышею вниз...» (НП); «какой-то демон искрошил... мир на множество кусков, и... эти куски без смысла, без толку смешались вместе» (НП); и оттого: «вы думаете, что этот... говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в... офицера? — Совсем нет, он говорит о Лафайете» (НП). Так и Россия искрошилась для Гоголя на множество кусков, — и эти куски «без смысла, без толку смешались вместе».
Тот же туман в «Рев»: «сам не знаю: неестественная сила побудила» (Рев); «ничего не вижу; какие-то свиные рыла вместо лиц» (Рев); «точно туман какой ошеломил» (Рев); «точно стоишь; на колокольне» (Рев.); в недоумевающем изумлении окаменевает действие: «звук изумления единодушно излетает из дамских уст» (Рев) и т. д.
В «ЗС» — рост недоумения становится темой рассказа: «все было передо мною в каком-то тумане» (ЗС); «здесь что-то да не так» (ЗС); «я не могу понять» (ЗС); «числа не помню... месяца тоже не было» (ЗС); трагедия Поприщина и ужас Ковалева сплетаются здесь с недоумением Гоголя, оставшегося без носа, без нюха: «может быть, я сам еще не знаю, кто я» (ЗС); «может быть, я совсем не титулярный советник» (ЗС), а... писарь из дьячков, Гоголь, или... почтарь, Косяровский? И — вскрики отчаяния: «чего они хотят от меня?» (ЗС); «что они делают со мной?» (ЗС); «что могу дать я им?» (ЗС).
Так восклицает Гоголь после «Переписки», когда ему показалось, что «теперь-то, наконец, я узнаю... все эти пружины» (ЗС); и
37
узнанные пружины оказались особой миссией... при Дубельте: с Дубельтом отереть слезу «землепашцев»; ибо — «благородно правительство бдит равно над всеми» (ТР); и потому: «в груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство» (ТР). Здесь тема недоумения переходит в страх, бред, абракадабру.
За границею Гоголь овладевает мороком, но — как? Омертвением того, что когда-то в нем пропело, что потом бичевало, но... непроизвольно. И тут дает он гигантское расширение «мертвости» в образах «МД», которые реальны, как все мертвое «во всем, что ни есть на свете» (в мещанстве), и символичны, как образы великороссийской видимости; этого расширения образов перепугался Гоголь.
Печать формосодержательного процесса на «МД» — сама остановка его: «мертвая душа», показанная с ослепительной яркостью, как... тусклость (sic); а осознание этой остановки стало осознанием ложно присвоенной тенденции, т. е. — чорт знает чем: какою-то Испанией... под «петушьим хвостом». «Испания» — оформление православия, как душевной инквизиции; «петух» над ним — Николай.
Да, но ...
Гоголя покарал Белинский; реабилитировал... Чернышевский — над свежей могилой (1855—1856 года): «самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, не приписывают его деятельности столь громадного значения..., как приписываем мы. Мы называем Гоголя... величайшим русским писателем... Он имел полное право сказать о себе слова, безмерная гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников...: «Русь! Чего ты хочешь от меня?.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» Он имел полное право сказать это»1.
В 1831 году (год выхода «Веч») прозы Пушкина еще не было; в 1833 году Гоголь дал уже «ОТ», а прозы Пушкина еще не было (в 1834 году вышла «Пиковая дама»). «Гоголь был отцом русской прозы» — утверждает Чернышевский; он, по Чернышевскому, родил «натуральную школу»; он же возвел нашу литературу к возможности в ней быть самобытным каждому талантливому писателю (Чернышевский); для этого надо было перетворить язык; и он это сделал.
«Натуральная школа» (Гончаров, Тургенев, Толстой, Григорович, Писемский, Островский) по прямому проводу не выводима из Гоголя, хотя бы потому, что в ней отход от «превосходной» степени к «положительной», менее богатой фигурами речи и лишь разрабатывающей, по-разному, в деталях, данные Гоголем контуры: пейзажа, жанра, жеста. Переоценка Тургенева, Гончарова, Григоровича в недавнее время показала, что в линии отхода от Гоголя «натуральная школа» скорее потеряла, чем приобрела подлинную «натуру»;
38
«натура» оказалась у Тургенева — олеографизмом: видимостью натуры; Писемский во многом впал в плохого сорта фотографизм и т. д. Чернышевский провел слишком прямую линию от Гоголя к таким разным писателям, как Толстой, Тургенев, Островский; в прямом смысле из слога Гоголя выюркнул только слог ранних повестей Достоевского, скоро с ним разошедшегося; в Салтыкове по-своему отразился гиперболизм представлений; но слог Салтыкова — иной. Гоголь умел извлечь из языка доселе неизвлекаемое; после него никогда уже не было такого сдвига в нашей литературе.
Я не уделю места разгляду влияний на Гоголя предшественников (русских и иностранцев); этот вопрос исследован: нет писателя, не начинавшего с «влияний»; повторять слова о влиянии Стерна, Вальтер-Скотта, Тика, Матюрина, Жанена, Жуковского, а тем паче Марлинских, Нарежных, Сомовых, Олиных и т. д. — ломиться в открытую дверь (да я и не историк литературы). В. Гиппиус, Виноградов, Веселовский, Котляревский и Чудаков достаточно распространялись на эту тему; я считаю, что сумма всех влияний ничтожна в сравнении с «новым качеством», выявленным из химии соединения суммы влияний; и кроме того: разлагать писателя на «влияния» и суммой их характеризовать писателя — все равно, что характеризовать «Войну и мир» тем, что в наборе все буквы встретятся (от «а» до «я»); историки литературы в прошлом столетии достаточно нагрешили поисками «влияний»; вместо того, чтобы писателя «выярчить», они его протускляли перечнем влияний.
Разобрано и влияние Гоголя на наших классиков; отмечу лишь перепев слоговых ходов Гоголя у раннего Достоевского. Более внимания я уделю недавнему возврату к Гоголю в кружках, резко противопоставленных «натуральной школе» критикой начала века; в них подчеркнулись: гоголевский гиперболизм, гоголевское «остраннение» образов, рискованность сравнений, изощренность восприятий, выиск неологизмов и т. д., т. е. все то, что звучало под сурдинкой у «натуральной школы»; в символизме, имажинизме, футуризме вплоть до экспрессионизма — явные следы «гоголизма» вместе с отходом от Тургенева, Гончарова, Писемского, Григоровича и неудачных усилий исходить от Толстого.
Гоголь дважды прошелся ветром по нашей литературе: в середине прошлого века, в начале нынешнего; дореволюционная «писательская молодежь» у Гоголя училась во многом. Чернышевский писал: через четверть века по выходе «Вечеров» еще нельзя говорить об успехах, преодолевающих Гоголя. Теперь, через сто лет после «Вечеров», еще нельзя говорить, что Гоголь отшумел в нас.
Мое исследование — слабое усилие почтить столетний юбилей появления в свет первого произведения «Николая Гоголя».
39
ПЛАН КНИГИ1.
Двояка цель написания этой книги: хотелось бы показать след первичного процесса — и на форме, и на содержании образов Гоголя; показать — на статике печать динамики.
Форма статична, как итог процесса; этого не оспаривают; сказать что в известных условиях статично и содержание, — значит: вызвать недоумение. Я утверждаю: содержание статично, когда оно до конца отчленено от процесса, его породившего, что узнается по плодам; бывает: тенденция содержания и значительна, и благонравна; мы же сдерживаем зевок; оно не действует; оно — ясно до дна; солидарны мы с ним, или нет, — мы с ним не спорим, не восхищаемся им.
Действие — взаимодействие: автор движет нами, когда заставляет преодолеть кажущееся вначале неясным; в усилиях преодоления учимся мы, споря с показанным, или ему удивляясь; и Гоголю это известно: «автор, если бы даже имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия бы сбилась на аллегорию» (дополнение к «Разв. Рев.»). В сотрудничестве с автором сдвигаемся мы с косной точки; все, что нарастет нового из опыта чтения, что станет предметом работы над автором, в свою очередь сдвинет автора — в нас; взаимодействие в том, что биография творчества ширится в столетиях за пределами могилы; и выявляется принцип эйнштейновской относительности.
Содержание взаимодейственно, когда в тенденцию показа, о̀бразами показа, влит автор, как ток; по нас пробегающий; током несется неумирающий автор сквозь телеграфные столбы поколений. «Ставшее» содержание вне его становления (в нас и в авторе) совершенно несносно: и в ясности благонравия, и в ясности одиозности; оно — слишком ведомое; с ним делать нечего.
«Дважды два — четыре» — великая истина; не сомневается в благонравии ее — никто: ни Эйнштейн, ни Бор, ни... Фома Аквинский; однако: не она разрешает живые споры теорий: квантовой, волновой, электронной; принципы физики, выдвинутые Галилеем, Декартом, Ньютоном, не носили характера исчерпанности до дна; были тем-то в одном отношении, этим-то в другом; оттого: история новой физики — вихрь вариаций картезианства и ньютонианства; здесь взгляд — тональность, а не «обидная ясность», согласиться с которой ничего не стоит, но от которой, как от козла: «ни шерсти, ни молока».
Мне приходится подчеркивать текучесть, вариационность всякого художественного содержания.
Часто под содержанием разумеют объясненность при помощи «2×2», исключая возможность той приблизительности, без которой
40
наука не выкарабкалась бы из ложной точности средневековья к точности в более высшем смысле, объясняемой не четырьмя правилами арифметики, а теорией комплексных групп.
Содержание, изъятое из процесса его становления, — пусто; но и форма вне этого процесса, если она не форма в движении, пуста; форма и содержание даны в формосодержании, что значит: форма — не только форма, но и как-то содержание; содержание — не только содержание, но и как-то форма; весь вопрос в том: как именно?
Из этого положения был сделан вывод о единстве формы и содержания; вывод пуст, если не ввести формосодержательного процесса, как чего-то, предопределяющего содержание и форму; абстрактность лозунгов о единстве сказалась, когда единство фактически понимали в форме, видя в тенденции разве что стилевой прием (формализм); или же понимали единство в рассудочном содержании, технизируя форму (конструктивизм).
Наша задача: показать, что единство формы и содержания произведений Гоголя не в стилевых приемах, использующих тенденцию, не в механическом чертеже утилитарно продуманных форм из рассудочно выверенного содержания; нам хотелось бы показать формосодержательный процесс в печатях его: и на форме, и на содержании.
Главным образом хотелось бы рассмотреть стилевые приемы Гоголя, в связи с этапами оформления в нем процесса; и наконец ощупать словарь Гоголя в определенных слоговых ходах, как продукт осознания Гоголем его словесного мастерства, ибо слог — осознанный стиль, как стиль — осознанный ритм; ритм, стиль, слог — три ткани словесного организма; как эпителий, мускулы, соединительнотканные образования с нервами формообразующего процесса, пронизывающего эти ткани.
Задача не в мелкой зарисовке по группам множества слоговых оттенков, а, так сказать, в съемке плана с главного рельефа, сложенного переплетеньем пород: слоговой, стилевой и ритмической, с отметками на породах и смыслового процесса в его трансформах от звукообраза к образу мысли; от образа мысли к тенденции; не морфология сама по себе, а данные в морфологии физиология и эмбриология интересуют автора.
Стиль Гоголя изучен достаточно; проф. И. Мандельштам напечатал в 1902 г. исследование «О характере гоголевского стиля»»; В. Гиппиус («Гоголь», Ленинград 1924 г.), В. Виноградов («Этюды о стиле Гоголя», 1926 г.; его же «Эволюция русского натурализма», 1929 г.), Б. Эйхенбаум («Как сделана «Шинель». В «Сборнике» по теории поэтического языка», 1919 г.), работа Ермакова и книга Переверзева («Творчество Гоголям, изд. 3-е, 1928 г.) уделяют много места разгляду стиля; и тем не менее я выдвигаю главною темой книги этот самый разгляд. Мотивы есть: исследование Мандельштама — итог очень добросовестного изучения; но классификация «сырья» случайна в нем; и — нет рельефа; «слоны» и «мухи» стиля приведены к одному масштабу, а он — условен: «мухи» преувеличены
41
в нем; «слоны» уменьшены; о гоголевском «юморе» сказано, по-моему, слишком много; и ничего в этом многом не вскрыто по существу; фигуре ж повтора у Гоголя, столь для него типичной, не уделено достаточного внимания; гиперболизм Гоголя не резко очерчен; со времени исследования недаром прошло тридцать лет; приемы анализа изощрились; материал Мандельштама взывает к коренной переработке; почтенному исследователю не хватает методов для объясняющей систематики стиля; и оттого, например, глава «Гоголевский юмор» развилась в целое исследование, где под формой десяти «юморов» расширено самое понятие «юмор» до невозможности его замкнуть в «юморе», ибо под «юмором» Мандельштам разумеет и не юмор; я, например, намеренно не касаюсь «юмора»; он связан с методом художественного познания Гоголя; его и не назовешь юмором, а — «стилем» остраннения образов, зависящим от идеологии (стиль — отражение ее); пресловутый «юмор», интерферирующий недоумением, ужасом, слезами, гротеском, и не есть юмор в точном смысле. Виноградов разбирает приемы отдельных произведений и не касается слога в целом; статья Эйхенбаума остра и жива; но она характеризует лишь «Шинель». Ермаков не разбирает стиля, а посредством него проповедует тенденцию, высосанную из пальца Фрейда; у Переверзева есть любопытные наблюдения над отдельностями стиля, но вовсе не над его целым.
О стиле Гоголя написано много, а сказано мало.
Главное: все сказанное — сказано или от формализма, или прислонено к формализму; у Ермакова же и кривая тенденция формализма использована для еще более кривой тенденции: для фрейдизма.
В своем разгляде не буду слишком глядеть в микроскоп; буду говорить о модификации стилевых особенностей, взятых в целом, в соотношении их друг к другу; и в трансформе: по фазам.
Этим определяется и план книги.
Чтобы изучить систему желез, косточек и т. д., анатомы прибегли к вскрытию организмов. Во второй главе я дам опыт вскрытия приема, определимого изобразительностью и сюжетом, на одном из ранних произведений Гоголя; я беру такое произведение, где еще не сращены, раздельней поданы три основных пласта, строящих стиль; на нем легче показать спайку стилевого процесса с процессом вынашивания сюжета и его тенденции, имеющей огромное социальное содержание, не узнанное ни Гоголем, ни его критиками.
Речь идет о «Страшной мести».
Я дам разгляд ее стилевых особенностей; на основании вскрытия сюжета в его приемах станет ясным принцип классификации особенностей стиля.
В этой же главе о сюжете я попытаюсь охарактеризовать имманентность друг другу тенденции, стиля и слога в «Мертвых душах».
Вторая глава будет посвящена мною характеристике стилевых приемов Гоголя, данных в слоговых ходах.
В третьей главе я коснусь связи между слогом Гоголя и его
42
изобразительностью; я возьму изобразительность, как науку видеть сюжет в предметах; в этой главе стиль взят мною отчасти уже и в формосодержательном смысле, как в отпечатках процесса; здесь же попытаюсь я из характеристики жанра Гоголя бросить взгляд и на связь мастерства с тенденцией содержания.
Четвертую главу я посвящаю анализу слога Гоголя и его словаря (опять-таки в связи с сюжетом).
Задача этого исследования узка; исследование — введение к «исследованию-собственно»; оно — разгляд формосодержания, содержания, явленных в форме; второй частью его был бы разгляд формы, формосодержания, содержания в ориентации к содержанию; и наконец третьей частью явился бы выявленный в таком двояком разгляде сам формосодержательный процесс. Мы могли бы тогда лишь составить правильное суждение о творчестве Гоголя, если бы форма, содержание, формосодержание были бы девятижды рассмотрены во всех аспектах их отношения друг к другу.
Как одна девятая полного исследования, и притом одна девятая, обращенная к стилю, мое исследование в целях методического самоограничения вынуждено отказаться от целого ряда проблем, связанных с тенденцией содержания; вот почему и нет в нем главы под заглавием «юмор у Гоголя», ибо «юмор» Гоголя — не прием стиля; он дан под флагом множества приемов, перечисляя которые запутывается Мандельштам; если бы я шел от содержания мировоззрительных тенденций Гоголя, то такая глава была бы необходима; в таком случае и книгу свою я назвал бы «Гоголь», а не «Мастерство Гоголя».
Будучи подчеркнуто сужен в диапазоне задания в этом «введении» к исследованию, я утешаю себя мыслью, что и в узких рамках работа моя может возбудить интерес литературоведов, поскольку она есть шаг к словарю Гоголя.
Литературоведение еще в сложении; литературовед-теоретик озабочен упрочнением общих принципов; всякая наука в становлении берет все силы ученых там, где происходит чеканка методологии; методологу нет времени составлять словари; Даль многие годы составлял свой «Словарь», начавшийся с благословения Пушкина, поздней вызвавший восхищение Ленина; он — собрание сырья, вскрывающего пружины грамматики.
Литературоведение, вооруженное методом, нуждается в градации словарей русских писателей; слава завоевателям новой науки; но не бесцельны и скромные работы собирателей «сырья»; в качестве такого сырья, введения к словарю Гоголя, к элементам поэтической грамматики Гоголя, работа моя была бы не бесполезна.
Если это так, я был бы удовлетворен.
Все же, что не имеет прямого отношения к будущему «словарю», я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить.
43
ГЛАВА ВТОРАЯ — СЮЖЕТ ГОГОЛЯ
ОСОБЕННОСТЬ ГОГОЛЕВСКОГО СЮЖЕТА
Особенность сюжета Гоголя: он не вмещается в пределах, обычно отмежеванных ему; он развивается «вне себя»; он скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме; в содержании, понимаемом обычно, не так уж много «содержательности»; где видят лишь деталь оформления, докраску, — там сюжет Гоголя выявляет свою особую мощь; композиция, краски, слова, точно ключи, отпирающие в подставном содержании подлинное; сюжетная линия, расширяяся в краске, становится «хитрой» и вычурной; обременение линий сюжета роскошью образов и силою звука производят впечатление вторичного произрастания сюжетной фабулы, после которого первичная фабула выглядит, как отвеянной; то, чем казалась она, оказалось иным.
Впечатление, которое получаешь при пристальном изучении сюжета: точно сидишь у зеркала воды; и — видишь: с непередаваемой четкостью отражены в воде облака, небеса, берег; все утрировано; ненатуральна четкость очертаний; вдруг — какие-то мутные пятна и тени, к отражению не относящиеся, бороздят контур его; в месте облака видишь: облако пересекающую стайку подводных рыбок (рыбки — в небе?); очерк природы выглядит фантазийным; или наоборот: фантастический сюжет опрокинут в бытовом объясненьи; и фантастика — только вывернутое подоплекой наружу обстание. Переочерченность сюжетных контуров теперь — клякса: где леса, облака, небеса? Бисерная муть! Что случилось? Одна из «рыбок», вынырнув, плеснула хвостом; что считал за сюжет, — стерто поднятой зыбью.
Примеры?
Их сколько угодно.
Два мужика рассуждают о колесе чичиковского экипажа: доедет или не доедет? Никакого видимого касанья к сюжету: пустяк оформления, которого не запомнить читателю; через шесть или семь глав: выскочило таки то самое колесо, и в минуту решительную: Чичиков бежит из города, а оно, колесо, отказывается везти: не доедет! Чичиков — в страхе: его захватят с поличным; колесо — не пустяк, а колесо Фортуны: судьба; пустяк оформления этим подчеркнут; в него впаян сюжет у других он не впаян в деталь экспозиции; и там она — форма, не зацепляющаяся за сюжет; здесь — содержание. Другой пример: показан ларчик красного дерева, который всюду
44
таскает за собой Чичиков; на нем останавливаешься невольно; он подан с фотографической точностью; еще ничего не сказано о лице Чичикова; еще ничего не знаешь о свойствах его душевной жизни; ларчик, пустяк подставлен вместо лица с назойливой выпуклостью точно яблоки на синей бумаге художника Петрова-Водкина. И это потому, что ларчик — не ларчик; в нем и утаено подлинное лицо еще не показанного героя; он и ларчик, и символ души Чичикова; она — ларчик, таящий и страсти, и криминальное свое прошлое; в сцене с Коробочкой вскрывается ларчик; видишь, что в нем — фальшивое дно; под ним деньги и бумага, на которой пишутся судебные акты; но те деньги — не деньги вовсе, а червь, Чичикова грызущий; и бумаги те — не бумаги, а — уголовное прошлое; Чичиков пойман с поличным Коробочкой; уголовная подоплека Чичикова вскрыта пред ней; она выпрашивает бумагу: но не она ли, говоря символически, через несколько глав настрочит свой донос на этой бумаге: ведь нелепое появление ее в город и слухи, ею распущенные, — донос на Чичикова.
«Ларчик», как и колесо, — показательные детали, впаянные в сюжет.
Сюжет «минус» непрочтенная сцена над ларчиком у Коробочки — одно; сюжет «плюс» уразумение смысла сцены — совсем другое; сцена без понимания целого ситуации — прием подачи простого и ясного, как день, фабульного штриха; с пониманием симптоматики ситуации сцена — сюжетный узел; с открытия ларчика начинается выяснение подлинной подоплеки чичиковской души, которая, как змея, выползает впервые: из ларчика; не оттого ли часы Коробочки; зашипели так, будто комната наполнилась змеями? Отныне сквозь безличие «вполне порядочной» личности из Чичикова выглядывает разбойный насильник: вспомните весь разговор Чичикова с Коробочкой; он делается вдруг грубым; он запугивает Коробочку, принуждая к продаже. И здесь сюжет впаян в деталь; она его выглубила.
Все детали «МД» — таковы: не спроста показан шарф «всех цветов»; не спроста перед усадьбой Коробочки собирается над Чичиковым гроза, как предвестие угрозы Коробочки; не спроста; Чичиков вывален в грязь: под усадьбой Коробочки; не спроста сбруею сцепился его экипаж с экипажем губернаторской дочки; нет ничего «спроста»; а между тем: все подается с ужимочкой простоты, как досадная мелочь, отвлекающая-де от действительного сюжета; между тем: сюжет-то и дан в сумме всех отвлечений; то, от чего мелочи отвлекают, чистая фабула, — элементарная плоскость заемного анекдота.
Но содержанья, зарытого в деталях, не видишь сперва; то же, что видишь, — отражение пушкинского сюжета, как отражение на воде берегов; берега — фикция; вдруг: жизнь выступает (стая рыбок на облаке): на безликом лице «дорожного путешественника» выступает разбойник, грабящий на дорогах: воображенье Коробочки впечатывает в пусто поданном круге лица свой миф: о разбойнике;
45
миф разыгрался в капитана Копейкина; сквозь все протянут вдруг наполеоновский нос (сходство носа с Наполеоном); символически (мы ниже докажем) оно — так и есть: Чичиков — зародыш нового «Наполеона»: грядущего миллиардера; в нем червь наживы, — сама энергия капитализма; «миф» о Наполеоне в известном смысле реален; он — подоплека подлинно понятого сюжета «МД».
Вне деталей изобразительности, обычно относимых к «форме», не поймешь ядра сюжета Гоголя; Гоголь-«сюжетист» хитрее, чем кажется; он нарочно подает читателю на первый план не то вовсе, на чем сосредоточено его внимание; и оттого в выражении простоты «у, какое тонкое» что-то; он отводит внимание от улова «рыбок», поданных под заемным сюжетом, показывая на отражения в речном зеркале, и твердя: «Леса, горы»; те леса — не леса, те горы — не горы; под ними — «рыбки»; твердит убежденно в «СМ»: «Колдун, колдун: страшно!» Суть же не в том, что «колдун», а в том, что — отщепенец от рода; «страшно» не оттого, что «страшен», а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно «антихристом»; «леса» — не леса: «борода деда»; дед же — «великий мертвец», управляющий родовой жизнью; горы — выпертые наружу и уже мертвые недра патриархального быта; страшны мертвецы, живущие внутри мертвеца; это те, кто видят «колдуна» в каждом иностранце; декоративные мертвецы, вылезающие из могил в «СМ», — дедовская легенда; суть же — не в них.
Дар единственного по органичности сключения натурализма с символизмом был присущ Гоголю, как никому; «символика» романтиков в сравнении с натуральным символизмом Гоголя — пустая аллегорика; сюжеты Гоголя, как «кентавры»; они — двунатурны: одна натура в обычно понимаемом смысле; другая — натура сознания; не знаешь: где собственно происходит действие: в показанном ли пространстве, в голове ли Гоголя; не знаешь и времени действия: в исторических повестях открываешь события жизни Гоголя; недаром отметили: с историей обстоит у него плохо; в показе деталей истории он просчитывается порой на... столетие.
Что реальней Акакия Акакиевича? Между тем: он живет внутри собственной, ему присущей вселенной: не солнечной, а... «шинельной»; «шинель» ему — мировая душа, обнимающая и греющая; ее называет он «подругою жизни»; на середине Невского себя переживает он идущим посередине им на листе бумаги выводимой строки; это — персонаж Гофмана; существо сознания его «фантастично». Наоборот: дикий вымысел «СМ» — совершенно реальная плесень, выросшая на отсталом быте патриархального коллектива; она — восприятье тупой головой обставших и теснящих ее высших хозяйственных форм; к ним и был, вероятно, приобщен «колдун» во время своего двадцатилетнего отсутствия: «за границей».
Не приняв во внимание особенности гоголевского сюжета выглядеть двойным, будешь глядеть в книгу, а видеть фигу.
У Гоголя «содержанием» прорастает и форма; прием — содержателен; этим сугубо подчеркнут к нему интерес; в него впаян сюжет;
46
сюжетен творческий процесс Гоголя в стадиях застывания в форму; он — автобиография Гоголя, писанная в лицах; но автобиография эта — биография отщепенцев, вырывающихся из класса, в которое они рождены.
Сюжет Гоголя, понятый в узком смысле, лишен оригинальности, заемен, исчерпан, как исчерпана жизнь его породившего класса; ее содержание — тусклый денек, подожженный вспыхом, как из чубука, обиходного каламбурика, озаренный, как лампадкой, легендой про «дивную старину»: из теневого угла; но каламбур — общ; трафаретен сюжет легенды. Напомню: сюжетцы «МД» и «Рев», обиход литературы эпохи Гоголя (вплоть до... Булгарина); в «ОТ» по-своему отражена «Повесть о двух Иванах» (Нарежный); сюжет «Ш» — бывшее происшествие (с утратой ружья, не шинели); «ЗС» — навеяны разговором о фактах быта душевнобольных; сюжет «Н» — носологические каламбуры, переполнявшие журналы эпохи Гоголя в связи с техникой приращивания искусственных носов...1; «ВНИК» основой берет трафарет легенды, переваренный в сюжете, заимствованном у Тика.
Не ищите оригинальности в деталях фабулы; в сравнениях с драматикой Достоевского, с хитростью фабульной интриги романов Диккенса или даже романов Вальтер-Скотта, в сравнении с экзотикой фабулы Гофмана — фабула Гоголя обща, а со второй фазы и до скуки проста. А где силится «разынтересить» сюжет он, как в «П», там убивает «интересность» вялым рассказом «о том», как влиял портрет на перерождение Чарткова, минуя «то именно»: процесс перерождения; и Диккенс, и Достоевский его-то и сделали б стержнем занятной фабулы.
Сюжет врос в расцветку; его «что» на три четверти — в «как»; вне «как» — какая-то безруко-безногая фабула; придется показывать, как сюжет подан слогом, изобразительностью, перерисовывающими общий очерк его в очерк с необщим выражением: в этот вот; сказав нечто о тенденции гоголевского сюжета, придется тотчас перейти к показам тенденций в данном произведении; я не имею возможности охарактеризовать сюжеты всех произведений Гоголя; придется ограничиться разбором лишь двух показательных произведений, в которых одинаково ярко выявились особенности приемов «рассказчика» — Гоголя; я беру «СМ» и «МД». Задача этой главы — показать, как социальная значимость гоголевского сюжета становится очевидной лишь в учете всех красок, слов, мелочей, пропускаемых обычно читателем; гоголевский сюжет прочитываем лишь при взятии на учет: их всех; мелочи его выглубляют; в каждой — «зарыта собака»; без вырытия этих погребенных «собак» сюжет — не сюжет.
Он — невпрочет.
Эта особенность сюжета значима особенно в произведениях первой творческой фазы.
Много писалось о «поэтичности», «фантастичности» фабул
47
Гоголя; можно подумать: кроме лунных ночей, добродушных гопаков и сказок «с подпугом», в них нет содержания; фантастика же — мода всех сюжетов времени Гоголя; гопак — общая форма отношенья к Украине: у читателя-«великоросса»; ссылка на «поэтичность — неопределенна, обща; и можно думать (и думали): сюжет первой фазы лишен всякого социального содержания; добродушно смеялись над смешными ситуациями «НПР», «ЗМ», «СЯ»; те же произведения, где нерв сюжета — не смех, а, например, ужас, и где не гопак доминирует, а трагедия, — те произведения виделись неудачными; и такими виделись «В», «СМ».
Прошли мимо огромного социального содержания «Страшной мести»; одно из наиболее изумительных произведений начала прошлого века было объявлено как ненужное просто; и Белинский в нем ничего не увидел; Гоголь, посвящающий позднее страницам «Рев» и «МД» много авторских разъяснений, ни слова не обронил нам о том, что думал он, когда организовывал образы «СМ»; отрывок из «СМ», «Чуден Днепр», переполнял хрестоматии недавнего прошлого; вне его можно было бы думать: Гоголь и не писал «СМ». Современникам Гоголя (и Пушкину в их числе) нечего было делать со «СМ»; они искали сюжета там, где ему положено быть от века: во внешнем течении фабулы; не видели вовсе, что центр сюжета — в композиции мелких деталей.
Если бы провели сюжеты «СМ» и «В» сквозь прием написания с учетом деталей, то в «пустом месте» открылись бы клады социального содержания, единственного по силе и непередаваемой оригинальности, в свете которого изменился бы взгляд на сюжет первой творческой фазы; поняли бы: гопак, «поэтичность», «фантастика» — средства к раскрытию единственной по силе трактовки отношений меж личностью и патриархальным бытом; коллектив показан Гоголем так, как никем, никогда; и показаны так, как никем, никогда, ужасы, проистекающие из того, что умершая и не ответствующая действительности форма жизни себя утверждает как единственно допустимая.
Несоответствие меж себя-утверждением и действительностью — нерв всех сюжетов в произведениях первой творческой фазы Гоголя.
СЮЖЕТ ПЕРВОЙ ФАЗЫ
Сюжет «Веч» — быт казацко-крестьянского коллектива, который у Гоголя — несколько искусственная конструкция; она подана на фоне древней общины, потерянной в тумане тысячелетий; так XV и XVI столетия выглядят эмблемами тьмы до них лежащих веков; такая архаизация — для жути; она увеличивает гигантски дикости быта, создавая несообразность для современною глаза, когда автор притворяется разделяющим точку зрения дедов своих.
Даны: анатомия и физиология примитивного коллектива; в нем род — ствол; и листики — личности; прошелестят; и — отвеются; дети живы отцами; отцы — дедами; деды же живут в прадеде: он —
48
«я» рода; но он — мертвец мертвецов; род народил на-род; «дед» жив отвеиваемыми потомками; те же живут, чтоб умереть в «деде»: живут во смерть; сознанием они створены с чревом деда, ставшим давно землею в земле; Попопузы и Голопупенки — «головопупенки»: все! Чревом вещает их голова; рассуждают же ноги: над общим им всем безголовьем; поступь осмысливает песни «деда»; и оттого-то гопак — откровение; песня — вещание «деда» посредством «дедов» — певцов; и внимая им, клонят головы чубатые казацкие батьки, вышедшие из общего круга; центр круга — голосом слепого певца вещающий «дед»; круг же — обычай: то «испокон веков», которое образует единственную «вселенную» рода, хранимую круговою порукой; вне ее — ничего нет; в месте сознания самостности — лишь провал, дна которого «никто не видал» (СМ); и в нем нет твердого разделения на землю и небо; есть твердь: и она — «пупяная»; вне ее — ничего нет; цель бытия — народить «деду» потомков и умереть: в «деде»; брань и гопак — зенит и надир бытия, которое кроведышит и огнедышит.
Данило, Черевик или Чуб — все едино; самостность каждого — в отстояньи от «дедова» пупа и от способности слышать вещающий сказ: про дивную старину; человек сказывается не личностью, а проросшими семенами своими: «человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет, — никто не узнает, что кинуто семя» (СМ); анатомия организма, которого ствол — род во времени, и которого ветви и листья, семьи и личности, гопакующие в мгновениях и отрубаемые от ствола вражьей саблей, — напоминает строение кишечнополостных1: «народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем... кричит, гогочет, гремит» (СЯ); каждому «чудится... как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе» (ПГ); и оттого: «разноголосные речи потопляют друг друга» (СЯ); «дед» волит, чтобы все, став одно, выдробатывали ногами: «от одного удара смычком... все обратилось волею или неволею к единству и перешло к согласию. Люди... притопатывали ногами и вздрагивали плечами» (СЯ); «все неслось и танцевало» (СЯ); общий всем танец впечатан «дедом» в крови каждого «Танцуется, да и только. За что ни примется, ноги затеивают свое» (ПГ); каждый казак полагает, что в нем живет «все, что ни есть на свете»; свет же — казацкий круг.
Ниже мы разберем стереотип-повтор Гоголя «все, что ни есть на свете» как только прием; сюжет первой фазы вкладывает эту гиперболу в физиологию родовой мысли, строящей жизнь казака в круге; коли казак перецеловался со всеми, то это лишь значит: «все, сколько их ни было, перецеловались» (ТБ); все действия — скопом, враз, заодно: «все село... берется за шапки» (МН); «все веселилось, что ни есть на свете» (ТБ); «все, что ни есть, садится на коня» (ТБ); «все что ни есть... воюет» (ТБ); все опоясывалось
49
и вооружалось» (ТБ); «все валилось» (ТВ); «все, как груши, повалятся на землю» (НПР); «все, что ни есть на свете», которое гопакует, гарцует, воюет и валится в смерть в действительности, — лишь «эта вот» показанная кучка: десяток казаков, засевших в траве; горсть обитателей десятка хат; но вне ее в момент срастания каждого с каждым — провал, из которого кривится рожа нечистого, «собачьего сына»; и это — инородец, приползший к хуторку, чтоб нагадить.
Цель жизни — створиться с «дедом», приняв смерть для поддержания «древнего обычая»: «понеслась... душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют умирать» (ТБ); «и все, что ни народится, заговорит о них»; и тогда «великий мертвец», «дед», является воочию: в образе старца: «Пел... старец и поваживал... очами на народ, как будто зрящий; а пальцы с приделанными к ним костями летали, как мухи, по струнам» (СМ).
Кости — от скелета, лежащего посередине земли; нарушил кто завет «деда», — и уже: «из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями: затряслись и пропали» (СМ); землетряс — не ощутим в общей родовой пляске; а ослабь свою связь с родом — «мертвец» тебе и оторванцам, подобным тебе, покажет, как страны скачут блохами; земля Галическая прискачет под самый Киев тебе. Ученые люди сказывают: это все оттого, что где-то есть огнедышащая гора; старики знают лучше: перетрясается «дед», мстящий оторванцу; и он же поет и поваживает очами, когда все с родом благополучно, тогда он — «старец... вещий духом» (ТБ).
Всякий инако слаженный, — хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли одетый, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же «срастается в одно громадное чудовище»; каждому, в сросшемся со всем, что ни есть, состоянии кажется, «будто залез в прадедовскую душу» он; а кто не залез, того — бей!
Диапазон вселенной, показанной Гоголем: «по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки» (НПР); диканькинские галушки едали угодники божии; в Диканьке казак, если что-нибудь сковырял, — значит: «не было ремесла, которого бы не знал» он (ТБ); если он увидит муху, ковыряя в носу, — значит: «на все, что ни случится, смотрит, ковыряя в носу» (ТБ); если приневолит креститься татарина, — значит: «все, сколько ни есть басурманов, ...сделались христианами» (ТБ); Чуб выпил за Черевика: он выпил «за всех христиан, какие ни есть на свете» (ТБ); все, что ни есть в Диканьке, — единственно: и «божественная» ночь (МН), и «величественный... гром соловья» (МН); и Днепр: «ему нет равной реки в мире» (СМ); и свитки: «таких... еще и на свете не было» (ТБ); и обитатели: «пойдет дыбом по всему свету о них слава» (ТБ).
Свет Украины — Диканька; в ней же свет — «деды», которые — «мертвецы», похожие, как капли воды, друг на друга, потому что и они — мертвецы: в мертвеце: «увидел поднявшихся мертвецов..., как две капли воды схожих лицом» (СМ).
50
Гоголь тут выступает актером-панегиристом; в процессе игры он створяется с ролью, развивая культ старины, которую он удаляет от зрителя подменой ее едва ли не доисторической общиной, живущей культом обожествленных предков; но истинная цель, отвечающая на спрос, — показать «патриархат» в стиле, какого еще никто, никогда не развил, чтобы подчеркнулась дистанция меж личностью высшей жизненной формы и особью рода, показанного, как колония «кишечнополостных».
В таком показе сюжета фабулами «Вечеров» — оригинальность молодого Гоголя; показ имеет социальную значимость, никем не отмеченную.
В исторических повестях традиция «деда» поддержана коренными родами (родовая аристократия); но они — не коронная власть; последняя — власть от захвата (польская власть); почему власть «чужая»? Неладное что-то случилось с родом; Данило тоскует; пора умирать: «нет порядка» (СМ); Бульба же переламывает на-двое саблю свою в знак разрыва казацкого круга; последнее — оттого, что ослабла связь с недрами; «дед» — в потомках потух: гибель «вселенной»; таков катастрофический фон повестей «Веч»; оттого: нелады с гопаком; прежде каждый «танцевал так, что хоть бы и с гетманшею»; вдруг: «хотел... выметнуть ногами на вихорь... — не поднимаются ноги... Что за пропасть! Разогнался... дошел до середины — не берет...» (ЗМ); точно бревно брошено под ноги; с ним и «поперечивающее» себе, не общее, а личное чувство; Чуб пошел наперекор себе (роду в себе).
Трещинка в мыслях — от трещинки в роде; Гоголь должен бы сказать себе: «в классе»; в одних — еле заметна она; в других — дырища посередине «общего» всему сознания; прежде она заполнялась огнем от середины земли; и никто не знал, что «свойское», общее, дедово — не его лично; не подымается прежний огонь до поверхности жизни; потухла гора, — говорят ученые люди; потух в роде «дед», оттого, что кто-то совершил неслыханное преступление.
Это значит по-нашему: индивидуальные хозяйственные формы теснят отовсюду патриархальный строй жизни; вот причина «дыр» и «поперечивающих себе» чувств; в мысли рода — не то: кто-то впервые и до конца оторвался от рода; в каждой особи от этого — трещинка; «оторванец» образовал в роде провал, два которого «никто не видал»; он — неосязаем, невидим для особей рода, ибо вывалился из вселенной: в «ничто»; и видна — дыра в роде; дыра — течь, как в ковчеге; ее нечем заткнуть.
Преступление против рода грозит гибелью мира.
Таков бред, очерченный с величайшим мастерством Гоголем; он переряженный в психологию рода, говорит от лица его; он заставляет верить: показанное в сюжетной игре — серьез.
Через преступление одного вломилось неведомое; оно теперь фон трагических фабул «Веч», прикрытый извне гопаком; но им не затопчешь опасности; и уже мелькают подозрительные тени: купец-«москаль», цыган-«вор», жид-«шинкарь», норовящие прилипнуть к
51
тому, в ком расшатано родовое начало; нетверды — безродные; им легко оторваться; «оторванец», тот — предатель; он, «дедов» внук, становится чортовым пасынком; он — гибнет и губит.
Тема безродности сплетена с «нечистою» силой, действующей, на отщепенцев, потерявших землю, и ищущих кладов ее; основной клад, связь с родом, утрачен; и оттого: бесстыжее любопытство: к своей подоплеке; тема земли и клала ее — тема «В», «СМ», «ЗМ», «ВНИК»; и она связана с темою мести рода, как рока, и с темой гор, этих выперших родовых недр.
Отщепенец показан как «личность в себе»; он отдан в судороги поперечивающего себе чувства; он в них, как в личине; если ее сорвать, то «я» не увидится; увидится лишь — ничто: ничто под «не то»; отщепенцы сперва показаны в судорогах двойного своего «бесовски-сладкого» чувства; при каждом торчит подозрительный иностранец; «цыган» одевает чорта в красную свитку; а там, глядь, — «москаль»: «словно москали те самые свиные рожи» (СЯ); лица цыган «казались сонмищами гномов» (СЯ) (Вий тоже гном из недр); цыгане ночами куют железо; у Вия — «железное» лицо; и у кошки в «МН», может, выкованные цыганами — «железные» когти; после убийства Ивася ходили слухи: цыгане украли Ивася; опасен и «жид»: шинок, где бесился Басаврюк, «нечистое племя... поправляло на свой счет» (ВНИК); то же турок с татарином: колдун в «СМ» режет «турецкой» саблей и надевает «чудную чалму»; пузатый Пацюк (чорт знает где шатался, бежал с Запорожья) сидит «по-турецки».
Когда при «оторванце» являются иностранцы, — жди беды: «какого народа тогда не шаталось: крымцы, ляхи, литвинство... В этом хуторе показывался дьявол в человеческом образе» (ВНИК); Катеринин отец: «двадцать лет пропадал без вести» (СМ); и он показан как инородец: заморская сабля, заморская люлька, заморская шапка, шаровары, какие носят турки; за ним таскаются «ляхи» с нечистыми своими попами, пляшущими краковяк (СМ).
Кумовство с инородцами — измена роду; безроден Петрусь из «ВНИК»: «никто не помнил ни отца его, ни матери»; они померли от чумы; знаем, какая «чума»; отец его «переодевался евнухом» (ВНИК): оттого и нацелился на него Басаврюк; когда с родом ладно, обыгрывают «нечистых» (ПГ), или седлают их, как покорных скотов (НПР).
Неладно в роде пани Катерины; безроден гибнущий Хома Брут; он отвечает на вопрос, кто его отец: «не знаю...» — «А мать твоя?» — «И матери не знаю... конечно, была мать; но кто она... не знаю» (В); оттого раздвоена в нем женщина на старуху и на красавицу; старуху он бил, оседлавши верхом, а она обернулась трупом красавицы; она призвала мстителя, Вия: «Не гляди!» шепнул какой-то... голос... Глянул... — «Вот он!» закричал Вий и уставил в него железный палец» (В).
Тема безродности — тема творчества Гоголя: Пискаревы, Башмачкины и Поприщины отщепенцы, перенесенные в Петербург чортом, на котором в одну ночь смахал Вакула; «чорт» в Петербурге
52
сделался значительным лицом; отщепенец служит у него в кацелярии, как Башмачкин; или же он залезает на холодный чердак: развивать грезы в волнах опия, как Пискарев; глядь, — лезет к нему за душой переодетый в ростовщика Басаврюк; и тут «клад» зарыт в... рамки портрета: «Ге-ге-ге! Да как горит!» — заревел Басаврюк, пересыпая на руку червонцы. — «Ге-ге-ге! Да как звенит!» (ВНИК), и в Петербурге видение клада не оставляет отщепенца: старик развязал мешок: «с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки... золото блеснуло... почти судорожно схватил он его» (П); и Чичиков — безроден: вышел ни в отца, ни в мать (мелкопоместных дворян), а в прохожего молодца, по уверению тетки; «прохожий молодец» и соблазнил его, как Петруся, червонцами; внутри пресловутого ларчика был потайной ящик для денег, выдвигавшийся незаметно... «Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался... что наверно нельзя было сказать, сколько было там денег» (МД); позднее является «прохожий молодец», — Басаврюк, как отец-благодетель; он учит уму-разуму: в науке наживы; и то — Костанжогло; Гоголь не узнал в нем своего «нечистого», вынырнувшего из первой фазы: и возвел в перл создания.
Почему?
Потому, что отщепенец и Гоголь; и в нем — трещина «поперечивающего себе чувства»; она стала провалом, куда он, свергнув своих героев, сам свергнулся; герои поданы в корчах; «Петрусь силится припомнить что-то... и злится, что не может припомнить... грызет и кусает... руки» (ВНИК); Чарткову «начали чудиться давно забытые... глаза» ростовщика; и на талантливую картину «кидался, рвал, разрывал» ее, свои действия «сопровождая смехом наслаждения» (П); Чичиков в тюрьме, оторвав со злобою фалду, вцепился руками в волоса, «безжалостно рвал их, услаждаясь болью» (МД). Отщепенцы, с трещиной сквозь все существо (сознанье, чувство, волю) до пола, переживают то, что пережил их прототип: колдун из «СМ»; «ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черное море» (СМ).
Земля в нем мертва; а она из него выперта карпатскою кручей; тема рода у Гоголя — тема земли (своей и чужой), которая расплавлена в «деде»; у кого же род оскудел, она — камень клада, которого ищут путем неестественным: воссоединиться с землей; и он видит марево кладов, из которых выхватывается огонь (ВНИК); и земля кажется: «дном прозрачного моря»; она распадается под ногами несущегося за своим «кладом» Пискарева; она изошла безднами, когда дед из «ЗМ» чешет над ней гопака; для оторванного от рода земля — «заколдованное место»; Хома доплясался до железного Вия; Петрусь стал золой; его мешки с золотом стали «битые черепки» (ВНИК); дед принес с «заколдованного» своего места лишь сор, дрязг, «стыдно сказать, что такое» (ЗМ); а Пискарев нашел не клад, а — проститутку (НП).
В перетрясенном, оторванном от рода сознании возникают видения
53
сдвига земли; и — слышатся подземные толчки; для потрясенного Гамлета распалась ведь «цепь времен»; для потрясенного отщепенца распадаются пространства: «Место... вчерашнее: вот и голубятня торчит; но гумна не видно... Гумно видно, а голубятни нет... к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало» (ЗМ); в «СМ» из Киева видны: Крым и Карпаты; едет к Каневу: вот; но это не Канев; едет к Киеву — попадает: в Галич!
Складки, земные горбины, овраги, ущелья появляются там, где настигает беда; почва оседает под ногами; деду не пляшется: «под ногами круча без дна; над головою — свесилась гора» (ЗМ); гора — угроза выпертых недр; Петрусь за кладом идет «в Медвежий овраг» (ВНИК); татарка ведет в город Андрея, предающего род; оба спускаются в овраг, переходят поток; сзади «крутою стеной... вознеслась покатость; впереди — крутой выступ» (ТБ); Хому Брута привозят в место, где он погибнет от железного пальца им оскорбленной земли; вся местность пред ним будто скошенная; накануне вечером не было заметно крути; вдруг изумился, как в нее умели не полететь вверх ногами (полетел сам, — на третью ночь); «все заслоняла крутая гора и подошвою... оканчивалась у самого двора... Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами» (В).
Не случайно перебираю мелочи (клады, земные складки, железные недра); они сопровождают сюжет первой фазы так, как ларчик красного дерева сопровождает Чичикова; сюжет Гоголя врос в мелочи; с тщательностью они выписаны; они полны символизма; все вещи двузначны у Гоголя, и фабула — двузначна; в двузначности выявлен сам сюжет: он антиномия между родом и личностью.
В «ТБ» завершены темы первой фазы; «ТБ» написан поздней; переделан еще поздней; сюжет в нем отчетлив; здесь показан уже не отрыв особи от рода, а разрыв самого рода; и распад казацкого круга; две личности вынуждены по-разному предать несуществующий круг: предатель Андрей, и мстящий ему за это будто бы патриот, Тарас.
Тарас, выступив за дело «деда», убил Андрея: «Я тебя породил, я тебя и убью» (ТБ); но уже на-двое разделилось казацкое войско; одна часть ушла: бить крымцев; другая осталась: бить ляхов; погибли же — обе.
Андрей не бесславно погиб; он погиб — с честью; у него есть лозунг и предательства: «Что мне отец, товарищи и отчизна?.. Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна!» (ТБ); вместо того, чтоб обрасти волосами и хрипеть, сотрясаясь предательством, он в предательстве просиял: «так, как солнце..., он весь сияет в золоте» (ТБ).
Мстящий за измену Тарас — не особь рода, а — личность; его лозунг — не бытие в предках: любовь к товариществу: «Породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек» (ТБ); в поисках товарищества и он вышел из общего круга, когда «снял... дорогую турецкую саблю..., разломал ее на-двое,
54
и кинул далеко в разные стороны оба конца» (ТБ); и сказал: «Как двум концам сего палаша не соединиться в одно..., так и нам, товарищи, больше не видаться» (ТБ); бывшие его товарищи пошли к ляхам; потомки же их, украинофилы, мечтали о присоединении к Австрии; они шли против родины: по Тарасу; а по ним Тарас пошел против родины, когда из огня он бросил свой новый лозунг: «Подымется из русской земли... царь!» (ТБ); согнул бы выю и он перед длиннобородым боярином-«москалем», как Андрей склонил голову перед ляхами, — доживи до времени Хмельницкого он; оба гибнут: Тарас и Андрей; оба уже — не в «деде»; Тарас стилизуется под старину; «все, старый собака, знает» (ТБ); знает и Горация: не то, что Данило; оба гибнут гордо, как бы зная, что «дедовский» устав — фикция: родины — нет; род — умер; «дед» — мертвец; и по-разному «мертвецы», будущие «патриоты» Украины, долго потом грызли друг друга: Антоновичи — великодержавников; те — Антоновичей.
В одном отношении Тарас — Данило, пошедший на предателя; в другом — предатель-сын, обретя «новую» родину, погиб с честью; он мог обернуться к Тарасу и ликом всадника с Карпат; и — показать: убил свое дитя для того, чтоб предать потомков... Третьему Отделению: Тарасу пришлось бы молчать.
Так трагедией завершается в «ТБ» сюжет первой творческой фазы Гоголя; и тут начало трагедии самого Гоголя.
Все более теперь выступает автор как собственный персонаж; сюжет все более — автобиография Гоголя.
«СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
«Страшная месть» — синтезирует сюжетные темы первой творческой фазы; данное обрывочно в «ВНИК», «В», «ЗМ», «СЯ» и т. д. воссоединено в сюжетной фабуле здесь; ее фокус — тесть пана Данилы; «СМ» — квинт-эссенция первой фазы; все здесь подано наиярчайше, нигде нет прописей; все, надлежащее быть прочитанным, показано как бы под вуалью приема, единственного в своем роде.
Не осознав его, — ничего не прочтешь; и только ослепнешь от яркости образов.
Сила достижений невероятна в «СМ»; только «МД» оспаривают произведение это. Охватывая больший круг тем, «МД» менее согласуют форму с содержанием; фабула «МД» — прямая, на которое нанизаны, как кольца, картины помещичьего и городского быта; понимание гармонии меж показанным и его смыслом возникает в итоге прочтения; до него дорабатываешься.
В «СМ» нет диспропорций: содержание подано в прихотливом, но четком сюжетном узоре; ширине противопоставлена заостренность основных мотивов гоголевского творчества; в социальной и индивидуальной теме выявлено с особою силой то «поперечивающее себе» чувство, которого корень — Гоголь, отщепенец от рода,
55
семьи, класса, его породившей среды, не утвердившийся ни в какой другой, ставший «кацапом» для украинцев, «хохлом» — для русских, панычем в гороховом сюртуке, о котором так едко вспоминает пасечник Панько, и неудачным воспитателем юношества в аристократических семействах Санкт-Петербурга, где он выглядел сплошным «не то» в неумении осознать свои корни, в неудачах с «Гансом Кюхельгартеном», в мечтах о профессорстве; современники недооценили его размаха; не оценил его проповеди и отец Матвей; ни то, ни се, — ни литератор, ни проповедник, — он выглядел дырою, прикрытой фикциями; таким он встает в картинах воспоминаний: «одет вовсе не по моде и даже без вкуса»; «странно тарантил ногами»; «неловко махал одною рукою» (Арнольди); «в брюках, похожих на шаровары»; «как будто одна нога старалась заскочить вперед»; «взгляды... исподлобья, наискось, мельком... лукаво, не прямо в глаза» (Берг); «заостренный нос придавал... нечто... лисье» (Тургенев). Соедините эти впечатления — Берга, Арнольди, Тургенева: встанет впечатление Данилы... от тестя: «Угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен — зачем и приезжать?.. Нет, у него не казацкое сердце» (СМ).
— «Не русское сердце!» — кричал Толстой-американец; и Пушкин боялся, что хитрый хохол обскачет всех.
«Губы неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов» (Тургенев): совсем, как в «СМ»: «подбородок задрожал..., изо рта выбежал клык, ...и стал казак — старик».
— «Беда будет!» — говорили старые, качая головами» (СМ).
«И вот — я едва не закричал... Передо мной стоял Гоголь... вместо сапогов длинные шерстяные чулки выше колен... А на голове — бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник... Жуковский... вышел, и я» (Аксаков); то есть: «стоит... неподвижно в чудной чалме своей» (СМ). — «Это он, это он! — кричали в толпе, прижимаясь друг к другу» (СМ).
Он же... умер.
В единственных по яркости и звуку образах «СМ», в мастерстве сплетения деталей сюжета дал Гоголь синтез сюжетов, образов, красок, напевов первой фазы; но синтез затранспарировал фоном, выветвившим образы, — тем «не то» (и социальным, и индивидуальным), которое, как «великий мертвец», вгрызлось в Гоголя.
Сосредоточимся на приеме «СМ», чтобы в одной узкой грани увидеть пересеченье всех граней единственной композиции.
Ниже увидим роль отрицательных определений у Гоголя в построении фраз и в частых отказах от определения; в «СМ» эти приемы сжаты в прием, в частицы «ни», «не», как в отказ объяснить внятно мотив действий главного лица повести; не связанный традициями родового уклада, двадцать лет пропадавший, не казак, не лях, не венгерец, не турок, хотя и «турецкий игумен», он выделен из всего, чем держится сознание ограниченного, но крепкого родовою традицией примитивного коллектива; он в глазах этого коллектива «колдун»; цена этого заявления о нем Гоголя
56
равна заявлению Гоголя о том, что Иван Иванович, выведенный мерзавцем, «прекраснейший» человек; мы с правом не верим тут Гоголю; почему же мы поверили Гоголю, что отец Катерины «колдун»? Потому что мы не прочли основного приема в подаче его; значит, — ничего не прочли в «СМ».
Ничего не прочтя, объявили «СМ» неудачным произведением Гоголя.
В «ОТ» гоголевская усмешка явна; в «СМ» не увидели этой усмешки в подаче «бреда» под формой диканьской вселенной; не увидели, что мало говорящая «фантастика» — много говорящая характеристика показанного коллектива; страшит он, этот коллектив, видящий в непрочитанных действиях чужака весь позитив страшных, колдовских деяний; самого страшного не увидели; именно: «не так еще страшно, что колдун, ...как страшно, что он — недобрый гость» (СМ); колдовство — так сказать, сусало и синька, которыми расписывает Гоголь своего «героя», чтобы сквозь них по-особенному протемнилось «не то», заключенное в нем; в словах Данилы уже проступает «не то»; он — хуже колдуна: он — предатель родины и веры; за них, а не за колдовство, его позднее Данило заковал в цепь.
Но и это, более, чем колдовство, страшное деяние, — еще «не то»; под темным фоном «сусала» и «синьки» — еще нечто более темное: не черная краска, а — сама тьма; она вскрыта намеками при помощи частицы «не» на такую аномалию его жизни, от которой трясется земля и расшатываются оси пространства.
Что есть «колдун»?
Неизвестно что.
Наивные современники Гоголя не постигли стилистической рисовки «колдуна» частицами «не», прощепившими его контур не линиями, а трещинами в глубину провала, дна которого «никто не видал»; они ловились на романтику образов, показавшихся им заимствованными у Тика; наивно подошли к содержанию «СМ» и Розанов1, и фрейдисты с профессором Ермаковым, когда главною осью сюжета они увидели страсть отца к дочери; и тут же присочинили ответную страсть дочери (в подсознании); их попытки связать эту страсть с бытом древних культур, выявляющих, по Ермакову, первобытную чувственность, а по Розанову чувственность изощренную, — интересны, как экскурсы в область атавизма; но причем сюжет «СМ»? Половая противоестественность — следствие чего-то еще более коренного; попытка Розанова уплощает сюжет, который не только психологичен, но главным образом социален.
В «СМ» Гоголь осюжетил «чудноту̀», ему непонятную, собственного сознания; оно показано, как не знающее своих социальных корней; то, что делало Гоголя неискренним, непонятным, чуждым современникам, что заставляло Пушкина не верить «хохлу», Жуковского засыпать над рукописями Гоголя, а Толстого-американца
57
кричать, что Гоголя следует заковать в кандалы, то̀ у Гоголя извлекало в иные минуты признания, что ему особенно тяжелы и страшны счеты с совестью: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю..., тогда бы... помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как убежать из России» («Страхи и ужасы России»); «даже с наиискреннейшими приятелями я не хотел бы изъясняться насчет сокровеннейших моих мыслей (Исп).
Феноменология того, что составляло «тайну» молчания Гоголя, или факта незнания им себя самого, — показана в чудных образах «СМ», которых контуры — не линии, проведенные карандашом по бумаге, а прощепы и трещины, дна которых не видел Гоголь; и чем ярче раскраска образов, чем звучней ритм течения их, тем жутче они окантованы не нарисованной, подлинной тьмой, на фоне которой прыщут рефлексы; и Днепр «серебрится, как волчья шерсть» (СМ); в серебрящемся струении картина отраженной в воде земли складывается в голову того страшного деда, которого грызут мертвецы; и земля, вся земля, — есть «не то».
Прием, которым Гоголь достигает огромных художественных целей, тонок, как... не перо, а кончик рапиры; ею он процарапывает за образом образ: в сознании нашем; прием — в букве «эн», соединенной с «е», или с «и»; в «не», «ни»; легкие, как пушинки, «ни», «не» производят грохоты своих эффектов, не услышанных современниками.
Рассмотрим ближе этот прием.
ПРИЕМ «СТРАШНОЙ МЕСТИ»
— «Колдун показался снова» — кричали матери, хватая... детей своих» (СМ); так начинается повесть.
Явленью колдуна на пире предшествует рассказ о том, как не приехал на пир отец жены Данилы Бурульбаша, живущего на том берегу Днепра: гости дивятся белому лицу пани Катерины; «но еще больше дивились тому, что не приехал... с нею старый отец»; он многое мог бы рассказать про чужие края: «там все не так: люди не те, и церквей... нет! ...Но он не приехал» (СМ).
Отец подан при помощи «не».
Есаул Горобец поднимает иконы: благословить молодых: «не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме» (СМ); тотчас же: у одного из плясавших выбежал изо рта клык: «и стал казак — старик»; «кто он таков, никто не знал»; «наверно никто не мог рассказать про него»; колдун — узнан:
«— «Это он! Это он!..» — Колдун показался снова» (СМ).
Колдун подан при помощи «не».
Колдун пропадал и вновь показался; отец Катерины двадцать один год «пропадал без вести и воротился к дочке своей» (СМ).
Более нет ничего общего между ними.
58
Главка вторая: —
— Данило с женою, сыном, хлопцами плывет с пира мимо старого замка колдуна: «не поют казаки... не говорят ни о том, как уже ходят по Украйне ксендзы, ...ни о том, как два дня билась орда». Ночь как оскалена месяцем: «те горы — не горы... те леса — не леса... те луга — не луга» (СМ); Катерина поминает колдуна: «никто из детей не хотел играть с ним», когда был он младенцем; у нее на коленях младенец; она утирает младенца платком, вышитым красным шелком; придется платку утирать кровь; запомним на нем эти красные знаки.
Данило — «ни слова»; он о другом: «Не так страшно, что колдун, как страшно..., что недобрый гость»; Катерина: «Не предвещает мне ничего доброго встреча с ним»; Данило: «Молчи, баба... хлопец, дай... огня в люльку... наша жена — люлька, да... сабля».
«Днепр серебрился, как волчья шерсть» (СМ).
Тут вдали крик о помощи; «дитя, спавшее на руках Катерины, вскрикнуло; ясно: младенцу угрожает беда; через 9 главок колдун будет кричать из сна Катерины: «Я зарублю твое дитя».
Понятны: шитый красным платок, крик о помощи, вскрик младенца, сабля и двусмысленная «люлька» (и трубка, и колыбель); здесь выступает тот натуральный символизм, который впечатывает сюжет в мелочь; Данило, бросив «наша жена — люлька», утешает младенца: «положат тебя спать в люльку» (СМ); и приводится припев:
Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
От «люли» — отсверк двусмыслицы; плывут мимо кладбища: «Ни калина не растет..., ни трава не зеленеет»; «ни», «не» — значит — колдун: «тут гниют его нечистые деды» (СМ); его ли лишь?
Данило обрывает разговор о колдуне, вспомнив о тесте: «Отец твой не хочет жить с нами... недоволен — зачем приезжать? Не хотел выпить... не покачал... дитяти! Нет! У него не казацкое сердце» (СМ).
Колдун и тут подан на «ни», «не»; отец Катерины подан на «ни», «не».
Лодка подъезжает к хоромам Данилы; они — в лощине между двух гор: «А там уже поле, а там хоть сто верст обойди, не встретишь ни одного казака» (СМ); безлюдие, бесказачие! Это — значит: «там все не так: люди не те, и церквей... нет»; близок лишь замок с кладбищем, где — нечистые деды: гнездо колдуна — «притон»... для ляхов, которые... «хотят... строить крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам» (СМ); дорога к запорожцам — степь, о которой сказано: «хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака» (СМ).
Жутко на хуторе у пана Данилы.
Главка третья: —
— Подхватывается двусмыслица с «люлькой»; подчеркнут мотив сабли: «наша жена — люлька да... сабля» (СМ)
59
(в люльке зарежется саблей); комната: «в люльке... убаюкивается дитя»; казак же спит на воле; там курит он люльку; Данило «начал натачивать турецкую саблю»; Катерина — «вышивать... ручник» (утрется им кровь).
Вдруг, рассержен, вошел Катеринин отец с заморской люлькой в зубах; с ним опять «не»: «Не погневайся» — говорил Данило, не оставляя своего дела — «может, в иных неверных землях этого не бывает, ...не знаю»... — «Кому..., как не отцу, смотреть за дочкой»; поднимается спор; Данило «Умею никому ответа не давать»; бросает: «Не так, как иные... таскаются, бог знает где, на униатов даже не похожи: не заглянут... в церковь». Отец: «Я... рублюсь незавидно»; тут — «сабли... звукнули; искрами... обсыпали себя казаки». Катерина (Даниле): «Сын твой будет кричать под ножами». Данило ей: сын его будет «с острой саблей летать».
Скрещены: сабля и люлька; в главке второй Данило просил: «Дай мне огня в люльку!» Хлопец насыпал «из... люльки... горячей золы... в люльку пана»; под веслами — «как из огнива огонь». Теперь и у тестя появилась своя заморская люлька; из всякой сыплются искры; «искрами... осыпали себя казаки»; думается: люлька здесь, как отверстье огненной горы, ведущее к земляному центру. У тестя люлька своя; Даниле же в люльку всыпал огня хлопец; сила в нем оскудела: «не стар..., а меч казацкий вываливается из рук»; поздней обнаружится: и он некогда держал руку ляхов; но он раскаялся; все же: не отразил тестя; и «алая кровь выкрасила... рукав... жупана» (СМ); таки уступил жене: «Дай, отец, руку». «Не был» же виновен; «не по-казацки поступил он».
Главка четвертая: —
— начинается параллелизмом на «не»: «Блеснул день, но не солнечный... Проснулась пани..., но не радостна». Снилось ей: отец — тот урод: «Не верь сну...» — «Сны много говорят правды» — ворчит Данило; и обрывает: «За горою не так спокойно... Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова»; ляхи сопровождают колдуна; явился он; вот и стали выглядывать: за горою; и возвращенье к отцу (в связи со сном): «Разгадать его не могу... Не захотел выпить... Горилки не пьет!.. В... Христа не верует» (СМ); все о тесте, кроме вскользь замечания о ляхах; ляхи сближают отца с колдуном, у которого их притон.
В сне у отца «огненные» очи; у отца огонь — из глаз, люльки и сабли; впервые является он в красном жупане; его цвета: красное, черное; подчеркнуто: за горой — неспокойно; за ней — все «не то»: и люди — не те; и казаков — нет; при горах же замок колдуна; «те горы — не горы», а голова «лесного деда»; дед же себя покажет, как великий мертвец проклятого рода, ставшего через жену и родом Данилиного младенца; за горой неспокойно, значит в тематике символизма «СМ»: выперлись родовые недра; и рок — близок.
Не приняв во внимание мелочей, не поймешь стиля четвертой главки; герои Гоголя говорят языком Генрика Ибсена; вспомним:
60
когда у Ибсена «Лес мстит за себя», то это значит: подсознание мстит сознанию; вспомним «коней» драмы «Росмерсгольм»; язык Гоголя предвосхитил Ибсена; и ясно: вслед за сном, в которое отец пылал страстью к ней, стало и «за горой неспокойно».
Вслед за «в Христа не верует», «не бойся, не бойся» — возглас Данилы: «Вот и турецкий игумен лезет в дверь»; сверкает «сабля с чудными каменьями»; разговор наводняется частицею «не»: «У тебя обед не готов... Не люблю... этих галушек! Никакого вкуса нет!» Данило: «Брезгать... нечего...» «Ни слова отец...» Подали свинину: «Не люблю свинины...» — «Турки и жиды не едят свинины...» Отец «потянул вместо водки... черную воду» (СМ).
«Ни», «не» дорисовывают негатив; психологический силуэт отца выщерблен изъятием из него всего конкретного; он — яма в быте; кто он сам в себе, — неизвестно.
Меж тем: небо темнеет; за окошком синеют леса, синеет Днепр; хутор стерегут «десять наивернейших молодцов в синих... жупанах» (СМ); Днепр — «не бунтует»; он, как и пан Данило, «ворчит и ропщет; ему все не мило»; «Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило; он видит: чернеет замок; в окошке вспыхнул огонь; по Днепру к нему чалит черная лодка; она пристала к берегу: «кто-то в красном жупане спускается с горы. — «Это тесть» (СМ).
Подчеркнут символизм цветов: синий, усеянный золотыми звездами воздух, синяя вода и синие жупаны показаны против черной земли и красного огня (атрибуты и колдуна, и тестя). Синяя, как синий Днепр, душа у Данилы; черная в красных пекельных пламенах душа красножупанного тестя; вот он в черной лодке пробирается к черному замку. Меж обоими, как бледное облачко, Катерина; синий отсвет Данилы оголубляет ее (платье из голубого полутабенеку, голубые глаза); красный отсвет отца бросает на нее розовый отсвет.
Тесть тащится к врагу: «не в другое место»; Данило — за ним; влезши на дерево, он глядит в комнату замка; тоже все «не»: «свечи нет, а светит... оружие... такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский»; диапазон неизвестности ширится; входит тесть в «чудной чалме»; она исписана не русскою, и не польскою грамотой». Сомнения пали: тесть — колдун.
С чудным звоном осветилась светлица «розовым светом» (отсвет красного на душе Катерины); в розовом же разверзлось синее небо (влиянье Данилы); внутри синего неба горница; «не угодники» глядят из икон; в горнице — душа Катерины; сквозь нее опять — розовое; «тихо светятся ее бледно-голубые очи» (розовое и голубое — цвета Катерины); «она многого не знает..., что знает душа ее» (СМ); и незнаемыми ей глубинами она бросает отцу: «Ты... не отец!.. Нет, не будет по-твоему!.. Нет, никогда Катерина... не решится... Если бы ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить» (СМ). И как мужчина, он ей противен; в ней нет борьбы: «Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда
61
бы не изменила»; всем подсознанием она любит Данилу; и оттого встретилась глазами с его глазами: в окне; темносинее над душой ее — властно; красное — нет.
Конец главки — торжество любви: «Темносинее небо... было засеяно звездами»; синежупанный хлопец сидел настороже при доме и курил люльку.
Пятая главка углубляет верность Катерины; Данило ей обещает: «Я тебя теперь знаю и не брошу ни за что». Он знает всю ее: в ее отвращеньи к отцу; и верит словам ее: «пропадай он, тони он... ! Ты у меня — отец мой!»
Мелочами выярчен сюжет Гоголя; утверждать наперекор деталям сюжета мнение фрейдистов и Розанова — переть против рожна: не ощупать фабулы; дурное воображение, видящее всюду у Гоголя половые органы (в «Носе» например), — только оно может увидеть страсть к отцу в Катерине; статья Розанова сюсюкает о «нежной тайне»; фрейдист Ермаков утверждает с захлебом эту глупую «фигу»; но там, где Катерина могла бы «задрожать от страсти», в розовом свете, под чарами колдуна, она встретилась лишь глазами... с Данилою, к ужасу колдуна: «Куда ты глядишь?» (СМ). Данило, видевший тайную подоплеку ее, ей верит: «Я тебя теперь знаю».
Розанов пакостничает, видя половой акт: колдуна с Катериной и ссылаясь на фразу: «Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе» (СМ); слои... семенные-де нити колдуна: тьфу! Нити эти тянутся до явления Катерины, до явления горницы Катерины; если иметь вкус к обнюхиванию половой физиологии, надо б предположить: «семенные» нити колдуна — следствие его онанизма, что ли? Тогда нечего вызывать Катерину!
Надо быть павианом, чтобы видеть в образах Гоголя чертежи всяких физиологических невкусиц; а уж если есть к ним охота, так надо хоть читать их в пределах пусть убогого смысла их; если бы «бледно-золотые волны» были тем, чем их желает увидеть Розанов, они явились бы после. До какого идиотизма доводит больное воображение!
Преступная страсть отца к дочери — только штрих повести; одно из многих «не то» в колдуне; в пятой главке стоит: «Знаешь ли, что отец твой антихрист?» Слово «антихрист» взято из-за предлога «анти» (против): колдун отрицанием противопоставлен всему; «анти» здесь — «не», возведенное в степень «не». В духе приема разговор дан под аккомпанемент «не».
Катерина: «Нет, многое мне неизвестно. Нет, мне не снилось... Ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет... ты не так рассказываешь». Данило: «Не диво, что... не виделось. Ты не знаешь... Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца... Я бы не женился... не принял бы... греха... Не плачь... Не брошу ни за что». Катерина: «Нет, не называй его отцом!.. Он не отец... Не подам руки... не подам воды... ему» (СМ) и т. д.
«Не», «ни».
62
Главка шестая: —
— колдун в цепях; его замок горит: «алые, как кровь, волны хлебещут... Дума черная... в голове» (СМ); «не за колдовство, и не за богомерзкие дела сидит...: за... предательство»; «не совсем легкая казнь его ждет... Не такие грехи... чтоб бог простил»; еще милость, коль «сварят живым»; какая ж казнь? За какие грехи? Задача Гоголя — не ответить и неответом ожутить.
«Дочь не памятозлобна...: не умилосердится ли?.. Никого нет... Никто не пройдет...» Днепру ж «ни до кого нет дела...» Проходит Катерина: «она нема... не хочет слушать... глаз не наведет... уже солнце село; уже и нет его» (СМ); снова дочь проходит; он ей: «И... волченята не станут рвать... мать...» «Не слушает». Ради матери остановилась: «Не называй меня дочерью. Между нами нет никакого родства». — «Не казнь страшит... Душа будет гореть в огне... и никогда не угаснет; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет». Если бы замолить грех! «Не возьму рыбы в рот. Не постелю одежды... Не возьму ни пищи, ни питья... Недолго остается жить». Стены, в которые он заключен, таковы, что из них «никакая нечистая сила не может вывесть» (СМ).
Ради матери, с отвращением — выпустила: «Не прикасайся... неслыханный грешник!»
«Не», «ни» дощербили силуэт «неслыханного»; в чем «неслыханность — неизвестно.
Главка восьмая: —
— неожиданное явление ляхов в корчме; чтобы их связать с колдуном, пущено «не»: «Не мало... сволочи»; с ними ксендз: не похож... на попа»; «не бывало такого... на русской земле»; «не на доброе дело собралась эта шайка» (СМ); они «говорят про... хутор... Данилы» (СМ).
Главка девятая: —
— гибель подкралась к душе Данилы — частицею, «не»: «Не далеко... ходит смерть... Не оставляй сына, когда меня: не будет... Не будет... счастия, если... кинешь, ни в том, ни в этом свете... Не воевать... мне... И не стар... И не знаю, для чего живу... Порядку нет на Украйне... нет... головы». Раздвоение, ослабление — оттого, что когда-то «держал руку неверных» и «не по-казацки поступил»; своего огня стало мало; хлопец сыпал же огня в люльку.
Сетования прерваны: ляхи за горою! Синежупанные хлопцы отражают отряд красножупанного пана: «Мечется в глаза золотой пояс на синем жупане»; «не час — не другой бьются...; немного становится тех и других» (СМ); «не» — жди колдуна; он уж «стоит на горе и целит» в Данилу; гора дала знать: неспроста хутор стал меж горами; «мушкет гремит, — и колдун пропал за горою»; Стецько видел: «мелькнула красная одежда»; Днепр, которому «все немило», мчал воды в Черное море; и как Днепр — роптавший Данило, «посинел, как Черное море». Плач над убитым: «Не горючи мои слезы»
63
невмочь им согреть... Не громок плач... не разбудить им... Не нужна красота...» (СМ).
Главка десятая: —
— Данило умер, створясь с Днепром; апофеоз Днепра — память о Даниле и ответ на мольбу о возмездии, которое следует тотчас же: за картиной Днепра; тема отцовской страсти прервана ужасом: «отец» стоит перед нами, вперенный в себя.
Днепр, мститель за Данилу, страшен пересекающему его колдуну: «бьется о берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка»; «дико чернеют пни»; Днепр глотает людей «как мух» (СМ); «черный лес шатается до корня»; проходит образ плачущей о сыне казачки; сын ее «едет... на вороном коне» (вороной конь — Данилин).
Центр главки — колдун, которому грозит Днепр; но и показана синяя ширина Днепра, которой усмехаются деревья; душа Катерины как дриада (душа деревьев); ее смятение — «будто ветер... наигрывал..., нагибая в воду серебряные ивы»; протянутость дерев к Днепру, сочувствующему Даниле и с ним согласному в ропотах, равна тоске, которую вызывает он в колдуне: «унывно слышать... однозвучный шум его»; в Днепре вспыхивает полоса дамасской сабли»; это — память о злодеяниях колдуна. Картина Днепра дана отрицательно: «ни зашелохнет, ни прогремит... не знаешь, идет, или не идет его... ширина»; «без меры в ширину, без конца в длину»; «не наглядятся, и не налюбуются, ...не смеют... никто... не глядит в него» и т. д. Днепр дан из лодки пересекающего речную середину; с середины же река кажется втрое; картина натуральна; и натуральна сопровождающая ее риторика чувств: «боязно колдуну с середины Днепра: здесь Днепр «глотает людей»; «редкая птица долетит до середины»; сюда дерева «не смеют глянуть»; здесь опущена звездная риза; она же по мнению звездочетов — судьба; с учением звездочетов, конечно, колдун знаком (за двадцать лет за границей чему не научишься!).
После злодеяния колдун с середины Днепра, где опущены звезды судьбы, — читает свою участь; «не весел... Не мало поплатились ляхи»... лицо его «казалось кровавым, глубокие морщины... чернели на нем»; он прав в предчувствии: облачко Катеринино разрывает «непрошенное, незваное лицо: оно явилось... к нему в гости» впервые: оно «незнакомое» колдуну: «никогда... он его не видывал. И страшного... в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него», когда незнакомая... голова... неподвижно... глядела... и очи... не отрывались... Диким голосом вскрикнул... Все пропало» (СМ).
Картина Днепра перевернула все представления о наводящем ужас злодее; открылась жизнь жути и в том, кто ее нагоняет; нагоняющий ужас — сам в ужасе от неведомого лица, в котором... мало страшного; неведомый перепуган неведомым; в «не» колдуна живет второе «не»; не по воле своей он неслыханный грешник: по воле того, в ком... «и страшного... мало».
64
Ужас ужасающего не вскрывает; второе «не то» в колдуне упразднило «не» и «ни»: не казак, не лях, не швед, не венгр, не христианин, не крымец, не турок, не колдун, не только предатель; оно ничего не выяснило.
«Не то» — воля звездной судьбы, сходящей в Днепр; «никто... не глядит в него» (в Днепр); «ни одна звезда» — судьба — «не убежит от него»; «нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр». Дерзнув заглянуть в середину Днепра, колдун неприкрыто увидел в себе, чего еще никогда он не видел; то, что увидел, — неведомо никому: ни нам, ни ему!
Отстранены: читатель, Розанов, Фрейд, ничего в «СМ» не увидевший Виссарион Белинский и критик, увидевший «семенные нити», (с чем поздравляю); Гоголь, вздернув внимание к новым контурам фабулы, возвращает к осиротевшему семейству, чтоб еще более разынтересить нас новой загадкой.
Но все, имеющее случиться с младенцем, уже предугадано: деталями второй и третьей главки.
Главка одиннадцатая: —
— вспомните: тему люльки (люльки-трубки с красными искрами и люльки, в которой лежит младенец); вспомните красные, как кровь, знаки на платке, которым Катерина утерла младенца; вспомните крик о помощи издалека и вскрик ответный: младенца (2-я главка): вспомните турецкую саблю; и вопль Катерины к Даниле: «Сын твой будет кричать под ножами» (3-я главка); одиннадцатая главка не прибавит нового; горе Катерины «ни капли не убавилось»; ее утешают: «ничего не бойся...»; а спавшее дитя снова «вскрикнуло» на коленях; Горобец успокаивает Катерину: «Никто, не... обидит, разве ни меня не будет: ни... сына» (СМ); дитя тянется... к... красной люльке, иль трубке, висящей на поясе есаула; красная люлька — судьба младенца, которую Горобец и подает ему: «Еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку» (СМ); сказано — «колыбели»; но колыбель и есть «люлька»; кривая двусмыслица второй главки повторена.
Через четыре строки: в люльке лежало «неживое дитя».
Отчитавшись пред нами, Гоголь возвращается к новопоказанному.
Главка двенадцатая: —
— неожиданно явлены «высоковерхие» горы» отделяющие «Русскую землю» от народа венгерского; «нет таких гор в нашей стороне... Глаз не смеет оглянуть их; ...на вершину... не заходила... нога человечья: не... море выбежало из берегов... Не оборвались с неба... тучи». Это — Карпаты; за ними — «и вера не та, и речь не та» (СМ).
Откуда они?
Строит их «не»: не без колдуна; это он пропадал двадцать лет без вести; он один мог знать «немалолюдный» народ венгерский, который «рубится и пьет не хуже казака»; тема гор уже ведома («нет таких гор» в нашей стороне; «там... и вера не та, и речь
65
не та»); первой главке при упоминании о пропадавшем «отце» уже сказано: «там все не так: люди не те, и церквей... нет» (СМ); Гоголь не случаен в повторах: «отец» вернулся из Венгрии.
Данилин хутор меж гор: «из-за горы... хоромы. За ними еще гора, а там... хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака»; Венгрия и хутор Данилы связаны тоже.
«Кто средь ночи — блещут, или не блещут звезды — едет на огромном, вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет... над озерами?.. Кто он? Куда, зачем едет?.. Не день, не два уже он переезжает горы... Взойдет солнце, его не видно... Замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем... Уже проехал он много гор и въехал на Криван. Горы этой нет выше» (СМ).
Более ничего не сказано.
Но читатель, знающий тематику первой фазы, насторожился: горы Гоголя знаменуют судьбу, встающую пред оторванцами, как месть за преступление против рода: появление Карпат вслед за злодеяньем на хуторе, где Данило, гарцовавший на вороном коне, сражен с горы, — знаменует: возмездье; образ на «вороном коне» вставал в картине Днепра и в картине убийства Данилы; теперь на вороном же коне встал всадник с Карпат.
Он встал, как вопрос.
Главка тринадцатая», или —
— «ни кошка, ни собака не услышала», как, бормоча «несвязные речи», сумасшедшая Катерина убежала в поля в час, когда «еще не являются» звезды; выхватив турецкий кинжал, пляшет («вылетит из мира»); кругом — «некрещеные» дети; Катерина «не глядит ни на кого, не боится»: «Это не такой нож... Он не достанет... Что ж не идет отец..!» Турецкого игумена «турецким» ножом не зарежешь; и вот: на следующее утро — казак в красном жупане, брат Копрян; он рубился вместе с Данилой; и — вспоминает: Данило-де просил его в случае своей смерти жениться на Катерине.
— «Отец!» — и Катерина кинулась с ножом; нож — вырван; отец убил «безумную дочь»; и... —
Главка четырнадцатая: —
— неслыханное диво: под Киевом встали Карпаты; с вершины горы явился человек на коне с лицом, которое «нежданно», «незваное» пришло к колдуну: «не мог разуметь, отчего... все смутилось»; колдун — прочь; но конь его заворотил морду; и — засмеялся в лицо.
Всё, как вопрос.
Главка пятнадцатая: —
— вначале колдун — в красном свете; напомним, что у него «страшный блеск очей», что он страшно блеснул очами, что — «навел огненные очи», что его «глаза..., как в огне», что из сабли «сыпались искры», что и красный жупан, как пламя, что и лицо «казалось кровавым».
66
К схимнику вбежал человек; «огонь сыпался из очей» его: — «Отец, молись!»
Но буквы в книге «налились кровью».
Из слов схимника встало «не»:
— «Неслыханный грешник... нет тебе помилования... Не могу молиться... никогда в мире не бывало такого».
Показалось, что схимник оскалился (всю жизнь виделся оскал; скалилась и... лошадь); колдун убил схимника; после этого его «жгло и пекло»; а из-за леса «поднялись тощие сухие руки с длинными когтями, затряслись и пропали» (СМ). Знаем: в нем поднялся «нечистый» род; ведь поднимались уже с кладбища «нечистые» предки; оказалось «не то» в колдуне — род.
И взрыв новых «не», дорисовывающих «не то»: «И уже ни страха, ничего не чувствовал он... не мог ни один человек на свете рассказать, что было на душе» у него; «не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать»; если б кто и назвал, то «уже не досыпал бы ночей и не засмеялся ни разу»; в него влез «кто-то сильный и ходил внутри него»; влез и ходил, и жег, и пек — род.
Мчася к Каневу, колдун попал в Шумек (ближе к Карпатам); он — на Киев; попал же в Галич: недалеко от венгров; конь мчал к всаднику; и, засмеясь, всадник поднял его на воздух; встали мертвецы от Карпат, Киева, земли Галичской, «как две капли воды» похожие друг на друга; и вонзили в него зубы; «еще один, всех выше, всех страшнее не мог подняться; двинулся» и «пошло трясение по всей земле».
Кто мертвецы? По тексту — «предки». Их слишком много: от Карпат, Киева, земли Галичской; не весь ли то народ украинский?
В безысходной карпатской пропасти «мертвецы грызут мертвеца»; и тогда трясется земля: «толкуют грамотные люди, что есть где-то... гора..., из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут... в Венгрии..., лучше знают это и говорят, что то́ хочет подняться... великий мертвец и трясет землю».
Повесть — апофеоз «не»: «не» — не выявлено; оно лишь провал в «ничто», куда сброшен злодей; не объяснены: всадник и подбежавшие к Киеву горы; дано только чувство связи с горами: с горы убил, с горы сброшен, но не в лощину, а в провал, «дна которого никто не видал»; «сколько от земли до неба, столько до дна того провала»; вздерг, подобный Кривану: в необъясненное.
Но соединив черты, характеризующие колдуна, с характеристикой других оторванцев от рода, водящихся с иностранцами, видишь: в колдуне заострено, преувеличено, собрано воедино все, характерное для любого оторванца; и тема гор, и жуткий смех, и огонь недр, и измена родине.
Эпилог сперва выглядит подставным объяснением; он, как занавес, падающий в ту минуту, когда должен появиться на сцене актер без грима; на занавесе намалевана академическая аллегория: дед-слепец,
67
распевающий песню про «дивную старину»: про Ивана, Петро короля Степана, князя семиградского; Ивана да Петро позвали биться с турчином; Иван привел на аркане турчина; король наградил землей и богатством; Петр столкнул Ивана с младенцем в провал: «в провале дна никто не видал». Иван упросил бога, чтобы был последний в роде Петро злодей, «какого еще и не бывало на свете», чтобы деды от его грехов вылезали бы из могил, а Петро бы корчился под землею; после же смерти злодея, чтобы он, Иван, столкнул его в провал; бог ответил: «Пусть... так...; но и ты сиди вечно там на коне своем».
Осудили обоих.
Легенда — «еще таких чудных песен не пел ни один бандурист» — объясняет и всадника, и тему Карпат, как возмездие, и тему двух гор с лощиной меж ними (хутор Данилы), и мертвецов: Петро «великий мертвец» — сухая ветвь рода; но: если проклят Петро с родом, то колдун, как личность, без вины виноват; виноват Иван, выпросивший его у бога злодеем и вставший за это: торчать над провалом; вина — в роде, а не в оторванце; великий мертвец — род, расширенный до всей Украины; адвокат родовой патриотики, Гоголь, топит «клиента» почище прокурора; чем более представляется потрясенным «неслыханными» злодеяниями, суть которых «неизвестно что», тем более вырастает ужас перед патриархальной жизнью, которая приводит к бессмыслице явления на свет без вины виноватого.
Корень всех злодеяний оторванца от рода в том, в чем неповинна его личность.
Мертв Петро; но мертв и Иван: с ним — Данило, и Стецько, и есаул Горобец, т. е. — все, кто идет против «великого грешника»; душевный процесс в последнем не вскрыт; вскрыта фикция, возникшая в очах мертвого коллектива, который приравнен к вселенной; все вне ее — провал; то — Польша, Венгрия, Германия, Франция эпохи Возрождения (были уже и Бэкон, и Гус, и Джиотто, и Данте; есть уже астрономия; она — волхвование); колдун, двадцать лет живший в культурном обществе, предельно необъясним для коллектива; его «не то» — «необъяснимость» дикарям поступков личности, может, тронутой Возрождением; понятно, что колдун тянется к ляхам и братается с иностранцами.
Преступления, — «колдун», «убийца», «кровосмеситель»; Гоголь дает право не верить мифам — приставкой «не то» к каждому преступлению, в котором виноват Петро и виноват Иван, вымоливший у бога злодея, за то и наказанный: торчанием над провалом; виноват бог, осуществивший жестокость. Во-вторых: сомнительно, что «легенда» о преступлениях колдуна не бред расстроенного воображения выродков сгнившего рода, реагирующих на Возрождение; мы в праве думать: знаки, писанные «не русскою и не польскою грамотою», писаны... по-французски, или по-немецки; черная вода — кофе; колдун — вегетарианец; он занимается астрономией и делает всякие опыты, как Альберт Великий, как Генрих из Орильяка; он нарисован из глаз жизни, почище «колдунской»; слово «антихрист» означает
68
лишь: «антирод»; в условиях этой жизни «антихрист» всякий человек; лицо его — маска, которой покрыл его поклеп; поклепщик же, Гоголь, в эпилоге говорит прямо: его поклеп — роль; ею он заставляет нас пережить жуть древней жизни; обманутые Гоголем, мы вводимся во все уголки ее, чтобы социальная тенденция, осуществленная приемом написания повести, выпрямилась бы приемом повести.
«Не то» в колдуне не объяснимо ничем и никак; уравнение высших степеней неразрешаемо в радикалах; чем более члены показанного коллектива отказываются от объяснения, тем более снимается вина с колдуна; от противного объясняется нечто, не прямо стоящее в поле объяснения, и «чушь» патриотики, от лица которой будто бы написана повесть. Допустим: пара смежных углов больше двух прямых; допущение приводит к бессмыслице; допустим, что меньше: опять бессмыслица; коли не больше, не меньше, то значит — равна; такова в приеме тенденция Гоголя; допустим — колдун: «не то»; допустим — предатель рода; какого? Все роды умерли; коли «колдун» — плод мертвой родовой жизни, то он не виновен: он только «личность»; но это для рода и есть преступление, которому нет названия.
Доказательством от противного выярчена значимость социальной тенденции, заостренная в «СМ», как нигде.
КАИНОВ РОД
Две проекции «колдуна»: Петрусь, Басаврюк (жертва рода, палач); колдун, как Петрусь, зарезывает младенца, и как Басаврюк, бражничает на свадьбах под видом прохожего молодца; Петрусь, убивши, переменяется: «хочет что-то припомнить... и... бешенство овладевает им» (ВНИК); колдун в вихре бешенств не знает силы, которая мчит его к роковому месту провала; дыра в роде — провал меж горами; в каждой особи рода — трещинка: перекор себе самому (Чуб, Хома Брут), не танцуемый гопак.
Пропал Басаврюк, зарезав Ивася руками Петруся; когда же испепелился Петрусь, то он выскочил. Откуда? Из Петруся, в которого влез и руками которого резал: когда Петрусь всадил нож в Ивася, «все покрылось перед ним красным светом... Деревья все в крови... Огненные пятна... в глазах» (ВНИК) (как и у колдуна); Петрусь — дыра в роде, в которую ныряет «не то», обстающее «родовую» вселенную; когда колдуна конь несет «на Карпат», он испытывает: «будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри него» (СМ) (то же испытывает и Чартков: Петромихали влезает в него); ходящее по жилам чужое «не то» — источник «поперечивающего себе» чувства; корчам ответствует трясенье земли; земля связана с родом; горные складки — застывшие выторчи лавы; под действием нутряного огня они рушатся.
В «СМ» родовая «дыра» — провал; складка под нею — гора Криван; колдун, охваченный жилотрясом, хочет обрушить всю землю
69
в Черное море («вулканическая катастрофа»); в Даниле же провал — лощина меж гор: оседание почвы под ним — временное общение с «ляхами» и неказацкий поступок (уступил тестю); изъян в Петрусе — дно «Медвежьего оврага»; есть и в деде «заколдованное место»; оно — оседает (не гопакуется): «Я знаю хорошо эту землю...»; на ней «не было ничего доброго»; «засеют, как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец» (ЗМ); «те леса... — не леса; ...те луга... — не луга; ...те горы... — не горы» (СМ); «огурец — не огурец», взятое всерьез, — «колдун — не колдун»; ворчливая кличка «турецкий игумен» и означает: «огурец — не огурец»; «заколдованное место» отведено в «СЯ» под ярмарку: «заседатель... отвел для ярмарки проклятое место, на котором... ни зерна не спустишь»; там пустой сарай (дыра), из которого выставляется «свиное рыло»; «того и гляди, что... покажется красная свитка» (СЯ); «ранним утром приехал... гость, статный собою, в красном жупане»; и назвал себя «братом Копряном» (т. е. вепрем); есть проклятая земля и в Хоме Бруте: «сбился с пути» в ночь, когда не было «ни звезд, ни месяца»; бурсаки старались нащупать дорогу, «но руки... попадали... в лисьи норы»; «везде была... дичь» (В); когда ж через дичь сигал Хома с ведьмой, дичь «казалась дном... прозрачного до самой глубины моря» (В); Хома гибнет в месте, где «не было ни деревца»; кругом — «пустое поле»; позднее оно «обросло бурьяном..., и никто к нему не найдет дороги» (В); заколдованное место, лощина хутора; заросшая церковь, дно оврага, карпатский провал — одно место («дыра» в роде).
«СМ» — синтезирует сюжет первой фазы; фон его — градация повестей; каждый штрих «СМ» подан в предметных, красочных и жестикуляционных мелочах, мимо которых проходишь; таковы: сабля, люльки, огниво, звезды, Днепр, цвета нарядов; все штрихи ведут к цели: подать целое каждой сцены в неожиданном свете; остраннение достигается скликом мелочей, пестрящих «Вечера»; после «СМ» ясно: повести «Веч» — главы романа с недооформленной тенденцией, которая пока в недрах творческого процесса. «СМ» — вершина первой фазы; вершина в ней — «гора Криван»; под нею провал; на дне — род, «великий мертвец» по имени «Петро», убивший Ивана; но и в «ВНИК» зарезал младенца Ивася — Петро («Петрусь»); реминисценция же колдуна — ростовщик из «П», Петромихали.
Встреча убитого Ивана с потомком Петро возобновляет легенду о Каине и Авеле.
Петро убил Ивана; Каин — Авеля; древний род разорван пополам: убийство близких — уничтожение предка во всех и распад каждого на две половины; каждый в роде теперь — «урод»; чем он виноват, что стал таким, коли каждая «личность» — «урод»: вырод из рода?
Род Авеля пас стада; род Каина «выродился» в... культуру наук, искусств, техники, металлургии, промышленности (по библии); Тубал-каин — стал «строителем» храма; но и его ждала «страшная
70
месть»: его убили. Виноват Петро; но виноват и Иван, по воле которого колдун изуродован; в Остапе и Андрее, сынах Тараса, род разорван; оба — гибнут; Остап — от «ляхов»; Андрей — от приспешника «москалей» — Тараса; одинаково нечисты и «лях» и «москаль»; от обоих гибнет род украинский.
И в Авелевых потомках сказались нелады с родом: оскудевает сила, ломается на̀-двое сабля, не гопакуется; в стоялом быте ожидают кому-то мести они; потомки же Каина силятся что-то припомнить; в усилиях сознания гибнут; но — строят культуру.
Трюк «СМ»: мы ничего не знаем о личности колдуна; она за горизонтом: «по ту сторону», в землю венгров; за Карпатом дыра, провал, дна которого «никто не видал»; Гоголь своими «ни», «не» оспаривает себя, как запевалу от «наивернейшего» десятка «молодцов» Данилы; «запев» — подвох, проваливающий дело Авеля; Гоголь — отщепенец от рода и класса — самая подоплёка им сочиненной личины.
Колдун от младенческих лет урожденный преступник; никто из детей не играл с ним (школьники отталкивались от Гоголя); отчужденность сказалась; колдуну казалось: каждый ему скалит зубы (СМ).
Нащупана связь темы рода 1) со смехом вообще, 2) со смехом в Гоголе; невеселый смех Гоголя — от припадков тоски; «украинец» Гоголь — мрачный гротеск, заглушённый хохотом, в котором нет никаких «невидимых» слез; я не могу назвать его «юмором»; не то слово и «сатира»: Гоголь не сатирик.
Герои его по-особенному усмехаются: «лицо... с усмешкой... какая-то издевка» (НПР); у трупа колдуньи «уста, готовые усмехнуться» (В); «как гром, рассыпался дикий смех» (СМ); у схимника «раздвинулся рот» (СМ); конь... «засмеялся» (СМ); смех «как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом» (В); это — рев: из отчаяния: «закричал... в страшном весельи» (ВНИК).
Я отказываюсь иметь дело с «юмором» Гоголя, которому Мандельштам посвятил половину исследования, ибо такого не знаю.
Корни восприятия колдуном «кривого» смеха — искривленность природы: вселенная оскаленных ртов и бычиных ревов есть зубы рода, зубы мертвецов, готовые вонзиться в оторванца: вот что видит, поворачиваясь на род, колдун — в минуту, когда род, поворачиваясь на него, видит — дыру, над которой курятся дикие небылицы; схватиться за нож, бежать из «отечества», соединиться с «ляхами», — самозащита; такой вывод слагался, видно, в «невинном» младенце, когда сверстники издевались над ним; таково было положение бедного репетитора Гоголя, не принятого в салон, и забавлявшего «воспитанников» передразниванием животных криков. Гоголь стер с колдуна следы личной, «культурной» жизни, показавши его из глаз рода: «кикиморой».
«Колдуна» сбросили в бездну, к которой мчал его криво смеющийся конь; в отщепенце природа совсем не гопак, а — радение; испепелились Петрусь, псарь Микита, Хома.
71
Радеющие полеты сопровождают у Гоголя «бесовски-сладкое» чувство; безумная Катерина, став легкой, «как птица... летела..., и казалось, будто обессилев... вылетит из мира» (СМ); «кажись неведомая сила подхватила тебя на крыло... и сам летишь, и все летит» (МД); так говорит — не Хома, колдун, Катерина, псарь Микита, а... Гоголь: о себе; его полет — вверх пятами; такие чувства развиваются в эпоху падения себя-изжившего класса: «бесовски-сладкий» гопак и современный фокстрот — в корне равны.
Гибель класса отразил Гоголь в образе России-тройки, сорванной с места и мчащейся неизвестно куда; чувство Гоголя осознал Блок, как следствие толчка снизу (поднятие к жизни нового класса); ощущение гибели класса выявилось в речи генерал-губернатора, которой оборван второй том «МД»: «Гибнет уже земля наша» (не земля, — господствующий класс); «уже нам всем темно представляется, и мы едва...» (МД); тут — конец «МД»; и — падение Гоголя в его усилиях реставрировать мертвую жизнь, кончившихся бегством к отцу Матвею, который Гоголю показал книгу с надписью «Сочинения Николая Гоголя»; но буквы налились кровью.
Гоголь отожествил художника в себе с «колдуном», вызвавшим душу Катерины: «Русь!.. Какая непостижимая связь таится между нами?.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» Так он «колдует» над своим представлением о России: с пером в руке и в... кокошнике (в «чудной чалме своей»); вместо же пани Катерины — является «незнаемое лицо»; и страшного в нем мало; а ужас объял Гоголя.
Кто явился к нему?
Белинский.
Гоголь не знал, до какой степени сгнил его класс, до какой степени спрос к нему шел из другого класса. «Никоша», не до конца изжитой в нем, пытался с «генерал-губернатором» воскресить «великого мертвеца»; но — «он едва...»
Что «едва»?..
«Едва не пошел» за Белинским, Герценом, Чернышевским; они проступили сквозь «иконы», которыми Гоголь завесился от действительности; так... проступили «не угодники» сквозь иконы пана Данилы, когда он узрел их в видении «колдуна».
Род и класс не защитили Гоголя: от художника в нем; Гоголь-художник выпал из рода и класса; и жаль, что не узнал он тайного друга во «всаднике на Карпатах»; не узнавши, сочинил «миф», в котором отразил: и сюжет первой фазы, и собственную трагедию.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЗВУК В «СТРАШНОЙ МЕСТИ»
Трудно оценить в «СМ» мастерство подачи сцен сюжета и смены сцен с красочными и бьющими по сознанию звуковыми контрастами; везде вздерг вниманья до замирания сердца: что далее? Взрослым не воспринять свежо фабулы «СМ», когда первая встреча
72
с ней — отрочество, не могущее оценить приема подачи; но помнится яркость первого впечатления, всасывающего, как знойная земля влагу, — сюжет, проносимый по годам; в зрелом возрасте не потрясаемся течением сцен, лапидарных, насыщенных цветом и звуком — необычайно; ни лишнего слова! Костюм, жест, предметность — не зря; и отступления в лирику, в картину природы — намеренные отводы внимания, перенапряженного, перегруженного мелочами; картина Днепра, например, — интермедия меж двумя эпизодами, кричащими каждой мелочью.
Любая сцена «СМ» слажена из моментов, то переосвещенных а то сознательно погружающих в тень, точно в сон, качающий будто бы беспредметным ритмом, который дробит контур образа в струящийся блеск; то — необходимая пауза; паузой в первой сцене дан мастерски всеобщий гопак; во второй — Днепр; каждая сцена — архитектонична, цельна: с наименьшей затратой средств высекает она максимальный эффект, обременяя сознание лишь нужным; где — забеги вперед, где — сознательно вычерченная двусмыслица («люлька» и «люлька»).
Скука сопровождает чтение даже незаурядных писателей: один — переговаривает; читатель, увидев последнюю сцену в первой, скользит с небреженьем по промежуточным, не вчитываясь и пропуская детали; другой не умеет показать с первых сцен степени насыщенности сюжета: в будущем; оба промахиваются.
Гоголь в «СМ» попадает в цель; он и скрытен, где нужно, и откровенен, где нужно. Течение фабулы — стремительно и извилисто, как бьющийся меж камней на крутых поворотах поток; отсюда и острота в обрамлении: сцен сценами; первая, пир, контрастирует со второй, лунной ночью; четвертая, замок, обрамлена горницею Данилы (третьей и пятой); шестая — подземелье; в шести сценах фабула ступенчато углубляется остраннением роковых отношений меж мужем, женой и тестем; восьмая влепляет корчму с ляхами, чтобы обрамить смерть Данилы, девятую сцену; в десятой — крутой поворот: явление с фабулой не связанного лица (вслед за апофеозом Днепра); далее — два крутых поворота: возврат к Катерине, Карпаты и всадник. Гоголь изумительный компонист, рассказчик, декоратор и композитор напевов.
«СМ» — единство содержания и формы!
Гоголь учился живописи; его манера одевать сцены «СМ» в цвета являет красочный синтез произведений первой фазы с доминирующим красным (26%); за красным лишь черный и синий приподняты выше 10% (10,6 и 11,5). В «СМ» пропорция эта соблюдена: на 19 красных пятен по 8-ми черных и синих; красный (цвет — 1) пятна на одеждах, 2) вспыхи, подобные красным бенгальским огням; эти пятна даны вперебив с синими и зелеными; в красное облечен колдун; красное здесь — кипение крови, наполняющее уши звоном и заставляющее схватываться за саблю; но красное на колдуне — заплата: на черной дыре; черное — под красным; красный жупан рыскает по черным лесам, перерезает месячные
73
отблески в черной лодке, является под черной горой, тащась к черному замку.
Красочная особенность «СМ» — насыщенность по сравнению с другими повестями первой фазы и голубым, и розовым; голубых пятен в «ТБ» — 3, «В» — 2, в «НИР» — 1, в «СЛ» — 1, в «ВНИК», «ПГ», «ЗМ» и «МН» — 0; в «СМ» — 6 голубых представлений; розовых пятен в «ТБ» — 3, в «ВНИК» — 2, в «СЯ» — 1, в «ЗМ», «НПР», «ПГ», «МН» — 0; «СМ» — 4 розовых пятна. Голубое и розовое связаны, как и серебряное, с Катериною, зыбко-нежной, как ива, склоняемая в порывах, дующих отовсюду; ива так склонена к Днепру, как Катерина к Даниле; и зыбь береговых ив сопровождает ее: «Зеленокудрые! Они толпятся вместе... с цветами к водам, ...глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются» (СМ); так Катерина: не наглядится на светлого своего Данилу; и сумасшедшая, — она бежит к деревам; они роняют листья под ноги ее. Только у Катерины — голубые глаза (у прочих гоголевских украинок — черные и карие); и платье из голубого полутабенеку.
Три главных действующих лица сопровождаются, каждое, своими цветами; цвета Данилы — золотое и синее; Катерины — голубое, розовое и серебряное; цвета колдуна — черное с красным. Красная люлька вещает о его появлении; серебряная жалоба ивы — о слезах Катерины.
Сюжет в цвета впаян.
В «СМ» фосфоресцирует образ; он так отражен в слове, как струящийся месячный блеск в воде; фосфоресценция дана в звуках; струение — в ритме; зрительное восприятие здесь — слуховой резонанс; «СМ» — песня; с этим согласны и профессор Гиппиус, отмечая распевы диалога, и Переверзев: «волнуют не образы, не характеры с их душевными переживаниями, а ритм речи, звуковая яркость произведения»1.
Всюду обилие звуковых эффектов, как «успокой себ-я́ м-оя́ люб-а́я сестр-а́» (я́-оя́-ая́-а́); Ермакову кажется: само заглавие повести синтезирует звуковую тему: «Стр-ашная ме-сть» — стр-сть; и это значит: «ст-а-р-ик» (стр) и «те-сть» (сть); тема ж Днепра, или «Дн-пр» сливает звуки имен «Дан-ило» (Дн) и «Петро» (П-р); это импрессия: характерно: такие импрессии возникают из ритмов и звуков «СМ», как неотвязная фосфоресценция звука отблеском образа; «о-свет-лилась свет-лица свет-ом», или «свет-свет-свет»: светлое светлеет от света; «св» для усиления света, как зрительного восприятия; «пошли́, пошли́ и зашуме́ли, как во́лны в непого́ду» ( —|
—| —|
—|

 —
— |
| —|
—|

 —
— ) — первая половина фразы, данная в комбинации ямба с фигурой «
) — первая половина фразы, данная в комбинации ямба с фигурой «

 —
— »; вторая половина: «то́лки и ре́чи (ме́жду наро́дом») две строки одностопного хореямба с женскою рифмою; все сказанное ниже о «звукописи» Гоголя — относимо к «СМ».
»; вторая половина: «то́лки и ре́чи (ме́жду наро́дом») две строки одностопного хореямба с женскою рифмою; все сказанное ниже о «звукописи» Гоголя — относимо к «СМ».
Герои поданы без психологий жестом струения звуковых отражений;
74
оперная условность их поз подчеркивает речитативы слов, переходящих в арию; раз оперно оформлен сюжет «СМ», то и условность реальна; сплетение лейт-мотивов делает ненужными анализы поведения, предопределяя и жест: ритмической темой; так позы и жесты исполнителей «Кольца Нибелунгов» подчинены музыке; и текст, и звуки «Кольца», полные содержания, взывают к риторике, как реальному атрибуту оперной формы; и было бы даже ненатурально, когда б, выпадая из ритма, исполнитель Зигфрида неожиданно почесался бы; Виноградов здесь подчеркивает риторичность, как признак неудачности «СМ» (Виноградов видит влияние «неистовой» школы, как в «П»); но риторика «СМ» — не срыв композиции, а нечто, вытекшее из музыки слов; она — плюс, а не минус; «СМ» — песня-повесть — необходимо условна; и в этом ее достоинство.
Гоголь любил, изучал, хорошо знал украинские думки; «СМ» прострочена звуками народных ладов; это столь же законно, как народная мелодия в «Хованщине»; народная песнь в опере не изъян; и Бетховен отразил песню: в сонате; ею пользовался Чайковский в симфониях; Григ — в лирических отрывках; Шуберт — в романсах.
«СМ» прострочена ритмом заплачек.
Ка́к им пе́ть | И рука́в |
Или:
Му́ж мой, ты́ ли | При́подыми́сь! |
Или:
Чу́ден Дне́пр | Сквозь леса́ |
Или:
Что́-то грустно мне́, | И се́рдце боли́т... И т. д. |
75
Часто словесный повтор переходит в рифму: «шумит, гремит конец Киева»; «кто-то с горы спускается, развевается зеленый кунтуш»; «ложилось легко и дымилось»; рифмы окантовывают двустрочия: «уже и нет его́. Уже вечер. Свежо́»; «все вдруг пропало, как будто не бывало»; «нет, дитя мое́, никто не тронет отца твоего́»; «если б и не отец мне был, ...если бы муж мой и не был мне ми́л»; «пропадай, сын мо́й!.. Тебя не хочет знать отец тво́й»; иногда рифмы или повторы образуют явные строфы:
Ржут и топочут | Табунов ни у кого таких не было, |
Страницы «СМ» можно перекладывать в короткие строчки, внимая паузам и пульсации ритма; пульсация создает строение образов, подобное пляске серебряных месячных змей (вместо месяца); струение дробит образы, их вытягивая в условные линии, завитые риторикой и гонимые пульсом; они — в становлении; они — не готовы: котлы кипят; и кушанье варится; оно подается на стол в «Рев» и «МД».
Невыготовленность сюжета первой фазы — не недостаток: недоговоренность, условность, фантастика — показывают, что тенденция эмбриональна пока; выяви ее насильственно Гоголь, она оказалась бы ненатуральной; но она — есть: в лирическом искании ее Гоголем: в своей душе; он как будто прислушивается; и как будто с собой говорит: «Я понять тебя хочу; темный твой язык учу»; тема Гоголем недооформлена в «СМ» в том смысле, что еще не ясно зрима, но уже звучна: ясно слышима; в «СМ» Гоголь нашел удивительную форму для передачи читателю неготовости в нем сюжетной тенденции, как бы приглашая его искать вместе, и для этого заражая его внятно слышимым ритмом, в котором таится она.
Отсюда обилие аллитераций: «белое, ...будто облако веяло» (бл-б-бл-вл); «бледно алеют ... сквозь белопрозрачное небо» (бле-але-бел-еб); «идет народ с работы» (дет-ар-од-ра-от); «блеснул на небе серебряный серп»: 1) ле-ере-ер; 2) бр-рп; 3) ср-ср; 4) ну-на-не-ны и т. д.
Аллитерирует вся звуковая ткань.
Для примера возьмем первые фразы первого отрывка (можно взять любой); первая фраза: «шу-ми́т, гре-ми́т к-онец К-иева» (мит-мит-к-к); вторая: «ес-аул Горо-б-ец пр-азднует св-адьбу св-оего с-ына»; «ес-ец» рифмуют с кон-ец: кон-ец — Гороб-ец; кроме того 1) рб-пр (-роб-ец пр-азднует); 2) св-св-с; первое слово четвертой фразы «в старину» (вст) дважды аллитерирует: а) «вс» с предыдущим «св-адьбу св-оего с-ына»; б) ст — с последним словом третьей: «Много наехало людей к есаулу в го-сти» («го» слова «гости» аллитерирует с Го-робец); к группе «ст» («го-сти», «в ст-арину») тотчас присоединяется из последующего: «пое-сть», «повесели-ться»
76
(ст-тьс); это «с» переходит в «ш», «щ»: «хоро-ш-енько по-есть, е-ще лу-чше» и т. д.; кроме того: лю-лу-лю-ли-лу-лю-ли-лу-лю-ли-ли («лю-дей», «есау-лу», «лю-би-ли», «лу-чше», «лю-би-ли» и т. д.); далее: «при-ехал... запорожец... прямо... с Перешляя Поля» (пр-пр-пр-п-р-п-л); к «к» и «р» присоединяется рифма «по»: «по-есть», «по-пить», «по-веселиться», за-по-рожец... «с по-пой-ки с...по-ля, где по-ил» и т. д.; группа пр (бр) (пр-иехал, пр-ямо) продолжает себя и в следующей фразе: «пр-иехал бр-ат... Бур-уль-б-аш... с... бере-га Дне-пр-а, где пр-омеж...» (пр-бр-бр-бр-пр-пр); кроме того: ру-ру (Бу-ру-льбаш... с д-ру-гого»); группы «ру», скликаясь с «дру» и «рг» («бе-рег»), сложнейше синтезированы звуками слова «хутор» в следующей фразе: «черным, как... барх-ат бров-ям и исподнице из го-лубо-го полу-табенеку» (бр-бр-лубо-полу); кроме того: «и исподн-иц-е из» (ис-иц-из); я опускаю в этих фразах ряд еще более тонких и не поддающихся учету звуковых переливов; далее: ста-рый о-тец два-дцать... без ве-сти» (1) ст-тц-дц-ть-з-ст, 2) ста-два-дца, 3) тец-ез-вест); все — звуковой перелив.
Но — довольно!
Вся ткань — инкрустация звукового блеска, складывающая повторы; тенденция ритма переходит в тенденцию звукописи; последняя рождает повтор, параллелизм и рефрен, пестрящие текст орнаментальными пятнами; хотя бы: первая и последняя фразы первого отрывка — склик тех же рифм; первая — «шу-мит, гре-мит конец Киева»; последняя: «и ле-жит и хра-пит на весь Киев»; внутри отрывка — орнамент повторов: «В старину любили (a) хорошенько (b) поесть (c), еще (d) лучше (b) любили (a) попить (c) а еще (d) лучше (b) любили (a) повеселиться»; формула повтора: abc-d-bac-d-bac; далее: «приехал (f)... запорожец (g)... с Перешляя Поля (h), где поил (i) семь (m) дней (n) и семь (m) ночей (n)»: fgh-i-mn-mn; далее: «приехал (f) и Данило Бурульбаш (g) с другого берега Днепра (h), где (i)» и т. д.: fgh-i. Далее: «Дивились (p)...; но еще (d) больше (b) дивились (p)..., что не приехал (f) » и т. д.: p-db-p-f; «там все (r) не так (s): и люди (r) не те (s), и церквей (r)...нет (s)... Но он не приехал» (f): rs-rs-rs-f.
Опрощая схемою сеть этих повторов, имеем:
abc-d-bac-d-bac
fgh-i-mn-mn
fgh-i
p-ab-p-f
rs-rs-rs-f
В отрывке четвертой главы, посвященном повторам, я приведу примеры многообразия этой слоговой формы у Гоголя; вся «СМ» — орнамент повторов; приводить их не стоит; текстовые абзацы, как выщербленные барельефы из них.
Богата звуковая метафора: сюжет, впечатанный в образ, отпечатлелся на звуке.
77
ЭВОЛЮЦИЯ СЮЖЕТА
Прихотливы фабулы «СМ», «ТБ», «В»; в «НПР», в «МН», «СЯ» линии фабул — завитки интриг; со второй фазы оскудевает фабула: сюжет, углубляясь, дает в каждой фазе модификацию, становящуюся сюжетом фазы; в первой фазе он — взгляд на вселенную из глаз коллектива; во второй — взгляд на нее из глаз мелкой личности; в третьей — и личность, и коллектив даны из глаз автора, выступающего теперь действующим лицом, проводящим тенденцию; сюжет здесь — внутренняя биография Гоголя, как все-души; отдельные личности и гипертрофированные свойства души автора, и штрихи русской жизни; в «МД» коллектив героев — негатив огромного силуэта; автор обещает этот силуэт просветить; в силуэте совпали: образ России с внутренним убеждением автора; Гоголь видит себя универсальной душой, вступающей в особые отношения с Россией: «Чего ты хочешь от меня?» Задание — вскрыть душу каждого, как «душу вообще».
Она же — больная душа Гоголя.
Множество, как целое, характеризует первую фазу; многоразличие единства — вторую; в третьей дается всеобщность: единство многоразличий; сперва человек Гоголем растворен во всем, что ни есть; потом «все, что ни есть» каждого показано, как «ничто»; и наконец: каждый в отдельности показан фикцией равновесия: все + ничто («ни то, ни се»); фигура фикции строит «МД».
Таковы недовоплощенные тенденции трех фаз творчества Гоголя; отношение личности к коллективу, души каждого к вообще, души Гоголя к русской душе — тема сюжетов; русская душа показана в скобках класса. Какого? В определении, какого именно Гоголь запутался.
Меж сюжетом и фабулой Гоголя отношения обратной пропорциональности; со зрелостью сюжета оскудевает фабула, которая в первой фазе вертлява, узорочна, напоминая ломаную; она бедна, напоминая круг или точку — во второй; она — прямая в «МД». Сюжет «МД» значительнее начальных сюжетов, ярких узором. Сюжет — энергия потенциальная; фабула — кинетическая.
Гоголь, синекдохист1, в гиперболе-дифирамбе, в гиперболе-отрицании раздваивает образы: они двурельефны; горная цепь воспоминаний о прошлом, щербимая провалами в низость текущего дня; «все, что ни есть», — данное в звездном и в месячном блеске, — прием «Веч»; прием «Н», «НП», «Ш», «Рев», «Ж»: русская действительность, как фук дыма из хриплого чубука.
В «Веч» земля — зеркало неба: «луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший... круглое небо; и в верхней половине, и в нижней половине... месяц» (СМ); и даже земля — экваториальная линия: неба, которое внутриположно земле; когда обычная в нашем смысле земля вламывается в пустой шар, то он дает трещину.
78
Земля в нашем смысле — «ничто» в романтике Гоголя; она — трещина всенебесности; в нее свергают; у Гоголя — два неба и две земли то — небо обнимает землю; и — родовая жизнь оказывается: на поверхности земли; то небо оказывается в объятиях земли: ее центром; «как... старец держал» пруд «в... объятиях... небо» (МН) — одно представленье; другое: «неизмеримый океан воздуха... заснул, обнимая» землю (СЯ); то человек ходит головою вверх; то «синие леса, люди, возы... — все опрокинулось... вверх ногами, не падая, в... бездну» (СЯ); небо, земля — то вверху, то внизу; под «все» — «ничто»; под «ничто» — «все»: натурализм и символизм смешаны в сюжетах Гоголя.
Врыв во все «ничто» — следствие отрыва от рода; таков первоначальный сюжет: «я», как центр «ничто», раздутый во «все, что ни есть», — сюжет второй фазы; переход к ней в жесте падения, подобного слетанию колдуна: в провал к мертвецам; в процессе его пропастная щель становится как бы выгнутым куполом, ширясь, а дно — низменностью, населенной утратившими страшный вид и теперь безобидными мертвецами: Афанасием Ивановичем, Иваном Никифоровичем, Василисой Кашпаровной Цупчевськой.
Так загробная жизнь становится... русской, а ужас, внушаемый колдуном, — ужасом Толстого-американца: перед «Мертвыми душами». «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» (эпиграф к «Ревизору»).
Страх перед личностью патриархального рода разрастается из мухи в перепелку; из перепелки в гигантскую тень колдуна; а личность реальная по мере роста в ней самости рисует линию: от Прометея к... перепелке; и от последней — к мухе: «меньше даже мухи» (МД).
Таков переход — от второй фазы к третьей.
В первой предметы гипербол вздуты во «все, что ни есть», поданного только звуками и метаморфозой фантазий; во второй предметы, гиперболически сжатые до «меньше мухи», складывают облик... русской действительности, в которой бандура — хрип чубука, а полет — дрыханье на диване; прочтите романтические повести от «Сорочинской ярмарки» до «Тараса Бульбы»; и сразу же пропустите «ШП», «СП» и «ОТ» через себя; получите впечатление удара о дно «ничто» (хорошо, если не треснет череп); испытаете переверт всех представлений.
Вместо динамики фабулы «СМ», исполненной мастерства, музыки, красок, — отсутствие фабулы, как сюжет-собственно; сюжет мертвого дня: ничего; фабула, как змея, в нем кусает свой хвост; в «СП» она — обстание неизменного быта, частокол, за который «не перелетает ни одно чувство», посередине которого Афанасий Иванович (с улыбкой мертвой), Пульхерия Ивановна (с улыбкой приторной) угощают пампушкой и «пундиком»; между ними же — смерть: серая кошечка.
Достоевский позднее дал вечность, как баню с пауками; ранее Гоголь нарисовал эту вечность, как вечность русской провинциальной жизни с точкой прокола ее: в сплошной бред, показанный
79
внутри довгочхунова пуза; урчем этого пуза будто бы изживает себя личность «ОТ», ШП», «СП». Личность такая есть мыльный пузырь; обладатель ее — «небокоптитель» по Переверзеву; ясность тихого дня показана, как таящая ревы ночи (СП); шелест листьев — шип «гусака» (ОТ); химеричность будто бы натуры русской разоблачена в столице «Российской империи»; в «ЗС», «П», «НП», «Ш» описание столичного бреда, как центра культуры; из центра в обстание сквозняки пыли мчат очертания Хлестакова, Чичикова, капитана Конейкина и Глова, который не Глов (Игр); в центре — дует «сразу с четырех сторон» (Ш); здесь разорвана в ураган фикция личности, показанной пузом; отсюда бешеный «нитонисейный» мельк людей, полей, городов, от которого умирают в бреду Чартков, Пискарев, Поприщин, Башмачкин; выживает нос, а не человек (Ковалев), да хлещет песком Хлестаков по российским пространствам; но колесо вихрей выглядит уравновешенным кругом; и наконец становится: кругом чичиковского лица.
Гоголь инкорпорировал мертвеца мертвецов в человека; в Поприщине человек переживает прижизненно бред засмертный; в Хлестакове омоложается: в смерть; в Чичикове наливается благообразием, более уродливым, чем личина колдуна.
.....................................
Говорить содержательно о центральном сюжете творчества Гоголя — значит: говорить о содержании мировоззрения Гоголя; социальные условия определяют его; рост сюжета в Гоголе связан с личностью Гоголя; а эта личность мною взята постольку, поскольку она выявлена в мастерстве; анализ корней сюжета вообще не объект этой книги; в ней взят сюжет этой вот повести, выветвившей эту вот фабулу, организованную в этих вот художественных средствах.
Особенность любого сюжета Гоголя: он дан в изобразительности, слоговых ходах, ритме; сырой материал подобен тесту; и — можно сказать: в лучших произведениях Гоголя тесто это пропечено насквозь до последней подробности; мой сказ о сюжете «СМ» своди́м к отметкам: как он явлен подробностями; вне их можно говорить лишь о том, в какой мере он связан с центральным сюжетом; последний иначе выявлен, например, в «ВНИК». Особенность гоголевского сюжета — в проведении его сквозь мелочи.
Вместо «СМ» мог бы я взять «ТБ», «В», «ПГ»; в каждом рассказе по-разному выявлена особенность гоголевского сюжета: везде организация мелочей, углубляющих сюжет: вне их любой сюжет — сюжет вообще, питаемый социальными условиями, складывающими личность; такой разгляд, — тема не этой книги.
Сюжетный анализ любого произведения Гоголя устанавливает выпеченность им всего материала; сказанное о «СМ» относится к «Носу», к «Ревизору», к «Шинели». «Носу» мог бы я посвятить исследование: так много он дает материала к показу, как можно говорить о важном при помощи пустяков; о приеме написания «Н» не сказано ничего путного; этот рассказ ждет своего аналитика.
80
В повестях и в рассказах второй фазы из сюжета выпала фабула; там есть сюжет; и есть материал из предметных мелочей; сюжет — значителен: значимость его сказывается в электрической силе любой мелочи; «нос», «шинель», «коляска», «лошадь», «портрет», «собачка» еще более символичны, чем «люлька», «сабля», «жупан» и т. д. В «СМ» не случайно организована мелочь; конкретизацией сюжета был бы семинарий по ощупи мелочей.
То же можно сказать и о первом томе «Мертвых душ»: он — чудо мастерства. Я потому остановлюсь на сюжете «МД», что «МД» — последнее художественно оформленное произведение Гоголя, относимое уже к третьей фазе; «МД» противопоставлено «СМ», как конец началу; сказанное о «СМ» и «МД» в значительной мере относимо и к любому произведению второй фазы, разгляд которого мне заповедан: за недостатком места.
ПРИЕМ «МЕРТВЫХ ДУШ»
Прием написания «МД» есть отчетливое проведение фигуры фикции; о последней не раз придется мне говорить; суть ее: в показываемом нет ничего, кроме неопределенного ограничения двух категорий: «все» и «ничто»; предмет охарактеризован отстоянием одной стороны от «все», другой — от «ничто»; отстояние «от» — не характеристика, а пародия на нее; предмет — пустое и общее место, на котором нарисована фикция: не больше единицы, не меньше ноля; подан весь ряд дробей от ноля к единице частицами «ни» и «не»: он — не «то» и не «се»; «то» — некоторое отстояние от «все»; «се» — от «ничто»; системой отталкивания от пустых категорий предмет (личность иль вещь), обросший неопределенными признаками, становится подобием «чего-то», лежащего посредине; середина же непосредственна, как ∞/2; а вырастает фикция выпуклости.
Если «ничто» символизует 0, а «все» — 1, фигура фикции в том, что мы думаем: предмет есть; (0+1)/2=1/2 вселенная половинчатых свойств, нарисованная в «МД», выглядит положительным равновесием: на самом же деле искомый предмет есть 1/0, или — бесконечность определений; под половинчатым равновесием — буря противоречивых смыслов; каждую минуту нас ожидает сюрприз.
Определения посредством «несколько» (сколько?), «ни много, ни мало», «до некоторой степени» (до какой?) не определяют; в «положительном» Чичикове живет в него влезающий «червь», подобный силе, влезавшей в колдуна; сквозь, все половинчатые определения она протыкается носом, напоминающим в профиль Наполеонов; Чичиков не уравновешен ничем и никак; а кажется уравновешенным.
В этом и состоит фигура фикции.
Формально приемы «СМ» и первого тома «МД» скликаются —
81
в обилии отрицательных определений на «ни» и «не» (явных в «СМ» подразумевается часто в «МД»); но прием «МД» построен хитрей; в «СМ» род, как «все, что ни есть», предан личностью, оторвавшейся от рода; колдун — «все, что ни есть» минус «все, что ни есть»; он слетает в «ничто».
С бытом «МД» обстоит не так; ограничение там не ограничивается ограничением категории «все»; ограничивается и «ничто» (в колдуне же оно не ограничено); «ничто» ограничивается в «что-то»: в «до некоторой степени что-то»; оно определимо; но — только в принципе; Чичиков — не проваливается в «ничто»; он пишет разъезды свои меж «все» и «ничто» какими-то незамкнутыми восьмерками; интригует же он нас не менее колдуна; колдун — страшен; Чичиков — благопристоен; страх к колдуну аннулируется страхом колдуна; в пристойном Чичикове живет «что-то», от чего умирает вдруг прокурор (умрут сколькие?); колдун проваливается; Чичиков и в тюрьме надеется на «что-то»: его выручает Муразов; перед ним — «Новороссия», в которую с помощью Гоголя вымчит он мертвую свою душу; и это — более страшно, чем все убийства колдуна; колдун режет тела; Чичиков губит души; капиталистическая Россия, в нем гнездящаяся, и есть несущая его тройка, которая становится вдруг образом России; Гоголь не дает прямого ответа на то, что есть его тройка, кроме «темно представляется» и «мы едва», — слова, обрывающие и «МД» и жизнь Гоголя; прием «СМ» — запугивает читателя; фигура фикции выбивает Гоголя из литературы и... жизни.
Явление Чичикова в первой главе эпиталама безличию; это есть явление круглого общего места, спрятанного в бричку; она и вызывает внимание, кажется чем-то (ее обладатель не кажется «чем-то»); но «что» — фикция: в такой бричке разъезжают «все те, которых называют господами средней руки»; «средняя рука» не определение вовсе; для одних она — одна; для других — другая.
Неизвестно какая.
В бричке сидит нечто среднее: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однакоже и не так, чтобы молод»; «въезд его не произвел... никакого шума и не был сопровожден ничем особенным» (МД).
Те же «ни» и «не», сопровождающие колдуна; но действие их иное: ими колдун определенно противопоставлен быту, как пропасть в нем; края ее выперты горою Криван; каждое «не» колдуна остранняет его в ту же сторону; а обладатель брички в «МД», наоборот, при помощи «ни» и «не» слит со всем общим; у него нет признаков; яма не роется; наоборот: сглаживаются неровности между ним и бытом до... сходства с губернатором; он — слит с бричкой средней руки, которой суть в колесе; а все колеса — на один лад: круглые; колесо приметили два мужика: — «Вишь ты» — сказал один другому: «вон какое колесо! Что ты думаешь: доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечал
82
другой. — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет».
Колесо определилось расстоянием от Москвы и Казани какого-то неизвестного города.
Итак, от проезжего, мимо него, к бричке и к колесу; никак не определяют колесо — «два русские мужика, стоящие у дверей кабака»; для чего «русские мужика»? Какие же, как не русские? Не в Австралии ж происходит действие!
Ничто не сказано; кажется ж: что-то сказано.
Мимо «героя» поэмы — к прохожему, тут же исчезнувшему: он «в белых, канифасовых панталонах, весьма узких, во фраке с покушеньем на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым, пистолетом» (МД).
Для чего он?
Чтоб отвлечь от приезжего.
«Господин был встречен... слугою, или половым, как их называют»; «нельзя было рассмотреть, какое у него... лицо»; безличие встречает безличие: «гостиница была известного рода, то есть такая, как бывают гостиницы»; комната, которую отвели приезжему, была опять-таки «известного рода»; приезжий отправился в общую залу: «какие бывают эти... залы — всякий... знает очень хорошо»; картины, висящие там, «неизвестно, в какое время и кем» привезены; приезжий снял с себя шарф «всех цветов», — такой, какой «женатым приготовляет... супруга», и ему подали «разные обычные в трактирах блюда»; за обедом приезжий делал слуге «не вовсе пустые вопросы».
Мировые события ступают на голубиных шагах; вслед за безличным приезжим общо поданы: бричка, колесо, слуга, гостиница, комната, зала, блюда; тусклость обстания от тусклости восприятий приезжего: «те же стены..., тот же... потолок; та же... люстра...; словом все то же, что и везде» (МД).
Тусклятина бьет по сознанию ярко.
Но ярко описана собственность неизвестного; «ларчик красного дерева, с штучными выкладками из корельской березы», «чемодан белой кожи»; и это неспроста.
Вместо личных свойств — клочочек бумаги; на ней отписка — в полицию: «коллежский советник, Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям»; «по своим надобностям» не рисует никак: паспорт — фикция личности: но и заглавие «Мертвые души» есть фикция, за которую поплатился и Гоголь: души́ — или нет, или она бессмертна: «мертвая душа» — что такое?
На следующее утро Чичиков делал визиты; перечисляется, у кого был: перечисление не окончено: «несколько трудно упомнить всех сильных мира сего»; и каждому сказал что-то лестное; говорил как-то вскользь; о себе — «какими-то общими местами...», пускал в ход «несколько книжные обороты: что он незначительный червь сего мира» (МД); значительный «червь»: «Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь... И... в... Чичикове
83
страсть, его влекущая, уже не от него, и в... его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека... И еще тайна, почему сей образ предстал» (гл. 2-я).
В свете будущего величия Чичикова — фикция и его слова о себе; и вообще кажущаяся фотографичность описания — писание вилами по воде: доказано, что Гоголь в эпоху писания «МД» не знал русского провинциального города; не знал и русской деревни.
Губернатор, принявший Чичикова, как и он, — «ни толст, ни тонок собой; «был представлен к звезде... впрочем... вышивал по тюлю»; в одной руке он позднее держит билет; в другой — болонку; сперва принимает Чичикова; потом — нет; «препочтеннейший и прелюбезнейший» — по Манилову (гл. 2-я), «первый разбойник», «за копейку зарежет» — по Собакевичу (гл. 5-я). Но «препочтенный разбойник» есть фикция.
Перед домом его «все, как нужно»; у него, «как и везде», — мужчины «двух родов»: одни — тоненькие; другие — толстые; про тоненьких поздней узнаешь, что они «больше ничего, как что-то вроде зубочистки» (гл. 8-я); про толстых узнаешь, что они «не занимают косвенных мест» (гл. 1-я), и что жены дают им названия кубышки, пузантика (гл. 8); но губернатор, — почтенный разбойник, — ни тонок, ни толст.
Сплошная фикция.
Чичиков, ни толстый, ни тонкий, как губернатор, говорит у него на вечере комплимент, «приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый»; раскланивается «не без приятности»; «приятно» спорит; «во всем как-то» находится; и говорит «ни громко, ни тихо, а совершенно, как следует» (гл. 1-я) о лошадином заводе, добродетелях, судебных проделках, таможенных надсмотрщиках и горячем вине.
Обнаружится вскоре, что разговоры не занимают его; Петрушка, его двойник, показывает подоплеку этих приятных весьма разговоров тем, как читает он: ему было все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь, или молитвенник; нравилось, «что вот-де из букв... выходит какое-нибудь слово» (гл. 2-я); для Чичикова таково общенье с людьми: они — буквы, из которых что-нибудь да выходит; они — мухи; в описании вечера у губернатора — сравнение губернаторских гостей с мухами — не случайно.
Глава вторая: описан выезд к Манилову: личность последнего не интересует Чичикова; Манилов дан в неопределенности; едва подчеркнется его особенность, как уже заволакивается дымом из чубука: «чубук хрипел, и больше ничего» (гл. 2-я).
Окрестности города обволакивает та же неопределенность: «пошли писать по нашему обычаю (какому?) чушь и дичь по обеим сторонам дороги»; перечислены: «ельник, ...кусты, ...стволы, ...вереск»; «и тому подобный вздор»; окрестность: сера; неизвестно и время года: мужики сидят «в... овчинных тулупах»; бабы «брели по колено в пруде»; Коробочка в ту же ночь восклицает: «Вьюга такая...» А фруктовые деревья покрыты сетками: от сорок.
84
В некоторое время года Чичиков едет — в некоторое место: «Маниловка, может быть, а на Заманиловка». И расстояние — некоторое: «Проедешь... версту..., так... направо»; проехали две версты «и три, и четыре», Маниловки — нет: «если... приглашает... за пятнадцать..., то значит... верных тридцать» (гл. 2-я).
Отстояния — малоподобны: Чичиков, проехав около тридцати верст до Маниловки, просидев в ней целый день, отобедав, наговорившись, едет к Коробочке; сбившись с дороги, оказывается за шестьдесят верст от города; сколько же он проехал? Не менее семидесяти пяти верст; день же весь просидел у Манилова; невероятно для фабулы и для... коней; на следующий день попадает к Ноздреву, живущему недалеко; на третий, — проведя бурное утро с Ноздревым, застряв на дороге, он успевает наобедаться у Собакевича, съездить к Плюшкину, обделать дельце и к сумеркам оказаться в городе, находящемся от Плюшкина весьма далеко; нельзя осилить пространства третьего дня пути, приняв во внимание засид у помещиков.
Гоголя не интересует точность; с него довольно: в некоторое время, в некотором, пространстве.
Так же фиктивен и день: «не то ясный, не то мрачный,... какого-то светлосерого цвета».
Далее характеристика Манилова: «есть род людей...: люди так себе, ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»; определенное начало! Оказывается: Манилов — «чорт знает что такое!» То есть — неизвестно что: «у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было»; «нельзя сказать, чтобы он занимался» хозяйством (но и «не не занимался», ибо строил хозяйственные «прожекты»); когда приказчик говорил: хорошо бы... «то и то сделать»; «да, недурно» говорил он; в комнате этого не неприятного человека стоила мебель «не дешево» (не сказано прямо, что дорого); но на два кресла материи «недостало»: «они еще не готовы»; кабинет «не без приятности»; стены выкрашены «какой-то голубенькой краской, вроде серенькой»; хотя все в комнате засорено золой, однако горки золы были «расставлены не без старания быть красивыми»; приказчик Манилова «поступал..., как все приказчики»; супруги Маниловы «то, что говорится счастливы».
Все в Манилове — неизвестно; все — фикция: все — сложение «не без чего-то» с «не без ничто», определимое единицей минус 0,01 и единицей минус 0,02, и полем плюс бесконечно малая величина: «ничто, не без чего-то»; и — два четких штришка: курит чубук, глаза, как сахар (их щурит); сладкий щур струится но первому тому вместе с хрипом озоляющего и несладкого чубука; не определение, а фикция: сахар плюс зола, деленные на два; жестовой повтор не вскрывает Манилова, который, вероятно, с «червем»; но Гоголю не по дороге с ним; «червь» есть, вероятно; лишите Манилова его поместья, швырните в Петербург, — еще неизвестно, в какие «испанские короли» пройдет он.
Каждый тип Гоголя по Гоголю же полон «неуловимых особенностей»:
85
«эти господа страшно трудны для портретов»; Гоголь же дает не портрет, а его жестовую схему и ставит ее, как экран: скорее для скрытия.
Создается фикция: портретной выпуклости; но характеры «МД» — редукции полноты возможностей: к одной, двум, поданным посредством жестового каркаса; Собакевич с первого появления давит ноги; давит ноги и после, нагнув голову, молчит, ругается; и говорит: «Прошу»; кажется, — вы знаете эту пройдоху; ничуть не бывало; он, как вывеска — «Иностранец Василий Федоров», как «почтенный разбойник», золяной сахар, как «Мертвые души».
Инвентарь этих фикций есть прах: «золяные горки «не без красивости», поло́тна Плюшкина, которые — тлен, скирды, или «гниль не без зерна»; детали фабулы даны в подчеркнуто неопределенных тонах: «будет нелишним познакомиться» (не сказано: «нужным»); «хотя лица не так заметные» (не сказано: «незаметные»); «автор любит... быть обстоятельным во всем, несмотря на то, что русский... Это, впрочем, не много времени займет (не сказано: «мало»), потому что не много нужно прибавить к характеристике Петрушки (о котором еще мало сказано); выходит; автор не любит быть обстоятельным; даже: отказывается явить мысли Петрушки: «трудно знать, что думает дворовый человек,... когда барин ему даст наставление»; еще трудней знать, что думает автор, сплетая обиняки с хвостиком: «словом, виды известные».
Никак не известные!
Это — прием, чтобы в «не то» и «не се» боковым ходом вести таимую тему; «боковой ход» — жест-трафарет Чичикова, севшего в засаду из серого равновесия: (0+1)/2=1/2 (на самом деле 1/0=∞).
Чичиков проводил дни «как говорится» приятно (приятно ли?); путешествует в «известной» бричке (совсем не описана); Петрушке бросает: «Ты, брат, чорт тебя знает...» Не скажет: «воняешь». Даже шлагбаум им был «узрет не без радости»; подходит «не без удовольствия» к ручке: «несколько даже» смущается (а почему бы ему не смущаться?); он заявляет: «ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного»; Манилов поправляет его: «Вы — все имеете, даже еще более». Чичиков (от чи́чик) — фамилия громкая; «коллежский советник» — заметный ранг? Приятная неопределенность растет: «Позвольте вас попросить расположиться в... креслах». — «Позвольте, я сяду на стуле». — «Позвольте вам этого не позволить». Чичиков сел и заметил: «в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума». И — демонстрация неизъяснимости, после которой приятная неопределенность переходит в неприятную неопределенность, ибо «Манилов... сконфузился и смешался»; Чичиков «неизвестно отчего оглянулся назад» (Манилов «тоже неизвестно отчего оглянулся назад»), и повел речь о покупке ревизских душ; «Как желаете вы купить крестьян: с землею, или... на вывод?» — «Не то, чтобы совершенно крестьян... Я желаю иметь мертвых... Можете ли вы мне... не живых в действительности, но живых
86
относительно законной формы,... уступить, или как вам заблагорассудится?..»
После чего Манилов предлагает — вопрос:
«— Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое...».
Но задание фигуры фикции: под всеми показами дать непоказ, что демонстрирует Чичиков, предлагая свершить купчую на мертвые души; это — подлог: «Мы напишем, что они живы... Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов... Обязанность для меня — дело священное... Я немею перед законом».
За́кон тут по́длог? Или подлог тут закон? Что думает Манилов? Но «чубук хрипел — и больше ничего».
Наконец он изрек:
«— Не будет ли... чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция не соответствующею... дальнейшим видам России?»
Опять неопределенность: маленькое дельце ни в каких отношениях с дальнейшими видами России: пока не указаны и эти виды, и ближайшие; купчая идет навстречу ближайшим видам России: «Казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины... Я полагаю, что это будет хорошо».
Подлог — очень нехорошо; но казна получит за него пошлины; это — очень хорошо; так что: «не очень», но и «не очень не хорошо»; раз так, то — хорошо.
«— Если хорошо, это другое дело».
Искренен ли Манилов? С собою — нет; с жителями городка — неизвестно; нельзя же сказать, что он сплутовал по неведению, раз сомневался; и нельзя допустить, что фикция успокоения успокоила; отчего же он «так сконфузился и смешался», оглянулся назад, и после отъезда Чичикова мысль о сделке как-то «особенно не варилась в его голове», несмотря на нежную дружбу к Чичикову.
Чичиков обнаружил себя и дико, и нечистоплотно (цель нечистоплотности во второй главе не вскрыта); он мог ведь пожелать сделать приятное: из желания удружить на что ни пойдет! «Ничего не было видно такого: ...лицо даже казалось степеннее обыкновенного... глаза... были... ясны; не было в них... дикого огня...; все было прилично и в порядке», — вплоть до шуток с ребенком: «Я тебе привезу барабан... Эдак... будет туррр-ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька». И он «обратился к Манилову ... с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям».
Вторая главка, проводя фикцию сквозь детали, в центре ее ставит точку, которой нет в первой главке, откуда потянется длинная линия: уже не фиктивная сюжетная тема; эта точка — над «i»; она в том, что автор уже на ушко нам вшепнул: все показанное — отвод глаз.
Мысль автора явлена устами Манилова:
«— Может быть, здесь... в этом вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое!»
Останавливаюсь на ощупи приема первых двух главок, чтобы
87
не докучать читателю ощупью приема... целых одиннадцати; фигура фикции — ось каждой из них. Об этой фигуре, как об одном из слоговых ходов Гоголя, будет сказано в четвертой главе; и показано употребление словечек, подобных «в некотором роде», «так сказать», — в «Н», в «Ш» и в других повестях Гоголя; в «МД» они поданы, как прием, строящий главную стилевую ось.
Ниже увидим, что наиболее частые цвета первого тома «МД» — белый, черный, серый, желтый; и сильно повышен процент голубого; цвета серый, желтый и голубой редки в произведениях первой фазы; расцветка «МД» имманентна приему, который строит фиктивное «что-то», как бы равное «все+ничто»; «все» отражаемо цветописью, как световой, белый луч; «ничто» — как тьма (черное); смесь черного с белым, серое — сопровождает фиктивное равновесие образов «МД» (их псевдонатурализм): серые деревни, серенькие обои, серый денек и т. д.; желтое, сине-голубое в теории цветов Гете играют роль: желтое — непрозрачная среда (тьма) на свете, или просвет «все» сквозь «ничто»: голубое — свет на тьме, иль «ничто» сквозь «все».
Но категории Гоголя «ничто», «все», с производными («в некотором роде», «вроде как», «что-то» и т. д.), — положены в «МД», как сюжет; цветопись «МД» имманентна сюжету: все — белое; ничто — черное; ни то, ни се — серое; нечто, в некотором роде, так сказать и т. д. строят градации желтоватых и буроватых оттенков; а выражения, подобные «не без», развивают серо-голубую оттеночность цвета обоев комнаты Манилова.
Спектр первого тома «МД» есть мощное средство оконкретить сюжет; поэтому краскам Гоголя и ниже отведено много места в главе об изобразительности. «Все» и «ничто» в неопределенности их взаимоограничений не гиперболы только, но и способы промыслить, и дидактически тенденцировать. То, что губит второй том «МД», в первом томе пока — мощное художественное воздействие, потому что оно отпечатано 1) в слоге, 2) в изобразительности, 3) в самой фабуле.
ЧИЧИКОВ
Круг — равновесие; но есть две круглоты: — всеохватность: Платон Каратаев; круглота замкнутости в себе: Чичиков; ему предшествует колесо (спицы стерты движеньем) при надписи: «Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям».
«Ни стар, ни молод»: «приличных средних лет»; «не красавец, но и не урод; ни слишком толст, ни слишком тонок;» Наполеон — тоже: «нельзя сказать, чтобы толст, однакож и не так тонок»; Чичиков кланялся «в сопровожденьи неясных звуков, отчасти похожих на французский»; «неясно отзывался насчет собственного лица»; «Однакож фамилии вашей, имени и отчества до сих пор не знаю...» — «Должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями?..» — «Все же, однакож...» — «Павел Иванович, ваше превосходительство...»; припомнили, что
88
«еще не знают, кто такое на самом деле есть Чичиков»; «однакож Чичиков что-нибудь да должен быть»; говорил «какими-то общими местами», «ни громко, ни тихо, а совершенно, как следует»; касался «вообще всего русского государства» и «отзывался с большой похвалой об его пространстве».
Из неясности вылупляется круглота, «полнота и средние лета»; «полное лицо»: «вроде мордашки и каплунчика»; «круглота корпуса», «полный живот», «подбородок: совсем круглый»; такие же круглые полные щеки; уравновешенность сказывалась в тяжеловатости: «был тяжеленек», «тяжеловат»; «животик... барабан»; при свершении антраша «вздрогнул комод и шлепнулась на землю банка с одеколоном», «задрожал комод и упала... щетка»; его бросает в испарину: «весь в поту», «выступил... на лбу пот».
Круглоте ответствуют приятные, опрятные свойства: «наружность... благонамеренна»; «куда ни повороти,... порядочный человек»; «с детства ласковый, бережливый, ничего буйного — шелк» (МД, 2); никогда не позволяет себе неблагопристойного слова; «в приемах... что-то солидное»; «все... умел облекать какого-то постепенностью»; «раскланивался направо и налево» и говорил, что «почтет за священный долг» «засвидетельствовать почтение»; и — «чем скорее... тем лучше»; «обворожил петербургскую даму»; делался необходим; «умел польстить каждому»; в вопросах — «основательность»: ронял слова «с весом»; генерал смеялся на «ха», а он «смеялся на... хе»; даже когда-то отклонил взятку; «выражение..., оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно»; «человек... щекотливый и... привередливый»; «подносил... табакерку, на дне которой... фиалки»; любил одеколон; клал в нос гвоздичку; с прически его несся «ток сладкого дыханья»; он часто менял белье; вытирался мокрой губкой; «долго тер мылом... щеки, подперши их... языком», и взявши «с плеча... полотенце, вытер..., начав из-за ушей... и фыркнув... два раза»; у него «белоснежная щека»: «настоящий атлас»; «белые воротнички давали тон» ей; словом: «необыкновенно приятной наружности»; нога же обута «в щегольской лаковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговицы»; «синий галстук... новомодные манишки..., бархатный жилет»; «серебряная с финифтью табакерка»; «фрак брусничного цвета с искрой»; «перегиб, как у камергера...: деликатность такая».
«Художник, бери кисть и пиши» (МД, 2).
Ярок и многогранен образ Чичикова; ярок он и в приведенном сложеньи цитат, обрисовывающих одну грань; яркость в рисовке безличия; как губернатор, не то почтенный, не то прохвост, — ни толст, ни тонок; Наполеон тоже: ни толст, ни тонок; где лицо Чичикова? Где-то меж толстыми и тонкими вообще, губернатором, Наполеоном, тем, кто хватает, и тем, кто хватаем; Чичиков — приятное и опрятное общее место, которое вне потомков — волдырь на воде; красочны: ларчик красного дерева, фрак брусничного цвета с искрой (красная люлька, красный жупан).
89
Фрак внушает восторг: от трактирного слуги до губернатора: «Губернатор о нем изъяснялся, что он благонамеренный человек; прокурор, что он — дельный человек; жандармский полковник..., что он — ученый человек; председатель палаты, что... почтенный человек; полицмейстер, что... любезный человек»; кто-то утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии; даже Собакевич о нем отозвался, что — «преприятный»; дамы находили «величественное выражение в лице его» и посылали ему анонимные письма: «нет, я должна к тебе писать»; губернаторша говорила с ним «ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиваньем головы»; мужчины ж кидались к нему: «Ах, боже мой, Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда,... моего дорогого Павла Ивановича!»; Манилов поддерживал его и не хотел «допустить никак Павла Ивановича зашибить ножки»; тот сошел с лестницы, поддерживаемый под руку и «таща на плечах медведи, крытые сукном»; «появление его на бале произвело необыкновенное действие»; «все, что ни было, обратилось к нему навстречу»; «дамы... обступили... блистающего гирляндою»; «одна дышала розами, от другой несло... фиалками...; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал»; губернатор, стоявший с болонкой в одной руке и с конфетным билетом в другой, «увидя его, бросил на пол и билет, и болонку»: так Чичиков стал губернатором; Наполеон ведь «ростом... не... выше Чичикова»; если Чичиков «станет боком, очень сдает на... Наполеона»; у него «наполеоновский нос»; он, по слухам, — убежавший Наполеон.
Не странно, что общество, бичуемое Гоголем, нашло в нем величие; странно, что с ним согласны Муразов и Костанжогло — лица, описанные всерьез: Костанжогло твердит ему: «К вам потекут... реки золота»; Муразов: «У вас... сила, которой нет у других»; и еще: «назначение ваше быть великим...» Автор согласен: «В... его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека... И еще тайна, почему сей образ предстал».
Признание Гоголя, Муразова, Костанжогло за Чичиковым тайной силы утверждает Манилов, видящий в словах Чичикова тайный смысл; но перед нами доселе не личность, а красный фрак: с искрой.
Сила — в личности, присевшей на корточки за круг лица, как за щит: «Приседал вниз..., высматривал промеж плечей и спин»; «подымался на цыпочки выглядывать».
Первое явление личности — прокол точки носа посередине круга: прорыв круга... чихом: «нос... звучал, как труба»; «фыркнул... в... лицо слуге»; и «выщипнул из носа две волосинки»; прежде прочего, больше прочего оживает звук носа; он — громоподобен; «подчас попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая, когда хватит, покажется, что крякнуло не в оркестре, а в ухе»; точно некий герольд оповещает о пришествии в мир новой
90
силы; «высморкался чрезвычайно громко»; «потянул в... нос, что заставило его громко чихнуть»; «высморкался... так..., как Андрей Иваныч еще и не слыхивал»; ураган хлещет из носа; и глубоко его вдыхание: «подымал нос кверху и нюхал»; «потянувши... воздух на свежий нос поутру»; «потянул... носом воздух»; «по носу дернул... ряд лент»; «высунул вперед нос» и т. д. Нос деятелен в обоих томах; нос — символ личности; Ковалев — у того пропал нос; Чичиков его вырастил и повернул боком (наполеонов профиль); однако: когда выясняется вся неясность личности Чичикова, то обнаруживается, что «и нос у него... самый неприятный нос»; нос — вбок; взгляд — вбок; и ход — боком.
«Вошли... боком»; «вошел боком», садился «наискось»; «отвечал наклонением головы»; «попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу»; «наклонением головы набок... обворожил... даму»; «сказал..., приветливо наклоня голову набок»; «покося... вбок...», «не пропустил ничего»; боковой ход — и показ носа, и личная особенность, странно противоречащая с «почтенностью»: «косой дорогой, больше напрямик»; косая дорога — таков сюрприз, высунутый носом из середины пустого круга; оттуда — ураган чихов и сила вынюхов: нюх — наблюдательное себе-на-уме присевшего за безличие: «приседал вниз..., высматривая».
С первой же главы нос Чичикова впалзывает, как змея, в фабулу: «делал не вовсе пустые вопросы, ... с точностью расспросил... обо всех помещиках..., не было ли каких лихорадок, оспы и тому подобного»; интерес к эпидемиям тут же покрыт: «имел что-то солидное»; далее — осмотр города, визиты, двухчасовые сборы на вечер, намеки, обследование афиши, упрятанной в ларчик («и птичьи перья тоже покупает»); Чичиков — музей памяти: «рассказывал множество... вещей, которые... случалось ему произносить... у Софрония Ивановича..., Федора Федоровича..., Фрола Васильевича... в Пензенской губернии...; в Вятской... у Петра Варсонофьича, где была сестра невестки... со... сводными сестрами»; опыт губерний тайно хранился в ларчике; фикция обстания в нем — примельк хорошо изученного, ибо «внимание... заняли помещики Манилов и Собакевич... Осведомился о них, отозвавши... в сторону председателя» между вистом («черви!.. Пикенция!.. Пикендрас!..») и беседой «о лошадином заводе... собаках... бильярдной игре... выделке... вина». Личность с вынюхом — юркает в сторону, вбок и вскользь от приятно-опрятного общего места («из букв... выходит... слово» для Софрония Ивановича, Федора Федоровича, Фрола Васильевича... со сводными сестрами).
Так с первой же главки внимательный разгляд должен установить яркую, кричащую краской (брусничный цвет с искрой) точку, поставленную посредине пустого круга, который есть фикция; точка — кончик длинного завитка, выползающего, как змея: этот червь, растущий в чудовище, — таимая личность; «мордашка» же, «мамочка» — Чичиков — кокон. .
91
Биография Чичикова скрыта до конца первого тома; вылезание червя подано под фиговым листиком общего места; оно-то и есть — боковой ход: вскользь и на̀ сторону; во второй главке, и дверь пройдя боком, и далее, пройдя «боком в столовую», поговорив о вещах, «неизъяснимых... для... ума», — «неизвестно отчего оглянулся назад» (Манилов — за ним); и спросил: «Как... много у вас умерло крестьян?»
С второй главки ось внимания — холеры да оспы: тайная сила Чичикова припахивает катастрофой: «Неизвестно, отчего... предстал» образ, который «повергнет в прах человека».
Таимая Чичиковым, его влекущая страсть — фрак красного цвета с мерцающей в тень искрой, которую скоро увидит Коробочка, отчего и воспримет образ его, как разбойника на дорогах («колдун показался снова!»); из-под круглости прыскает искра на протяжении всей поэмы, вычерчивая очень жуткие верткости; точно вспых, и — утай: «оказал необычайную деятельность»; «покося... глазом вбок, ...не пропустил ничего»; «подымался на цыпочки выглядывать...»; приседал вниз..., высматривая промеж... спин»; жест из-под фикции: «принялся за одевание живо и споро, ...чуть не выпрыгнул из панталон»; «соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью»; «сказал..., поклонившись с ловкостью почти военного человека и отпрыгнувши назад с легкостью»; «совершил легкий прыжок вроде антраша»: «подходил... дробным... шагом, или, как говорят, семенил ножками..., посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, ... подшаркнул... ножкой в виде коротенького хвостика наподобие запятой»; в этом жесте прокол точки стал запятой; зигзаг носа — хвостиком; хвостиком — личность; у Манилова, обделав дельце, как... ни был степенен..., чуть не произвел... скачок но образу козла... так..., что лопнула... материя кресла; но в глазах «не было дикого... огня» (был таки); «подмигнул» себе самому «бровью и губами»; «начал подпрыгивать и потирать себе руки, и подмигивать себе самому»; «в одной короткой рубашке, позабыв... степенность и приличные средние лета, произвел в комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткою»; «посвистывал..., приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе».
Боковой ход с подскоком разорван теперь уже в брыки и скоки козла; круглота Чичикова — как фокус «всего, что ни есть», включая Наполеона: здесь все он — для всех; в зигзаге ж — бросает на все свою тень, — тень «ничто» не ничто: «все в себе»; «все пошло, как кривое колесо»; «тень со светом перемешалась... самые предметы перемешались тоже... усы... казались на лбу..., а носа... не было...» — в восприятии Чичикова; тут же и «бричка... опустилась в яму», т. е. в начало провала, дна которого никто не выдал»; тут провал круга в нем — провал класса в нем (дворянин), подобный провалу рода в колдуне из «СМ».
Провал Чичикова подготовляется Гоголем с выезда его от Манилова; над Чичиковым собирается гроза: «небо было обложено
92
тучами... Громовой удар раздался ближе»; дождь, «принявши косое направление, хлестал в одну сторону..., потом — в другую... Пыль замесилась в грязь»; Селифан «покосил бричку... поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее... набок»; «Чичиков руками и ногами шлепнулся в грязь.. ., барахтался в грязи, силясь оттуда вылезти»; «темнота была такая — хоть глаз выколи»; «бричка ударилась оглоблями в забор... решительно уже некуда было ехать... свет... досягнул туманной струею до забора»; Коробочка, встретив Чичикова, замечает: «У тебя-то, как у борова,... бок в грязи»; боров в первой творческой фазе — нечистый; «брат Копрян», оборотень, — тоже боров; а бок в грязи — значит: боковой ход Чичикова — грязь; но грязь неприятна Чичикову; он же опрятен: «стал чувствовать себя неладно..., как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил... в грязную, вонючую лужу...»; перед домом Коробочки «видна была лужа, на которую прямо ударял свет».
С этого момента начинает в свете луча всплывать прошлое Чичикова: «не то, чтобы украл, но попользовался»; «должности... были грязны»; контрабанду «отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах... не было от него никакого житья»; «даже начальство изъяснялось, что это был чорт, а не человек»: под конец открывается: «вы во всю жизнь не делали не бесчестного дела» (определение через три отрицания: «не делали... не... без...»). И параллельно с провалом в Чичикове «всего для всех» (утирал слезы вдовицы) и с ростом «все для себя» («ничего» для всех) — выблески точно бреда: «Все это не то...» «Не знают, кто такое»; «не делатель ли фальшивых бумажек?» «Не шпион ли?» Околесина, кривое колесо: Ноздрев «понес... околесину, которая... даже, просто, ни на что не имела подобия»; вместо ж брусничного фрака — дым с пламенем (фрак «дыма с пламенем»); это — слухи: появился-де антихрист, скупает души; запятая — живая головка копошащегося червя: «не успеешь оглянуться, как уже вырос... червь»; в сцене топтанья «червя» пятой генерал-губернатора соединены по-новому грязь с величием волочащегося в пыли фрака; верткость со вцепом в пяту: «повалился в ноги... ударился лбом, не выпуская сапог князя, и проехался «фраком» вместе с ногою по полу».
Из серого «ни то, ни се», как усики гусеницы, прокололись две силы, рвущие круг; «ни то», «ни се», — фикция: и то, и се; и все, и ничто; но — фикция «все»; «ничто» — тоже фикция; князь пятою не дотоптал; в тюрьме уже происходит диалог:
«— Павел Иванович, что вы наделали!»
«— Не знал меры... Преступил, преступил!. . Три раза сызнова начинал... Копейку... доставал... с железной неутомимостью».
«— Ах, Павел Иванович!.. Какой бы из вас был человек!.. Назначение ваше — быть великим..» Царство нудится... у вас есть эта сила, которой нет у других... Вам ли не одолеть?»
«Слова вонзились в... душу Чичикова... Что-то крепкое...
93
блеснуло в глазах... Природа его потряслась... Жар огня — белеет... и превращается в жидкость... Природа его... стала слышать...» Муразов вымаливает Чичикова у генерал-губернатора: «Я привез вам свободу»; Чичиков опять исчезает, а генерал-губернатор оповещает: «пришло время нам спасать нашу землю... от нас самих», от «червя», в нас сидящего.
Чичиков — червоносец; он — страхи и ужасы России; но Гоголь его обещает спасти; пока что: генерал-губернатор спасает Россию от... ускользнувшего второго Наполеона — Чичикова!
За Наполеоном вылезла мировая опасность, которой явился предтечею он; ее описал Бальзак в виде капиталистической спекуляции, охватившей Францию.
Как Гоголь определяет Чичикова? «Справедливей всего назвать его хозяин, приобретатель» («и птичьи перья... покупает..., и протопопшу надул»). Неужели величие повергателя человечества в прах — только «ларчик красного дерева»? «Шкатулка, Афанасий Васильич, шкатулка! Ведь там все имущество. По́том приобретал».
Вопрос повис в воздухе.
Ниже я докажу: прием подачи сюжета, фигура фикции, ответствует цветописи первого тома «МД»; с второй главки введен и второй прием, почти неприметно; выясниваясь из фикции, как из тумана рельеф, он становится второю слоговою темою.
Это — прием обрыва.
О нем будет упомянуто в главе о слоге; и будут приведены примеры фигуры обрыва; описание Чичикова, как гладкого круга, дано в красках фикции; но круг разрывается: одна половина Чичикова шествует от победы к победе; другая, выкупавшись в грязи, переживает разгром: «ни то, ни се»; разорвавшись на «все» и «ничто», щербит текст: фигурой обрыва.
Первый том «МД» — нагромождение друг на друга обрывов: они — и рассужденья автора, и подчерки мелочей, по-иному осмысливающих; фигура фикции усыпляет, стирая контраст; обрыв — будит, контраст подчеркивая; если белое, серое, черное, с производными (голубоватым и желтоватым) — цвета фикции, то красное и зеленое, выявляющие контраст, — цвета фигуры обрыва: фрак брусничного цвета с искрой на зеленых полях.
Обрыв фигурирует с второй главки; она — обрыв на обрыве; она открыта намереньем Чичикова посетить помещиков; следует — обрыв, вздергивающий вниманье: «об этом читатель узнает постепенно»; и — сборы, которые вновь оборваны характеристикою Петрушки; но и эту характеристику обрывает внимание к отвращению Чичикова перед запахом; читатель думает, что запах — в сторону от сюжета; между тем: Петрушка наружу выявил вонь Чичикова; причина визитов — желание морально навонять; далее — возврат к фабуле (с рядом отвлечений) до встречи с Маниловым, после чего — новый обрыв: длинная характеристика и т. д.
Любая главка — куча лоскутов, пестро раскрашенных и на живую нитку лишь сшитых фигурой обрыва; фикция, как дорожная
94
пыль, осеряет яркие, противоречивые пятна в «ни то, ни се», серо-голубоватых, серо-буроватых и серо-беловатых тонов; но глаз, привыкший к налету фикции, уже ясно видит сквозь фикцию равновесия рельефы контраста; вдруг буря, хлестнувшая из ноздрей Чичикова, сметает фикцию, точно пыль, со всего: «как вихорь, взметнулся, дотоле, казалось, дремавший город... В губернию назначен был новый генерал-губернатор ... Все отыскали в себе ... грехи, каких... не было». Под фикцией же «они... были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались друг с другом по-приятельски, и беседы их носили печать... простодушия и короткости»; вихрь сметнул фикцию: «в гостиных заторчал кто-то длинный-длинный... показались неведомые линейки.... образовались... противоположные партии»: за увод мертвых душ и за увоз губернаторской дочки.
Чих Чичикова розорвал город («ни то, ни се»): «все» иль «ничто» (Наполеон, фальшивомонетчик)? Чичиков — порождение сквозняков ветра, дующего, по Гоголю, сразу с четырех сторон (Ш); лучше сказать: в четыре стороны; развиваясь в спираль к периферии провинций, ветер стал ураганом, взметнувшим Россию: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа... Летит мимо все, что ни есть на земле...» И — «смотри, смотри: вон Чичиков, Чичиков пошел». На этой загадке «пошел Чичиков» обрывается первый том.
Чичиков приколот к Наполеону, выразителю господства сословия, передовой фалангой которого оказались приобретатели-спекулянты; Чичиков вынесся во второй том из первого: получить науку жизни у безродного Костанжогло, имеющего миссию: оборвать в провал ту Россию, которую хотел спасать Гоголь; Гоголь не понял для него страшной динамики капиталистического процесса, сметающего помещиков, пролетаризирующего крестьян, перерождающего его генерал-губернатора в куклу, которую за ниточку дергают: Костонжогло и миллионщик Муразов. Гоголь ощупал лишь в Чичикове голодного червя-солитера, метающегося и туда и сюда (между «все» и «ничто») со своей страшной тройкой в поисках за его ожидающим «колдуном», способным научить выгону деньги из рыбьих чешуй.
Фигура обрыва — великолепнейший слоговой рельеф Чичикова-червоносца, как фигура фикции — великолепнейшее оформление чичиковского приятно-опрятного кокона; умение сочетать обе фигуры в прием — чудо мастерства.
СЮЖЕТ В ДЕТАЛЯХ
Образ Чичикова централен; к нему стянуты и сюжетные линии, и лица, и вещи; обстание его не случайно; в «МД», как в «СМ», — поражает нас символизм мелочей.
Чичиков — хозяин-приобретатель, вышедший в прохожего молодца, от которого вели родословную многие тузы нашей недавней
95
промышленности; дед, ограбивши на дороге, замаливал грех пудовыми свечами; сын его закидывал Азию дешевыми ситцами; внук, выродок, — попадал в министры Временного правительства; Чичиков мог бы при случае подсыпать и ядцу; его тень, вытянутая молвой, заразбоила на дорогах; его цель — стать крупным собственником; недаром он «с большой похвалой» отзывается об обширном пространстве России, которого половина уже в лапах Муразова (МД, 2), усыновившего Чичикова; «что у вас за страсть... защищать мерзавцев?» — говорит Муразову генерал-губернатор.
Собственность Чичикова пока — тройка: каурый, гнедой и чубарый; последний — «сильно лукав»; и к нему обращается Селифан: «Панталонник немецкий... куда... ползет!.. Бонапарт... Думаешь, что скроешь свое поведение... Вот барина нашего всякий уважает». Селифан, начав с обращенья к коню, переходит на Чичикова: «Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относящихся к нему»; странный ход: от лукавства коня к барину; в это же время: «сильный удар грома»; чубарый ворует корм у коней: «Эх, ты, подлец!» — укоряет его Селифан; конь, как и Чичиков, «сильно не в духе» после встрепки барина Ноздревым; когда же бричка сшиблась с экипажем губернаторской дочки, зацепившись постромками, чубарому это понравилось: «он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами»; и пока Чичиков плотолюбиво мечтал о поразившей его блондинке («славная бабенка»), чубарый снюхался с ее конем и «нашептывал ему в ухо чепуху страшную»..., но «несколько тычков чубарому... в морду заставили его попятиться»; как впоследствии судьба заставила попятиться Чичикова от нескольких тычков в морду носком генерал-губернаторского сапога.
Свойства чубарого выявились в роковую минуту — бегства из города; бежать же нельзя: «Надо... лошадей ковать». Чичиков в ярости: «На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник?» Селифан: «Чубарого коня... хоть бы продать, ...он, Павел Иванович, совсем подлец... Только на вид казистый, а на деле ... лукавый конь...» Чичиков обрывает: — «Дурак... Пустился в рассуждения...»
«Бонапарт» и «панталонник» немецкий», Чубарый грозит ходу тройки; есть какая-то двусмыслица в фразе: «Он, Павел Иванович, совсем подлец»; можно ведь прочесть: «он» (кто?) «Павел Иванович» (Чичиков?) — подлец.
Свойства чубарого сливаются со свойствами барина, который тоже — подлец, «панталонник» и «Бонапарт».
Тройка коней, мчащих Чичикова по России, — предпринимательские способности Чичикова; одна из них — не везет, куда нужно, отчего ход тройки — боковой ход, поднимающий околесину («все пошло, как кривое колесо»); с тщательностью перечислены недолжные повороты на пути к Ноздреву, к Коробочке; после них с трудом выбирается тройка на прямую столбовую дорогу; железное упорство, связанное с кривой дорогой и умиляющее Муразова, —
96
пока что единственная собственность Чичикова: оно — динамика изворотов в подходе к недвижимому имуществу; Чичиков едет вбок: детали бокового троечного бега — лишняя деталь эмблемы кривого пути: «Проедешь..., так вот тебе направо»; «не мог припомнить, два или три поворота проехал»; поворотил «на... перекрестную дорогу..., мало помышляя..., куда приведет дорога...»; «своротили с дороги и... тащились по избороненному полю»; «начал поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее... набок»; «как добраться до большой дороги?» — «Рассказать... мудрено, поворотов много»; «дороги расползлись, как ... раки»; от Собакевича Чичиков «велел..., поворотивши к... избам» ...чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны»; «бричка ... поворотила в... пустынные улицы»; «аллея лип своротила направо, ...превратясь в улицу тополей»; «в воротах показались кони..., как лепят их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посередине»; когда же «экипаж изворотился», «оказалось, что... он ничто другое, как... бричка»; наконец: «при повороте... бричка должна была остановиться, потому что проходила похоронная процессия»; хоронили прокурора, умершего со страху от кривых поворотов Чичикова.
Соедините боковые подъезды тройки с боковым ходом Чичикова и дорожными незадачами (не туда попал), и вы удивитесь цельности приема: ехал в Заманиловку, попал — в Маниловку; ехал к Собакевичу, попал к Коробочке; от Коробочки — к Собакевичу вновь не попал, а к трактиру и к Ноздреву; от Ноздрева сцепился с экипажем губернаторской дочки, из-за которой позднее поднялся скандал (де хотел увезти); бричка ломается, когда надо на ней улепетывать; та ж околесина во втором томе: ехал к Кошкареву, попал — к Петуху, и т. д.
Кривой путь упирается в тюремные стены, внутри которых, по Гоголю, осветил-таки, пусть наполовину, луч совести; эмблема конца дана уж вначале: «темнота..., — хоть глаз выколи»; но сама судьба решилась... сжалиться... бричка ударилась... в забор..., ...некуда было ехать» (перед этим — был гром и плюханье в грязь); «свет... досягнул туманной струею», осветив наполовину домик Коробочки: «видна была... лужа..., на которую прямо ударял... свет» (гл. 3-я).
В эту лужу ухнуло предприятие Чичикова: после грома над ним; из тюрьмы кривыми путями — «уже некуда было ехать»; но свет совести до Чичикова досягнул, хотя и туманной струей, озарив половину души, — после разговора с Муразовым: «Какие-то... дотоле... незнаемые чувства... пришли к нему, как будто хотело в нем что-то пробудиться...»: «буду трудиться, буду работать, чтобы иметь доброе влияние и на других», — говорит он себе; «природа его... стала слышать... какой-то долг»; осветилась одна половина души; другая — не осветилась; «одностворчатая дверь... нечистого чулана отворилась» опять: вошел Самосвитов, с путаницей все того же кривого пути, после чего князь говорит: «Скажите этому Чичикову,
97
чтобы он убирался отсюда как можно скорей»; Чичиков уезжает развалиной: старое кончилось, а «новое еще не начиналось».
В свете последних сцен гром, купанье в грязи, удар в забор, лужа и ее освещающий свет, — все неспроста; в доме Коробочки и обнаруживается второе дно заветного ларчика.
Он вносится в номер гостиницы, являясь вслед за колесом; и заслоняет лицо героя: «Пока приезжий господин осматривал комнату, внесены были его пожитки»; «вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева, с штучными выкладками из корельской березы» (гл. 1-я); он — и во втором томе: «тотчас же... разместились: шкатулка, банка с одеколоном» и т. д. (II т., гл. 1-я); о нем вопит Чичиков: «Шкатулка, Афанасий Васильевич, шкатулка!»
Шкатулка — и символ, и реальный предмет; она — план приобретения, таимый в футляре души, вскрываемом без свидетелей; во второй главке — намек на таимое; в третьей — само таимое: грязь под лоском наряда и под «штучными выкладками из корельской березы» разбойничий план; Чичиков из-под грома, весь вымазанный, подъезжает к Коробочке, с которою он, по Гоголю, «вовсе не церемонился»: «Страм, матушка!.. Эк... хватили... Пропади и околей со всей вашей деревней!..» — «С нами крестная сила! Какие... страсти говоришь!»... Коробочке кажется: неспроста ей снился нечистый: «Рога-то длиннее бычачьих...» Позднее она, «перепуганная и бледная, как смерть», рассказывала, как «в глухую полночь» Чичиков-де, «вооруженный с ног до головы», требовал у нее мертвых душ и кричал: «Они не мертвые...»; Коробочка инстинктом разгадала тайну ларчика Чичикова.
Встал миф о разбойнике.
«Эк, уморила, проклятая старуха!» «Все, что ни было на нем, ... от рубашки до чулок было мокро»; лужа-то осветилась перед домом; Чичикову казалось, «будто... вычищенным сапогом вступил в грязную... лужу»; над Чичиковым поднята тема грязи; перемазанный грязью и мокрый, вступил в дом Коробочки, где выявил грубость; и мокрый от поту, открыл он «коробочку» с таимою собственностью; «автор уверен, что есть... любопытные, которые пожелают узнать план и внутреннее расположенье шкатулки», а не только «штучных выкладок» напоказ: сверху — наружный обиход; посредине мыльница, бритвы (приятная опрятность); вокруг перегородки с «билетами визитными, похоронными, театральными, которые складывались на память», («рассказывал множество... вещей»; а Манилов заметил: «в... вами выраженном изъяснении скрыто другое»); «верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист» для свершения крепостей (хозяин-приобретатель); Манилова охватило сомнение: «Не будет ли ... негоция... не соответствующей... дальнейшим видам России...» Чичиков ответил: «Будет хорошо». И — провел; Коробочку — не провел; Коробочка — накрыла с поличным, войдя неожиданно в комнату, когда было вынуто фальшивое
98
дно: она уставилась на бумагу: «Ахти сколько ... хоть бы листок подарил!.. Случится... в суд подать...» Выпросила.
Будущий приезд в город Коробочки — донос и начало суда над Чичиковым: в пересудах, могущих окончиться настоящим судом; бумагу Коробочка выпросила — «в суд подать», после чего Чичиков бежал из города.
«Коробочка» Чичикова у Коробочки вскрыла тайное дно, о котором Коробочка раззвонила; кроме второго дна был еще «потайной ящик..., выдвигавшийся... сбоку... Он... поспешно выдвигался и задвигался... хозяином»; ларчик — провал, дна которого никто не видал.
Раскрытие ларчика у Коробочки — раскрытие бокового хода, как кривого пути.
Перед домом Коробочки Чичиков сбился с пути, оказавшись в глуши, под ударами грома; выкупался в грязи; и был едва не избит Ноздревым.
«Время темное, нехорошее время», — говорит Селифан; Коробочка Чичикова встречает словами: «Гром-то какой — у меня... свеча перед образом». Тут же: «Эх..., у тебя-то... бок в грязи; где изволил засалиться?» Чичиков отвечает: «Только засалился; нужно благодарить, что не отломал боков»; через день Ноздрев захотел бока отломать: «уже стул... был вырван...»; но судьбам «было угодно спасти бока» Чичикова.
«Свиного сала не покупаете?» — спросила Коробочка, следуя за ним по пятам; она дает Чичикову в путеводительницы девчонку, у которой босые ноги «можно было принять за сапоги; так они были облеплены ... грязью»; и далее: она следует по пятам; и появляется в городе; от усадьбы ее всюду — грязь, грязь и грязь; «колеса брички... сделались покрытыми ею, как войлоком»; в ней можно было увязить «колесо»; недаром средь проданных Коробочкой душ два имени поразили Чичикова: «Колесо» и «Неуважай-корыто» (свиное).
О «колесе» — ниже.
Пока о грязи.
Грязь и на поле Ноздрева: «брели..., не разбирая, где большая, где меньшая грязь»; и «воротились тоже гадкою дорогою»; Ноздрев ужасно груб с Чичиковым: «что-нибудь затеял?.. Врешь!.. Знаю тебя: большой мошенник...»
Когда ларчик открыт, то не скроешь кривого пути! Чичиков, которому претило «выражение,... оскорбляющее благопристойность», который и нос затыкал гвоздичкою от «неблагопристойного» запаха, — защищает слабо себя, отвечая Ноздреву: «Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще понюхать»; «зловонная дрянь», обнюхиваемая Ноздревым, — Чичиков, потеющий, а вовсе не Чичиков-«мамочка»; становится ясным: Петрушкина вонь — его вонь: «ты, брат, чорт тебя знает, потеешь, что ли? Сходил бы... в баню». Потеет — Чичиков; воняет-то от него; склянка с одеколоном необходима; все без нее озловонит.
99
И рельеф пути по помещикам — спуск без подъемов; дом Манилова — на покатости; от него — спуск к Коробочке с вылетом из брички; перед домом Коробочки — лужа (в яме); от Коробочки до Ноздрева — перелоги спуска; Ноздрев — в низкой местности: «ноги выдавливали воду...; до такой степени место было низко»; наконец: въехав в город, бричка «опустилась как будто в яму, в ворота гостиницы»; путь — спуск: в яму с грязью; наряд Чичикова потускнел; Петрушка «вынес панталоны и фрак брусничного цвета с искрой»; «растопыривши на... вешалку, начал бить хлыстом..., напустивши пыли на весь коридор» (гл. 7-я). От торжественного выезда — к яме, грязи, бегству от кулаков, к порке хлыстом — какой слёт!
Несчастия начались от заезда к Коробочке, когда сбились с пути; Коробочка — рок; ларчик — тоже; как Герман с графиней, сцепились, друг друга пугая, они; она у него взяла листик, а он у нее взял письмо для поверенного, протопопова сына, «которого бы могла уполномочить на свершение крепости»; письмо ж оказалось — уликою; сам протопоп жил при церкви «Николы на Недотычках»; к нему потащилась Коробочка: колымага, «сделавши несколько поворотов...», свернула «в темный переулок»; из темного переулка водили на сделку «не только сына протопопа..., но... и самого протопопа»; протопоп — протопопше; та — «даме приятной во всех отношениях».
«Вообразите, приходит ко мне... протопопша, и что бы вы думали?»
Чичиков сам подготовил удар, дав бумагу «подать в суд». Угрозою встретил Чичикова домик Коробочки: слова ее: «сумятица и вьюга какая!» оборваны «странным шипением, так что гость... испугался: ...как бы вся комната наполнилась змеями»; это — часы; они дважды шипят; после первого шипа — Коробочка удивляется: бок-то в грязи; при пробуждении от мухи, залезшей в ноздрю (он спал голым и неприкрытым), — «часы опять испустили шипение..., в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось; ...лицо показалось ему как будто... знакомо. Он стал припоминать... кто бы это был»; и вспомнивши, что Коробочка, накрылся рубахой, подошел к окну, где увидел разгребавшую кучу сора и только что съевшую цыпленка свинью («бог не выдаст, свинья не съест»), увидел и пугало: шест, на котором «надет был чепец хозяйки».
Встреча с Коробочкой — не к добру: «Сладь с нею! В пот бросила, проклятая старуха». Вспоминается: «Сон... прошел: он сел на кровать... Кто-то... взглянул к нему в окошко, — и тотчас же отошел» («выглянуло... лицо и в ту же минуту спряталось»); «кто-то ходил, тихо шаркая туфлями» («часы опять испустили шипение»); «дверь отворилась, вошла женщина... Герман принял ее за... старую кормилицу» («он стал припоминать... кто это был»). Приведенная цитата из «Пиковой дамы».
Герман запугивает до-смерти старуху; по словам Коробочки:
100
с оружьем в руках Чичиков требовал от нее мертвых душ; сдалась, дав письмо к протопопову сыну (три карты); письмо — подвело. «Дама ваша бита», — говорит Чекалинский Герману; «ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась...»
«Старуха!» — закричал он в ужасе» («Пиковая дама»). «Проклятая старуха!» — восклицает Чичиков.
Коробочка, как привидение, потащилась за Чичиковым.
«Туз выиграл», — сказал Герман («Пиковая дама»); Чичиков тоже прослыл тузом: «пронеслись слухи об его миллионстве»; город стал на колени перед ним: «Женим, женим... Будет... невеста... Все будет, все, что хотите!.. У Павла Ивановича сердчишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено» (гл. 7-я и 8-я; сердечная «дама» — дочка губернатора: «Остановился, как будто оглушенный ударом... Не мог произнести ни слова»; ему казалось, что «он позабыл что-то... видно, и Чичиковы на несколько минут обращаются в поэтов».
Дон-кихотство Чичикова сперва не показано; он боится, «чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков», потому что без них «пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа»; он «заботился... о потомках»; его «знобило желание оставить потомков»; для того и «хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина». Жажда иметь потомков растет из фигуры фикции («ни то ни се» в Чичикове). Но вот фикция равновесия разрывается меж «все» и «ничто», меж поэзией жизни и грязью.
Петрушка, носитель чичиковской вони, не интересуется бабами; кучер же Селифан — поэт: завел роман в городе; в усадьбе Тентетникова «у Селифана была... приманка... Породистые... девки... заставляли его... стоять вороной...: все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой... Не знал и сам..., что с ним делалось» (МД, 2); Селифан, правая пристяжная, — олицетворенье поэзии в Чичикове; Петрушка, левая пристяжная, — грязь в Чичикове: тройка своего рода!
Когда тройка Чичикова сцепилась с тройкою блондинки, Чичиков сквозь грязь помыслов, взволновавшись блондинкою, думает: «Славная бабешка!.. Из нее... может выйти и дрянь, — и выйдет дрянь!..»
Тройки расцепились; блондинка унеслась в город; Чичиков — к Собакевичу.
На балу, в миг апофеоза, вновь они встретились; и тут оказалась «прекрасною дамой» она. «Смешался... не мог произнести... слова... Сделался чуждым всему». Вспоминал что-то.
Забыл жизнь живую в погоне за мертвой; она же наперерез всему вдруг мелькнула ему.
В крови горит огонь желанья.
Душа тобой потрясена.
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Он потянулся к жизни.
«Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл... карту»
101
«Дама ваша бита», — сказал... Чекалинский» («Пиковая дама», гл. VI).
В ту минуту, когда Чичиков подсел к блондинке, вдруг — «показался из последней комнаты Ноздрев... Чичиков решился... поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча...; Ноздрев... шел навстречу:
«А, херсонский помещик!.. Много наторговал мертвых?.. Поверите ли, ваше превосходительство... Приезжаю..., говорят, накупил на три миллиона крестьян... Да он торговал... мертвых».
Чичиков «стал чувствовать себя..., будто... вычищенным сапогом вступил в грязную... лужу» (МД, 2, гл. 7-я) (видна была... лужа»; «да у тебя-то... и бок в грязи») (МД, гл. 3-я); за картами все пошло, и как кривое колесо»... два раза сходил... в чужую масть, ...позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся... и хватил сдуру... подвел под обух... пикового короля».
«Ваша дама бита».
«Вместо туза... стояла пиковая дама... Пиковая дама усмехнулась» («Пиковая дама»). «Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись... с какою-то злобною, едкою усмешкою, и в выражении... лиц показалось что-то двусмысленное...» (МД, гл. 8-я); роль «пиковой дамы» сыграна дамой, «приятной во всех отношениях», у которой в глазах — «у, какое!..» На другой день она запорхает с вестью: «Приехала... помещица Коробочка..., бледная как смерть, и рассказывает...»
«Пиковая дама» (за ней все дамы) — от Коробочки: «Необыкновенное сходство поразило Германа».
«Старуха!» — закричал он в ужасе» («Пиковая дама»).
«Проклятая старуха!» — восклицал Чичиков-Герман в третьей главе.
«Да что Коробочка?.. молода и хороша собою?»
— «Ничуть, старуха».
— «Ах, прелести! Так он за старуху принялся» (МД, гл. 8-я).
Блондинку подменили старухой.
Чичиков сбежал с бала.
«Там, в комнате с... выглядывавшими тараканами... смутно было у него на сердце... Перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня... накрылась нагоревшею черною шапкою» (как черные ноги девчонки Коробочки и как слои черной грязи на колесе); «в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего «героя»; «дребезжал... странный экипаж»; «шум и визг железных скобок напугал будочника, который, подняв... алебарду, закричал, что стало мочи»; колымага, «сделавши несколько поворотов, ... поворотила в... переулок мимо... Николы на Недотычках»; недотычки — дичь и глушь, где обитает Коробочка.
Так въехала в город старуха Коробочка.
Дамы сеяли слух об увозе губернаторской дочки; мужчины задумались: «Андроны едут, ...сапоги всмятку! Как вихорь, взметнулся
102
дотоле дремавший город»; мужчины учуяли: в мертвых душах «заключалось скверное»; пришел пророк «в тулупе..., отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист»; зашептали: «Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон; прокурор взял и умер...»
У Чичикова вскочил флюс.
Таков след Коробочки в городе; привиденьем «старухи» из «Пиковой дамы» предстала она перед Чичиковым; изумителен ее экипаж: похож на толстощекий, выпуклый арбуз, поставленный на колеса»; круглый арбуз на колесах — пародия на въезд в город Чичикова, у которого «щеки... выбриты... так», что любовались «выпуклостью круглоты их».
«Доедет или не доедет»? (МД, гл. 1-я).
В Казань (Наказань?) не доедет!
В связи с явленьем Коробочки тотчас же поднят и вопрос о колесе, поднимаемый первою главкой и третьею (приобрел у Коробочки Ивана Колесо); у Собакевича же приобрел душу с прозвищем: «Доезжай-не-доедешь!»
«Вон какое колесо!.. Доедет то колесо... или не доедет?.. (МД, гл. 1-я).
В главке одиннадцатой Чичиков бросается в бегство: спасет — колесо; а оно — не доедет!
«Вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно... перетянуть!..»
— «Зарезать меня хочешь?.. Три недели сидели на месте!.. Хоть бы заикнулся...»
Но «колесо было обтянуто новою шиною»; Чичиков выкатился; похороны прокурора ему преградили дорогу; заработало неутомимо вертящееся неугомонное колесо, которого ось — червь, вгрызшийся в середину круга; «летит все, что ни есть на земле»; «спицы на колесах смешались в один гладкий круг»: «Чичиков, Чичиков пошел»; «ребенок, позабыв... приличие..., побежит... вдогонку, поддразнивая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»
«Все пошло, как кривое колесо».
«Гладким кругом» влетев, вылетело из города колесо, фигура фикции; ширяся, став пространством России, исчезло оно: до второго тома; фабула первого — замкнутый, на оси вертящийся круг, стирающий спицы.
Замечателен склик мелочей и симметрия в расположении их; том делится на три доли: 1) объезд помещиков, 2) апофеоз, 3) развенчание с бегством; есть обратная симметрия в расположеньи угроз: 1) встреча с Коробочкой, учуявшей подоплеку Чичикова; 2) чубук Ноздрева, едва не проехавшийся по спине; для Ноздрева всякий — подлец; и стало быть: подлец Чичиков; 3) Собакевич, понявший Чичикова, так-таки и отрезал: «Вам нужно мертвых душ?.. Знаете ли, ...такого рода покупки... не всегда позволительны, и расскажи я, или кто иной, — такому человеку не будет никакой доверенности». В городе Коробочка, Ноздрев, Собакевич, — каждый по-своему, подводят
103
Чичикова, но — в обратном порядке угроз: сперва Собакевич — спрашивает в неподходящем месте: «Почем купили души у Плюшкина?» Чичиков — отразил; за ним Ноздрев дает публичную оплеуху; и наконец Коробочка производит в городе взрыв.
Посещение помещиков — стадии падения в грязь; поместья — круги дантова ада; владетель каждого — более мертв, чем предыдущий; последний, Плюшкин, — мертвец мертвецов; каждый подан единственно: Манилов — в серо-голубоватых тонах фигуры фикции: «не без» сопровождает его; Коробочка дана впестрядь: на картинах птицы, цветы на часах, ситцевое, вероятно, лоскутное одеяло; кулечки, коробочки, палочки, как... в «коробочке»-ларчике; то же — на дворике: теснота, курятники, мусоры, птица: «бережлива старушка» (МД); под стать Чичикову; он — коллежский советник, а она — коллежская секретарша; чем не пара?
«Ах прелести! Так он за старуху принялся?» (гл. 9-я).
Ноздрев показан в раззоре, в сплошной неуютице («посредине столовой... белили стены...»; обед — «катай-валяй, было бы горячо»); всюду и грязь, и блохи: «пребойкие насекомые кусали больно». Собакевич, медведь, дан — коричнево-бурым, как шерсть медведя (похож на медведя); фрак тоже медвежьего цвета; цвет лица — медный пятак; стены дома же — дикие; все — добротно, но грубо, но косо; «фронтон не пришелся посредине»; вся собственность омедвежена им. Плюшкин, осыпанный пылью, дан пепельно, впестрядь с желтыми и черными пятнами.
Каждому присущи свои цвета и жесты; каждый достоин главки, для которой у меня нет места; и кроме того: характеристике этих типов посвящены — десятки страниц.
Я бы мог на десятках страниц вскрывать фокусы фабулы, вытекающие из двусмыслицы заглавия: «Мертвые души», вполне неопределенного (в каком смысле «души», и в каком — «мертвые»?). Кто мертв? Умершие крестьяне? Владетели их? Кого покупает Чичиков: ревизские души, помещичьи? Последних заставляет за жалкие взятки он плавать в грязи, точно Басаврюк, бряцая фиктивным золотом; он становится «миллионером», которому по уверению Гоголя: открыта чистая, бескорыстная подлость; с другой стороны, от звука золота извивается червь в нем; каламбурно построенными разговорами о не вовсе живых и вовсе не живых душах оплетена ткань сюжета, в котором ничего не осталось от Пушкина.
Анализировать сюжет «МД» — значит: минуя фикцию фабулы, ощупывать мелочи, в себя вобравшие: и фабулу, и сюжет; подойдите к наполненному водой блюдцу, в которое положена губка: где влага? В губке, а не в пустом блюдце. Выжмите губку, — блюдце наполнится. Сюжета вне подробностей в «МД» нет: его надо выжать из них; необходимо исследование контрапункта всех штрихов, слагающих картину первого тома.
Мой пробег по деталям — лишь демонстрация опыта чтения; его задание — показать, как надо читать, чтобы извлечь оттенки; «МД» — оттеночны вне оттенка — лишь голый каркас рассуждений Гоголя
104
о сюжете своем; но рассуждениям этим посвящена «Переписка».
Все же надо сказать о каркасе: о содержании, понятом в отвлеченном смысле.
ТЕНДЕНЦИЯ «МЕРТВЫХ ДУШ»
Неуютен в «МД» быт помещиков; пыль, раззор, ветошь в медвежьих углах; у Манилова кресла не крыты материей; вместо подсвечника — чорт знает что; у Ноздрева в столовой поставлены козлы; у Петуха все в закладе; червь точит хлеба у Тентетникова; у Хлобуева — нечего даже продать; скряга Плюшкин сгноил свою собственность. Всюду раззор натуральных хозяйств.
Толчея в комнатушках Коробочки; точно лавчонка для скупщика: тут — птичьи перья; тут — сало; и Ленин отметил зависимость от мелких хищников некрупных хозяйств той эпохи в «Развитии капитализма в России»; Коробочка — коробейница, ловящая проезжего молодца, объегоривающего бережливую матушку; за шестьдесят верст ей надо тащиться, чтоб цены узнать. Собакевич же зажил спиной к городу, где все мерзавцы; засел, точно в крепости: прочные избы, прочные стены; и у него неуютно; ему предстоит: или от города оторваться совсем, или стать торгашом; перебравшимся в город, возглавить мошенников.
Неблагополучие — фон «МД»; он подобен фону «СМ», живописующему гибель рода; добродушный гопак, оттопотанный авансценою, подчеркнул там мрак фона, где корчится жуткий «мертвец»; в «МД» суть не в роде, не в быте, вполне обусловленном натуральным хозяйством, — в хозяйстве самом, и в хозяйственных отношениях; внимание перенесено с рода на класс, хотя Гоголь, любивший потолковать и о бережливости, не имел никаких представлений о классовой действительности; его рассуждения во втором томе «МД» похожи на бред в желании насильственно выдрать тенденцию, которая у него похожа на усеянный костями судачий хребет; изумительные страницы первого тома уже чередуются с подозрительными рассуждениями о намерениях автора; тщетно тщился десятилетие он дописать второй том; результат: клочья текста, то яркого, то никудышного; мимо них, из них, — прямо нам в рот выдранный из судачьего мяса — костяк «Переписки с друзьями»; второй том на фоне ее (на каком же ином?) — позор Гоголя; первый том воплощает тенденцию в плоть образов; во втором томе она — невпрочет; своими «понятиями» Гоголь задушил ее подлинное содержание.
Постараемся мимо них воспроизвести чувство Гоголя, чтобы стало ясно, какая бездна легла между ними и образами.
Гоголь чувствовал неблагополучие класса; разложение натуральных хозяйств переживал болезненно; сеть их, покрывавшая дореформенную Россию, ему скрыла Россию, подставив не ту Россию; и он говорил: по России нужно «проездиться», мы не знаем России. «Подлецы!» — сказал князь...— «Все мерзавцы!..» «На место выгнанных явятся другие, и те..., которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те..., которые удостоены..., обманут
105
и продадут... Я должен обратить таких... в... бесчувственное орудие правосудия, которое должно упасть на головы... Дело в том,... что гибнет уже земля наша... от нас самих...» Были когда-то честны Бульба да есаул Горобец, защищавший от «ляхов» Украину; в разложении класса Тарас — Довгочхун; Горобец же — Бетрищев, сражавшийся за Россию во время «нашествия двадцати... языков». А вот каламбура ради и он приложил руку к подлогу: «Возьми себе все кладбище! Ха-ха-ха!» Ему говорит Улинька: «Как ты можешь смеяться!.. Бесчестные поступки наводят уныние»; а он терпит вблизи себя и того, кто «выгнал из дома родную сестру» (МД, 2).
Ясно: стали бесчестны и те, «которые... были честны»; «орудие правосудия должно упасть»; в диалектике истории оно упало, — не с той стороны, с какой ожидал Гоголь.
Ощущение гибели второго сословия ярко в «МД».
Кого Гоголь противопоставляет падающей России? Муразова, Костанжогло; генерал-губернатор его — только кукла Муразова: что тот подскажет, то сделает с низким поклоном: «Афанасий Васильевич... Всякое слово бессильно...» Муразов же подсказал «простить мерзавца», которого он сделал «великим»; «позвольте мне вас обнять», — протягивает он мерзавцу объятия.
Генерал-губернатор Россию спасает от Чичикова; Муразов спасает Чичикова: от генерал-губернатора; генерал-губернатор же — с благодарностью кланяется.
Что за чепуха!
Она в том, что Муразов — «спаситель России»; не в том, что он спелся и с Чичиковым, и с генерал-губернатором, которого держит он в лапах вместе с половиной России; две России правильно ощутил Гоголь; одна — гибнет; другая восходит. «Будь у меня государство, я бы сейчас сделал его министром финансов», — говорит о Муразове Костанжогло; образ Муразова смутен; ярок Костанжогло, которого Гоголь противопоставил мертвой России: он — живая душа, выводящая из тупика. Критики говорят: Костанжогло-де, как тип, не удался; он ярко удался: чудовищностью; неудача Гоголя с Костанжогло в том, что яркое чудовище бьет Гоголя наповал, выдавая убогость тенденции.
Костанжогло кулак, Муразов откупщик, — образы «должной» России, противопоставленные классу феодалов, или России, над которой задумался генерал-губернатор («гибнет... страна наша»), которую обругал Костанжогло («ослиное поколение!»); хозяйственная революция должна быть по Гоголю под действием пасс Костанжогло; вонь рыбьих чешуй станет — «солнечный» блеск: «Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег... Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч и взял» (МД, 2); как царь в день торжественного венчания... сиял он весь и, казалось, как бы лучи исходили из... лица» (МД, 2); «его называют колдуном»: «колдун появился снова» — «в чудной чалме своей»: «чудным светом осветилась светлица».
Будущий «министр финансов», Муразов, покажет чудо озолочения куполов: «сбирать нужно на церковь»; бред вмешался в прогноз
106
роли капитализма, который, по Гоголю, спасет-де Россию; от гибнущего и пепельного переднего плана — к фону, воспринимаемому и ужасом, и восторгом («поперечивающее себе» «бесовски-сладкое» чувство отщепенцев Гоголя) — полет русской тройки: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Дадим ответ мы: от Плюшкина к... Костанжогло; такова диалектика образов независимо от четкого сознания, которого в Гоголе нет; в тройку-Россию сел... Чичиков; «летит мимо все, что ни есть на земле» — сказано о России. «У, какая... незнакомая земле даль!.. Русь...» И... — «Держи, дурак!» — кричал Селифану Чичиков»; тут же — и тройка Поприщина: «Спасите меня!.. Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней... и несите меня с этого света». «А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?» Шишка ль под носом, иль шиш, — и под чьим? Неизвестно! Но ясно: есть шишка!
Мамка, что ли, ушибла тенденцию Гоголя?
Осознание ее во втором томе невпрочет; Чичиков два раза улепетывает на тройке.
Куда?
К Костанжогло.
Когда она подъезжает к Тентетникову, то издали выглядит триумфальной; вблизи она — незавидная бричка; вероятно, в конечном подъезде к Муразову произойдет обратное: под пассами «мага» («от тебя, как от... мага, сыплется изобилие» — слова Костанжогло); «ничто иное, как... бричка» очертится колесницею: «кони точь-в-точь, как лепят... на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине». Гарантия тому — убеждение лица, которому Гоголь дал мандат на доверие: «К вам притекут... реки золота!» — слова Костанжогло, давшего Муразову патент на величие: «Есть один, ...которого и подметки я не стою»; и тот подтвердит: «Назначение ваше — быть великим».
Чичиков — будущий Щукин: закидает Персию ситцами, отслюнявив «на Психологический институт» двести тысяч1; в этом — «блага» третьего тома «МД».
Предпринимательские способности Чичикова — угроза мелкопоместным дворянам: «Чичиков, Чичиков пошел»; у дворян крестьяне мрут, в бегах; избы их заколочены; Чичиков скупает и мертвых, и беглых: «А у вас есть и беглые?» Перевод безземельных рабов на имя Чичикова — пролетаризация, связанная с ростом предпринимательских аппетитов: «Та̀к-то вы приобрели»; — «Приобрел...» — «Благое дело».— «Без земли?» — «На вывод...» Поднимаются толки: об уводе крестьян без земли в Новороссию: «русский человек способен ко всему... Хорошего человека не продаст... в две недели изопьются...»; «стали опасаться, чтобы не произошло... бунта между таким беспокойным народом»; гадали, «как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова».
Безземельные Чичикова — пролетарии; в сплетнях — программа
107
роста рабочего движения, взятого сквозь призму небокоптителей; Чичиков раздут в миллионера; самые слухи о миллионах усиливают товарный оборот: материи «пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват»; где миллионы — там рост отпора: «крестьяне сельца Вшивая Спесь, соединясь с другими, «снесли с лица земли... полицию»; в связи с разбором «чичиковского дела» рушится патриархальный уклад: «скандалы, соблазны и все так... сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что... в одной части губернии оказался голод», «в другой... расшевелились раскольники»; «мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников»; «какие-то бродяги пропустили меж ними слухи, что наступает... время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики — и целая волость... отказалась платить подать». Генерал-губернатор воззвал к населению.
Запахло 1905 годом, увиденным смутно; история Чичикова — история капитализма в России; капитан Копейкин — миф о политической революции; в сплетнях же о безземельных крестьянах разыграно будущее пролетариата. Говоря с Гоголем словами Гоголя против Гоголя, имевшего вместо ясных понятий о неизбежном будущем капитализма «сапоги всмятку», — можно сказать: на все «устремлен пронзительный перст»; и на «сапоги всмятку» (министр финансов Муразов золотит церковные купола), и на правду сквозь бредни о Чичикове.
Родовой строй в феодализме жив; жива личность в истоках капитализма; не род здесь типичен: дед убил на дороге; сын — выдулся в миллионщики; внук — уже выродок. Антиномия между родом и личностью разрешаема образами «МД» в пользу личности: «прохожего молодца». Костанжогло «не русский»; он полагал, «что в русском характере дон-кихотство»; «настроит больниц... да и пустит всех по миру»; «не знал, откуда вышли его предки», «не занимался своим родословием, находя, что это... в хозяйстве вещь лишняя»; Костанжогло был первый человек, к которому Чичиков почувствовал личное уважение: «жду, как манны, сладких слов ваших»; «эдакого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать»; умница, унюхав вонь Чичикова, нашел ее для себя приятной, и даже «разогрелся... от разговора, как бы празднуя, что нашел человека...» Обоих роднит: и упорство, и темнота; «темно происхождение нашего героя»; неизвестно, были ли родители «личные или столбовые дворяне»; между вторыми и первыми — бездна; личное дворянство механически выходило: с чином; кто б они ни были, Чичиков вышел «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца»; его бросили в городе: после того как «перед мальчиком блеснули... великолепием улицы», тележка «бултыхнулась... в яму, которою начинался... переулок, ...стремившийся вниз и запруженный грязью».
Яма грязи отделила Чичикова от рода в нем; из «ямы с грязью» карабкался к «великолепиям», ища «прохожего молодца», в кого вышел статью; нашел — Костанжогло.
108
Тут все не случайно.
Его просит он научить «мудрости извлекать доходы верные, приобресть имущество не мечтательное»; у Костанжогло же, «когда... засуха, ...нет засухи; когда неурожай, ...нет неурожая»; он учит: «фабрики заведутся сами собой»; «накопилось шерсти, ...я... начал ткать сукна»; «рыбьи чешуи сбрасывали... я начал... варить клей»; «всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось... выбросков»; «всякая дрянь дает доход» (МД, 2); энергия в Костанжогло развивает текучие комбинаты; амбарное накопление дряней типично для феодальных хозяйств; Костанжогло — новый умник, противопоставленный старому, ставшему Плюшкиным: «какой был умнейший... человек! А теперь...»; глаза его «не потухнули»; к нему некогда заезжали «учиться»; что-то заставило его дать ход: «в назад»; в гнили выявилась инерция феодального строя; во всем отличные, Костанжогло и Плюшкин соединены и живостью глаз, и желчным брюзжаньем; Плюшкин брюзжит, что не может остановить время; Костанжогло, — что не может ускорить его; отсюда и тень «темной ипохондрии»; весь «живой» и с «живым» выражением глаз, он не думает о наряде: «триповый картуз», верблюжьего цвета сюртук; «суровая тень» постоянно мрачит его; «во гневе он плюнул», потому что весь он — кипение «взволнованной желочи»: — «Вот тебе человеколюбие!.. Ослиное поколение!»
Поразил Чичикова «смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени... поседевших» и пылкостью «южного происхождения»; что-то знакомое, жуткое в его обстаньи: нет сада; улица сараев при доме: над домом же фонарь, с башни освещает даль; «скот... на отбор»; свинья глядит «дворянином»; «можно прожить свиньей, как Костанжогло»; «комнаты... пусты: ни фресков, ни картин... ни цветов»; только травы от «лихорадок» («колдун» варил травы); нет даже «книг»; и подавно «музыкой... некогда заниматься»; «погонитесь за видами... останетесь без хлеба и видов»; «смотрите на пользу»; Платонов на это: «много... всякого... А... скучно». Устами Костанжогло мед бы пить: «Видишь..., как... все множится, ...рассказать не могу, что тогда делается... потому что это дело рук твоих... и от тебя, как от мага, сыплется...»; «и лицо его поднялось... морщины исчезнули. Как царь сиял он весь, и... лучи исходили из его лица». Колдовство Костанжогло происходит ночью, «осыпанной звездами, оглашенной соловьями, громкопевно высвистывающими»; т. е. «Чуден Днепр при тикой погоде» (СМ); почти что: «с тихим звоном разливался чудный свет... в светлице блестит месяц, ходят звезды»; «его называют колдуном»; и Чичиков услышал: «К вам потекут... реки золота»; и ему «по золотому ковру... прибытков золотые узоры вышивало... воображение»; не тогда ли осенил его подлог, за который он сел? Платонов не поддается чарам: «Что ни рассказывай... скучно».
Ну, — а правила магии?
«Всякий... три-четыре должности справляет»; «не дам никому залежаться»; «требую с мужиков, как нигде»; «меня называют... скупцом»,
109
«кричат... будто..., пользуясь... разоренным положением, скупаю земли за бесценок»; взял «пук засаленных ассигнаций... — не считая, сунул в задний карман»; ростовщик из «Портрета», Петромихали, тоже ведь «не имел... корысти, какая свойственна... ростовщикам»; давал деньги охотно, распределяя... выгодно сроки платежей», — бродя и поваживая «необыкновенно живыми» глазами средь пепельных людей Коломны так именно, как забродил Костанжогло по страницам второго тома «МД»: «Скупаю земли за бесценок».
Не в ростовщичество ужас Петромихали, а в странной судьбе «тех, которые получали от него деньги: ...они оканчивали... несчастным образом» (П). Чичиков, получив от Костанжогло десять тысяч, сел в тюрьму; из тюрьмы плакался словами его учившего Костанжогло («Как вытерпишь на собственной коже... да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, тогда... не дашь промаха ни в одном предприятии». — «В таком случае... разбогатею» — плакался он Муразову: «Всякая копейка выработана... всеми силами души... Алтынным гвоздем прибита, и эту... копейку доставал... с железной неутомимостью».
Костанжогло дал Чичикову десять тысяч взаймы; за десять тысяч купил ростовщик душу Чарткова, не дав программы действий, ведущих к погибели; Костанжогло дал Чичикову ко спасению завет: «у кого миллионы, ...что ни захватит, так... втрое... Соперников нет», — т. е.: грабь! Чичиков сомневается: «Вначале... не без греха?» Костанжогло же губит: «Тысячи трудно без греха, а миллионы... легко... прямой дорогой ступай, все бери, что ни лежит... Другой не подымет...: нет соперников. Радиус велик». То есть — радиус грабежа. Грех — грабеж с малым радиусом; грабеж с радиусом в десять тысяч раз бо́льшим есть доблесть.
«Маг» преобразил грязь в свет: увеличением подлости; не насмешка ли? Нет, — Гоголь всерьез.
«Это он!.. Колдун показался снова!» (СМ).
СТРАШНАЯ МЕСТЬ | ПОРТРЕТ | МЕРТВЫЕ ДУШИ | ||
Колдун (Копрян): правнук Петро. | Петромихали (грек) | Костанжогло (грек). | ||
Недобрый гость из Венгрии; якшается с иноземцами; никто не знал, откуда он. | «Индеец, грек. персиянии — об этом никто не мог сказать». | Очевидно грек: «пылкого южного происхождения»; «не знал, откуда вышел». | ||
Огненные глаза; страшно и живо ими поваживал. | Страшные, «необыкновенного огня» живые глаза. | Поразил «живым выражением глаз». | ||
«Думаю, что он не без золота и всякого добра». | «Железные сундуки его полны без счету денег»; купил душу за десять тысяч рублей. | «Получает двести тысяч годового дохода»; дал взаймы Чичикову десять тысяч рублей. | ||
Угрюм; на все брюзжит; «морщины чернели» на лице его. | Угрюм; темная краска лица указывала на южное происхождение; смуглое, тощее, запаленное лицо»; «нависнувшие, | Угрюм; «во гневе плюнул... и желчное расположение осенило»; «тень «мрачной ипохондрии»; вдоль лба «собрались морщины»; |
110
| густые брови»; «в лице все тяжелое и гнетущее». | «поразил смуглостью лица, жесткостью черных волос». | ||
Восточный наряд, турецкие шаровары, чудная чалма. | «Ходил в широком азиатском халате». | В платье верблюжьего цвета. | ||
Колдун. | Колдун. | «Его называют «колдуном». | ||
«И опять с чудным звоном осветилась светлица, и опять стоит колдун... в чудной чалме своей»; «блестит месяц, ходят звезды»; «стал... бросать руками неведомые травы». | «Золото... блестело, звенело»; свет месяца озарял комнату»; «сверхъестественной силою... не умрет совершенно». | «Сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили от его лица»: «От тебя, как от мага, сыплется изобилие»; «как пения райской птички, заслушался Чичиков»; заметилась «в тот вечер... ночь... осыпанная звездами, оглашенная соловьями, громкопевно высвистывавшими»; на столах травы; «средство от лихорадки». | ||
Заключен в подземелье, но выюркнул; поздней таки свергнут в провал. | Заключен навеки в рамки портрета, но вечно ускальзывает от кары вместе с портретом. | Уважаем за проповедь неприкрытого грабежа; за него посажен Чичиков; впрочем, выюркнул. |
Читатель воскликнет: да это бред? Очень яркий. К нему чалит Чичиков от косого пути на «прямые» мерзости: маленькая гадость, умноженная на единицу с нолями, равна большой доблести; такова наука капитализма; Стиннес не выскажется с таким откровенным цинизмом. Костанжогло — великолепен и ярок без удержу: «Вот тебе человеколюбие» — «во гневе плюнул он»; и — «желчное расположение сенило его».
Не он неудачен, а... Гоголь в историю влопался, дав его «положительным» типом (недорисована Улинька; Муразов — «во облацех»). «Можно прожить свиньей, как Костанжогло», «свинья выглядела дворянином»; Гоголь же подписал: «Ангел, а не скот».
Костанжогло — начало капитализма, который не в земле, иль в машинах, а в изменении методов ведения хозяйств; нельзя механически расключать производство земельное от фабричного и утверждать, что Костанжогло, ругающий фабрики, не связан с крупными фабрикантами конца века: «Капиталистическое хозяйство не могло сразу возникнуть, барщинное... не могло сразу исчезнуть. Единственно возможной системой хозяйства была... переходная... Отработочная система переходит в капиталистическую и настолько сливается с нею, что становится почти невозможным отделить одну от другой и различить их»1. Привожу эту цитату против тех, которые в хозяйстве Костанжогло не видят начала процесса, соединяющего Костанжогло со Стиннесами; пусть Костанжогло хвалит земляной труд «в поте лица»; он уже — не помещик, а — крупный
111
промышленник: «Уклоняются от признания того простого и ясного факта, что современный строй частновладельческого хозяйства состоит из соединения отработочной и капиталистической системы... Русский капитализм создает... условия... рационализации земледелия»1. Пусть Костанжогло ходит в триповом картузе по своей земле и обманывает себя, Гоголя и теоретиков; он — крутой поворот: от Плюшкина... к... Стиннесу; меж обоими — провал, «дна которого никто не видал»; над провалом к нему от Плюшкина мчит тройка Чичикова; кони, «не тронув копытами земли, превратились в тянутые линии, летящие в воздухе» (МД, 2).
Грабь: «радиус велик!» (МД, 2).
Лик Костанжогло повернут к тому, которого он не стоит подошвы, к «министру финансов», Муразову, облапившему половину России. И просто фантазия изменяет Гоголю, подменяясь... идиотизмом: министр финансов отменяет заповедь на него молящегося Костанжогло, готового давать деньги «всякому на пути к приобретению». «Бросьте... поползновения на... приобретения»; «поселитесь в тихом уголке, поближке к церкви»; «забудьте шумный мир»; «забегите к отцу архимандриту»; в монастыре есть затворник»; «церковь строят, а денег нет».
Что скажет на это «маг» Костанжогло?
Гоголь «понес такую околесину, которая... ни на что не имела подобия» (МД); как Ноздрев, он «продулся» и спрятался за «Переписку с друзьями», уча так вообще «душе»; не до показа величия Чичикова, показанного мерзавцем; «величие» — уверенье Муразова, или фикции с дырой в лице, сгребающей одной рукой миллион, а другой — золотящей церковный купол; из дыры — выглянул затворник, сказав:
— «Чичиков мог бы много сделать добра».
Тенденция Гоголя всеми деталями изобразительности нарисовала и пошлость помещиков, и ужасы капитализма в согласии с Белинским и Чернышевским; абстракцией, вышелушенной из живой ткани образов, подан в рот читателю... колючий судачий костяк; окончание «МД» — ненужное разъятие недр: без «младенца», вышедшего кривыми путями (меж ребер, что ль?) в страницы «Переписки», откуда уродиком пискнул о денежной помощи: «Всего лучше... если бы... помощь производилась через руки священников»; доход-де надо разделить на семь кучек; одна — помощь ближним; коли истратится, — не давать из других, а — выклянчивать у посторонних: завет Костанжогло перенесен в «Переписку»; из «Переписки» же в лицевую дыру Муразова высунут Матвей Ржевский, помощь производящий священник; художество Гоголя, рукою Гоголя, помощь оказывающий священник — сжег.
ЗАДАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Каркас гоголевского сюжета оживает в ощупи красок, жестов и слоговых ходов. Расколота «поперечивающая себе» тенденция Гоголя,
112
как и «бесовски-сладкое» чувство его; образы ее — сладки; мысли — горьки; путаясь в формулах, Гоголь уловил чувством грядущий ужас капитализма, к которому зовет Костанжогло, «живая душа»; художник же наделяет его «философией», от которой, пожалуй, сбежит и мерзавец; противопоставлен гнилому классу «купец» Муразов, отказывающийся от любви к приобретению во имя забегов к «отцу архимандриту» и становящийся золотильщиком куполов по слову затворника, — «деда», ветхого денми и духом, некогда показавшего колдуну книгу с палившимися кровью буквами. Выползает риторика «Веч» про «дивную старину», оправданная там ритмом; здесь она ничем не оправдана; и опять блестят золотые пятна: упавший процент золотого во втором томе «МД» наперекор тенденции спектра опять скачет вверх; но золото здесь — не кафтаны и не оправа оружия: блески церковных крестов.
«Выпыженный» обновитель Муразов — старее объектов своего обновительства; художник в Гоголе реагировал на убогость тенденции Гоголя-резонера тем именно, что отправил его в пятнадцатый век: в келью затворника.
Тенденция в Гоголе раскололась на образный показ ужасов капитализма, и... на всякую дрянь, высказанную Гоголем, миссионером от Дубельта; образы организованы по... Чернышевскому; прописи к ним... — ищите их в «Переписке»1: «Возьмитесь за дело помещика, как следует... Собери... мужиков... объясни ... что помещик ты над ними потому... что родился помещиком...; они..., родясь под властью, должны покоряться... власти... Скажи, что заставляешь... трудиться... не потому, чтобы нужны были тебе деньги... и в доказательство... сожги перед ними ассигнации... Мужик это поймет... Негодяям повели... оказывать уважение добрым мужикам», — т. е. кулакам, — «чтобы... издали... летели... шапки с головы...» Совет бедняку: «Поклонись же ему в ноги... — собакой пропадешь»; «и все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше... В которую деревню заглянула... христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро»2; «имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист... Эгоизм — тоже недурное свойство»3.
Таковы костанжогловские реформы в хозяйстве («грабь, сколько можешь»), от которых в восторге Гоголь, чтобы тотчас с Муразовым залупить вспять от них.
Тенденция третьей фазы — не в образах третьей фазы, а в «Переписке», вне образов; тенденция образов обличительна, наперекор формулам, оседлавшим ее.
Классовое создание Гоголя преодолено ответом на спрос, воспринятый в музыке, в напеве и в песне, в то время как силился он некультурным рассудком, форсируемым «друзьями» из губернаторов (бегал от них и икал им в носы), осознать социальный заказ...
113
Николая Первого, которому подавал же записку (с Ивановым вместе).
Спрос шел от Белинских; заказ — от Дубельта; тенденция, расколотая меж заказом и спросом в усилиях выклепать ее, точно гвоздь из бревна, стала... «сапогами всмятку».
Характерно, что Чернышевский не испугался гоголевского слова: «Русь!.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи... Неестественной властью осветились мои очи...» Чернышевский признает право Гоголя на такие слова; наоборот: они пугают Аксаковых. Почему? Да потому, что Чернышевский понял, чьей неестественной властью освещены очи Гоголя-творца: властью того коллектива, который Гоголю послал спрос: «Что зовет и рыдает, и хватает за сердце?» Русский народ рыдает и зовет его освободить; Гоголь чует ритм будущих революций, «грозное облако, тяжелое грядущими дождями», которые сметут не одних генерал-губернаторов, но и Муразовых. Чернышевскому это ясно, а для Аксаковых это — «мистика»; Гоголь не поставил точки над «i»; и простоял десять лет в разодранной ризе художника; он думал, что напялил ее на себя клобуком: в «Переписке»; как художник стоял он в «дивном своем кокошнике», смутившем Аксакова.
Спрос в художнике — созревает; заказ («вынь да положь») — печется; борьба меж заказом и спросом — болезнь; ощупь показывает: сквозь все фазы медленно в нем взбухало то же зерно, всколосившееся всей послегоголевской литературой, в которой раскрылось подлинное социальное содержание спроса, года освещавшего неестественной властью творца; параллельно тщетное тщение выполнить чужой заказ есть картина выращивания колючего и усатого пустоцвета.
Кончая главу о сюжете, кончаю ощупь великого мастерства Гоголя; ощупь выявила три наложенных друг на друга слоя: смысловой, образный и словесный; мысли, эквивалентные стилю, слогу, тенденции, краске, ритму; нет четкой грани меж ними; всюду: химия взаимодействий слоев: звуковая метафора — в одну сторону развивает градацию звучно-ярких ладов; в другую — изобразительных, определяющих композицию и стиль, жестов; меж сюжетом и образами — та же связь; нет отдельно взятых термина и метафоры; сюжетная мелодия, фабула, — интерференция насквозь осюжетенных мелочей, которые — не аккомпанемент, а само голосоведение; выньте-ка из них «чистый» сюжет, — он станет заемным у Пушкина каламбуриком; и сотрите-ка с «Носа» пудру двусмыслиц, «Нос» — шутка с задворков журналов эпохи Гоголя.
В каждой фазе — свое отношение между слогом, стилем и смыслом; сперва смысл дан сквозь ритм еще неясно вырастающих образов — в красноватых тонах; и как бы под вуалью; такое взятие его согласуется с заявлением Гоголя: в молодости ему больше пелось; и он — не задумывался. Со второй фазы образы, прорастая сквозь ритм, образуют почвенную поверхность; вместе с тем: в «Рев», в «Ш» тенденция уже имманентна образу, который бичует; свет ее — сама поверхность свечения. С третьей же фазы тщение
114
искусственно вырвать тенденцию обнажает ее над почвою колосяным усом без зерна; отделение подобно кесареву сечению, производимому славянофилом Аксаковым, католиком Толстым и отцом Матвеем Ржевским; свет же тенденции не осветил тьмы под нею; но тьма окрасила его в цвета маниловских обоев «не то голубеньких, не то сереньких»; для нее — поблек образ: Хлобуев, Платонов, Муразов, Тентетников, князь, — что за тусклые бесконтурности! Какая-то простокваша! Где формула? Она — в «Переписке»; в «МД» она — «христианский мужик греби серебро» плюс «чудный колдун в триповом картузе», деленные на̀ два.
Ощупь произведений, являя в каждом свой комбинат из слога, смысла, ритма, жеста и краски, рисует узоры, сравнение которых под всеми ними являет все ту же канву; типы и темы даны метаморфозой их в прототипе, и прототенденции; прототип: Гоголь; прототенденция: понять спрос: «Русь, чего хочешь ты от меня?»
Все оформленные отдельности сращены с формообразующим процессом, как ногти с пальцами руки.
Но процесс, обусловленный спросом, проходя сквозь творца, Гоголя, но минуя помещика-осознателя, не только отпечатывается «Собранием сочинений», но и далее раскрывается в читательских коллективах, из которых выходят Толстой, Достоевский, Тургенев — вплоть до нашего времени; Маяковский, Сологуб, Блок, Белый, сколькие и катили, и катят гоголевскую тройку мимо сарая, в который ее хотел запереть Гоголь-собственник.
Показать процесс, обусловивший мастерство, на законах мастерства, и последние ощупать на отложениях изобразительности и слога — показать печать лавы на магме.
В этом задача последующих, «технических» глав.
————
115
ГЛАВА ТРЕТЬЯ — ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ГОГОЛЯ
ЗВУКОВАЯ МЕТАФОРА И ЦВЕТ
Звук, — эхо творчески рабочей энергии, обращен к воле; в ритме единственна поступь поступков; в изобразительности она — стать стиль; в смысле она — тенденция к живой жизни; волевая энергия, жест интонации, отражаема системой прерывных толчков и пауз; многообразие слоговых фигур — результат звуковой деятельности; но ритм, данный группой толчков, — проекция нарастающих и спадающих воли; движение спирали в пространстве — на плоскости выглядит синусоидой; таков образ ритма в позднейшей поэзии (32 формы гомеровских строк); еще абстрактнее: синусоиду упростить в ломаную; таков образ метра (32 модификации гекзаметра, ставшего дактилем с утратой спондея); первично-волевая энергия — смерч завиваемых волн; спираль, синусоида, ломаная — стадии остановки процесса, метризация ритма (ритм, стиль, слог); так энергия органов равновесия, лежащая во внутреннем ухе, разделена в мирах звука и глаза, определяемых как мускульный тонус всего организма, и как движение глазных мускулов, строящих рельефы.
Внутренняя интонация, разделенная на удар и тональность (окраску) удара, — еще не осевший в артикуляцию лад, отражаемый и фигурной, и красочной аналогией, существующей в факте анкет: цветного слуха; Рэмбо его декретирует субъективно; Бодлэр изживает его в соответствиях; к поэтическим вольностям присоединяется... Лев Толстой, заявивший устами Наташи Ростовой: Безухий есть синий квадрат; Каратаев же — круглый; перед Болконским в бреду звук «питѝ-ититѝ» строит зданьице: из светящихся игол; Скрябин и Римский-Корсаков, такие полярные, согласно показывают, в каком цвете воспринимают они ту или другую тональность; цветной слух исследовали профессора Грубер и Вундт; в наши дни появилась работа Р. З. Миллер-Будницкой, исследовавшей звуковую метафору, относимую к аналогиям ощущений: у Блока и неоромантиков1; звуковая метафора, по мнению Вундта2, жива в культуре первобытных народов; она — остаток давней языковой фазы, когда и артикуляция была движима интонацией, переживаемой волевым жестом; позднее уже расчленилась метафора на метафору звука и на метафору в нашем смысле; появились, с одной стороны, лады, с другой — спектр (в нашем смысле).
116
Техническое выражение «цвета̀ теплые, цвета̀ холодные» взывает к теории соответствий; пересечение лежит в полукружных ушных каналах, органах равновесия, гласящих о «звучащем», или текучем пространстве; равновесие коренится и в мускульном тонусе, и в чувстве пространства, которое — итог гимнастики глазных мускулов (иначе видели б «плоскости»); условность пересечения глазных осей в детском возрасте — факт; и дети умеют изменять зрительные рельефы; классическая перспектива построена на одном способе пересечения осей; японская перспектива построена на ином принципе; Петров-Водкин многообразие перспектив сводит к учению о сферической перспективе; и дает в принципах ее ряд шедевров.
Цветной спектр есть отрезок; инфракрасные (тепловые) и ультрафиолетовые (электрические) его части расшатали представление о замкнутой цветной радуге; есть цвет тепла (пурпурные оттенки внецветного); есть синне, фиолетовые электрические воздействия солнца в глазу (таков вспых солнца в романе Маринетти); около Казбека, фиксируя солнце, я видел его мгновение синим; и почувствовал укол в глазном нерве; в теориях Лоренца оптика — зависимая переменная электро-магнетизма; гелиодинамика Герца расширила оптику за пределы спектра; наука давно перешла Рубиконы «мещан в искусстве»; Гаузенштейн считает: импрессионизм — теория красочной относительности; знаменатель дроби, числитель которой цвет, — свет.
Звуковая метафора полагает цвет за пределы спектра; восприятие ее при пороге сознания; цветной слух есть; но в обычных восприятиях он, так сказать, покрыт тенью; и тень и тьма — уменьшенный цветной светоч; для импрессиониста живопись — «логическое развитие света»; Гете в абзаце «Чувственно-моральное восприятие краски»1 отмечает явление аналогии ощущений; для художника этого рода восприятия — «сырье», с работы над которым начинает «наука видеть» (термин Петрова-Водкина).
Древний человек не знал красного, как 1/7 спектра, а «нечто», нападающее и звучно-жгучее; художник заново переживает в себе культуру: началом творчества; он вглублен «вспять», потому что — о будущем он: взгляд — радиус окружности, центр которой зритель; кто дальше видит вперед, дальше видит и вспять; это — факт геометрии; зародыш сию минуту переживает дни, от которых сознание взрослого отделено тысячами столетий: в стадии червя и гидры2; иначе ему не родиться: не стать человеком.
Отсутствие цветного слуха в художнике пера и кисти — изъян.
Звуковая метафора в нас — отражение древнего языка; выявление ее в словесном сюжете есть синтез языковой абстракции, четкой, но не имеющей воли к действию с не вооруженной сознанием волей; он, синтез, — звучная грамматика языка: в будущем.
117
Опыт передачи мысли гипнотизируемому установил: в последнем часто всплывает образ передаваемой мысли: вместо мысли о карандаше всплывает карандашная форма; остаток сознания, противящийся гипнозу, примет ее, например, — за пожарную каланчу; подобное происходит с художником: в первых фазах восприятие спроса ритмическою волной отражается звуковою метафорой, переводимой в образ; в третьей фазе она — тенденция; она тенденция и в посылающем волну коллективе; внимание телеграфиста сосредоточено на толчках, переводимых в буквенные знаки; из них встает смысл телеграммы; толчки — ритм; знаки — образы; смысл — тенденция, но воспроизведенная художником точно; искусственно сочиненное не имеет реальности, звуча фальшиво; отсебятина, всплывшая под флагом «здравого смысла», — подлог, которого участь — не действовать; она — выпыжена; в ней красочность — киснет; в ней звук — козлогласит.
Спрос коллектива к художнику раскрывается нарастанием смысла: в читательских массах; кто до срока ненужно переосознает сюжет, тот недоосознает социально-художественного долга: выявить новое качество из полученного у коллектива «сырья», изучение качества — в десятилетиях чтения.
Неслучайны в поэзии краски, звуки и образы; первая фаза всех творческих процессов — отбор; краски, образы, звуки вполне безошибочны у мастеров слова; и потому-то они — предмет скрупулезного изучения, которого все еще нет.
Занимаясь разглядом зрительных впечатлений у Блока, я открывал соответствие между изменением в подборе цветов, изменением в мироощущении и в фактах биографии; мои наблюдения над спектрами Блока подтвердились исследованием Миллер-Будницкой, давшей статистику цветов этого спектра: в среднем и по эпохам; Будницкая установила процентное соотношение всех цветов: больше всего в поэзии Блока — белого (28%); вслед идет — черное (14%); красное на третьем месте (13%); за ним сине-голубое (11%); зеленое — редко (4%); еще реже: розовое (2,5%), желтое (1,5%), фиолетовое (1,5%); цвета поданы в сумеречном освещении (полутона, полутени, туманы, дымы, зыби, тучи, мерцания, тусклости); отсюда — гаммы оттенков цвета, неясность контуров. Средние числа колеблются по периодам; красное в «Ante lucem» — 16%; в «Снежной маске» — 2%; в «Кармен» — 16% и т. д.; в «Кармен» — выявление жизненности; «Ante lucem» — выявление ожидания; в «Снежной маске» выявлена смерть.
Звуковая метафора жива у Гоголя; звукопись — ее порождение; ее след — обилие аналогий ощущений; со звуком: «глаза̀ — с пением вторгаются в душу» (СМ); небо — «звучно раскинувшееся» (СЯ); «певучее население» (МД, 2) и т. д.; всюду цветной, а также фигурный слух: «яркий крик» (В), «густое слово» (ТБ); «красный звон» (ТБ); «в карманах звучала... возможность» (ТБ); «яркий, как серебро, крик лебедя» (ТБ); «толстый бас шмеля» (СП), «видимая тишина» (ОТ), «острое пенье» (В), «продолговатая растяжка»
118
голоса (Рев), «блистательная песня» (МН); «в глаза выстрели» (ПГ); ряд других аналогий: «кипят достоинства» (СЯ); «уста прикипали» (В), «легонькое личико» (Ш), «острые звезды» (ТБ), «благовонное море... музыки», «больной день» (ОТ), «дышащая нога» (Р) и т. д.
В аналогиях ощущения пересечены: изобразительность с ритмом; мир красок Гоголя — орган целого; свет, колорит, цвет и краска суть у Гоголя фоны, из которых выветвлен самый изобразительные стиль: по периодам; для Гоголя, как и для экспрессионистов, воздух и краска — самостные начала; воздух, фон красочных пятен, — основа сюжетных картин; форма и краска, выведенные из фонов, даны по Моклеру, как производные воздушного фона.
Красочные восприятия Гоголя определяют в нем многое; Гоголь-художник — перспективист, колорист, пейзажист, жанрист; красочное обличие ярко; виден отбор и контроль; цвета природы, окраска предметов, сочетание пятен в костюмах — все выявляет: и декоратора, и костюмера, и режиссера, не только «писателя»; цвет не отчленим от жизни образа, как и тенденция, выявленная позднее отдельно: от жизни образа.
Целое цветов — композиция так, а не иначе распределенных пятен; изобразительность связана с перспективой и стилем; стиль есть композиция перспективы; вводя свет знаменателем отношения, числитель которого — цвет, импрессионисты силились перешагнуть через фикцию, которая сидит в «классической» перспективе; целое предметного образа влагает она в линию, как отрывающую от фона форму, и строит рельеф ретушью.
Подмесь черного в чистый, спектральный цвет — фикция; не освещенные стороны не имеют черного, будучи изменением густоты того же чистого цвета; нет тени, как инородного тела; она — качественное отстояние: оттенка от оттенка; тень — не предмет; черны — черные предметы изображения, как то: темь черного фона; но это — не тень; тень никогда не бывает черной.
Рельеф — итог движения нашего тела и взгляда: вокруг предмета; он и движение рук, и движение ног, — не только сокращения глазных мускулов; танец последних дан в ритме танца, как метафора-образ коренится в метафоре-звуке; рельеф — от нас: не вне нас; голова, ноги, руки и глаз — и лепят, и перелепляют рельефы, которые даны не неподвижной позицией фиксации, а результатом круга движений, имеющих стиль; итальянская композиция полагает его за «вещь в себе и для себя»; она — метафизична. Японская — переход к подлинной, где и предмет, и взгляд — внутри круга движений.
Итальянцы силились выявить в объективности перспективу и композицию; критерий такой объективности — «квантитативное» пересечение трех осей; «квантитативизм» объективен в геометрии и теоретической механике, которые не критерии, когда объект — живая жизнь; живопись далека от бескрасочною критерия, в котором нет ни колорита, ни распределенных впестрь участков пространства;
119
где тут «три измерения»? Лишь «восприятия», которых «четыре» (не три): 1) восприятие длины: движение глаз с поднятием не уровень пересеченных рук, соединенных ладонями в горизонте (пауза выдыхания); длина тут — рука, «это вот» (та — короче); 2) восприятие ширины: раздвиг глазных осей в полугоризонт горизонта с паузой вдыхания и с разведением рук в стороны; ширина, «эта вот», — расстояние от ладони к ладони; 3) восприятие высоты: откид тела, закид головы (глаза в зенит); руки, как всплеск крыльев, вназа̀д; чувство полета с легким опьянением от изменения оси тела, дыхания, кровообращения; 4) обычно отсутствующее у жителей долин восприятие, противопоставленное вышине, как глубина: склоненье над бездной с протянутыми к ней руками, или чувство падения, могущее с непривычки вызвать нервный припадок; деление третьей оси на «плюс» вышину и «минус» вышину (глубину соответствует качественно разным рельефам и длин, и ширѝн: «плюс» рельеф, «минус» рельеф.
В обычном восприятии перспектива не принимает во внимание огляд взгляда, рисующий спиралевидную линию от ширины к зениту через ось длины; в итоге: даль, непроизвольно поднятая к высоте, окрашивается в сине-голубой тон: голубая дымка на цвете почвы; огляд глубины — спиралевидная линия вниз — одевает цвета почв желтовато-оранжевым, коричневатым и темнокрасным рефлексом. В линии от горизонта к зениту вычеканиваются рельефы предметов в прозрачном, как стекло, воздухе; в линии от ширины к надиру рельеф исчезает: почвы становятся амальгамою внизу лежащих, воздушных масс, зеркально отражающих свои небесные колориты и одевающих рельефы почв, так сказать, небесною скатертью.
Итальянцы рисовали предмет, несколько приподымая его пред собой и фиксируя его снизу вверх: неподвижно; японцы, — утопляя его в море воздуха под собой и разглядывая в плавных движениях переменяющего свои положения тела, отчего стирается «итальянский» рельеф, или один из рельефов, считаемый нами за рельеф собственно.
Перспектив столько, сколько кругов движения тела; и красочных оттенков, извлекаемых из оттенка, — столько же. Бросив взгляд в горизонт, падите на землю и боком (справа налево) продолжайте его фиксировать: вспыхнут новые панорамы доселе невидимых колоритов, преображая рельеф.
Перспектива — зависимая переменная стиля. Гоголь многостилен в изобразительности; у него ряд пространственных перспектив; то он — «японец», то — «итальянец».
Красочность — распределение плоскостей на плоскости фона; разгляд перспективных фаз творчества Гоголя связан с пониманием Гоголя, «живописца-изобразителя», так точно, как последний связан с «писателем».
Вот что считаю нужным сказать в преддверии этой главы.
120
СПЕКТР ГОГОЛЯ
Я вел статистику цветов Гоголя; вернее — «старался» вести; ряд цветов неопределим; ряд предметов окрашен в цвет без упоминания об оттенке; слово «туман» — красочное представление, но группы оттенков, не подлежащей отметке; иногда упоминание о «белом личике» — условность языка, а не красочное пятно; оно тоже не подлежит отметке; и «синяя зелень», и «черная зелень» — не зелень красочного пятна; рубрика отмечает «синее», «черное», а не зеленое; есть ряд «цветных» слов, брошенных вскользь не для передачи красочности, а как условность языковых обиходов.
Такого рода условности «цветного» жаргона не попадали в реестр; приходилось задумываться и над явно красочными представлениями: суть ли они — предметные пятна, воздушный фон, колорит, отсвет; словом: менее всего моя работа — итог механической регистрации; тем более я мог ошибаться в оценке каждого представления; и далее: я ограничил себя реально осязаемыми цветами; слова: «свет», «светлый», «сверкающий», «ослепительный», «темный», «тусклый», «разноцветный» — не учтены; «снежный», «молочный», «бурый» заносились в группы «белых» и «коричневых» оттенков; ограничение уточняло статистику.
Наконец: я мог ошибаться и в операциях с цифрами; в среднем выровнялись перечет, недочет; статистика отражает факты.
Я беру красочность Гоголя в среднем; и по группам, отчасти отвечающим периодам творчества; в первой группе объединены повести романтические и исторические; эта группа включает в себя: «СЯ», «ВНИК», «МН», «ПГ», «НПР», «СМ», «ЗМ», «ТБ», «В»; вторая группа обнимает: «ШП», «СП», «ОТ», «Н», «П», «Р», «ЗС», «Ш», «НП», «Рев», «Ж», «ИГР», «ТО»; третья группа есть первый том «МД»; четвертая — отрывки второго тома «МД»; второй том — недоработан, часть текста — пропала; статистика цветов не до конца показательна здесь; показательны соотношения цветов первых трех групп.
В реестре 763 отметки; взяты на учет все встречавшиеся цвета; и редкие, и употребительные; ряд цветовых оттенков объединен в группы; рубрика «красного» объединила слова: «алый», «как огонь» (если показано, что «огонь» близок к красному), пламенный, «как кровь», «как мак», «красноватый», рубинный, червонный, кармазинный, «как бакан» (оттенок красного), брусничный, пурпурный, малиновый, пунцовый, багряный, яхонтовый, красный1; группа «синее» заключает оттенки: синий, темносиний, лазурный, сизый (серо-синее с подчерком синего), синеватый и т. д.; группа «зеленое»: зеленый, яркозеленый, позеленевший, «как ярь», темнозеленый, светлозеленый, изумрудный, бутылочный, оливковый, зелено-золотой; цвета двойные регистрировались в трех рубриках: «зелено-золотое»,
121
«золотое», «зеленое»; группа «золотого»: золотой, позолоченный, сутозолотой, золотистый, «как червонец» и т. д.; группа «голубого»: голубой, бледноголубой, изголуботемный и т. д.; группа «желтое»: желтоватый, желтый, янтарный, палевый, лимонный, гороховый, светловерблюжий (последний цвет дан в сильном солнечном освещении; в нем желтое преобладает над буро-коричневым), желто-коричневый и т. д.; группа «оранжевого»: оранжевый, рыжий, рыжеватый, кирпично-желтый и т. д.; сложная группа с преобладанием «коричневого» оттенка: коричневый, темнокоричневый, темноореховый, коричнево-желтый, гнедой, кофейный, русый, бурый, табачный, медвежий, бронзовый и т. д.; группа «черного»: черный, «как уголь», вороной, «как крылья ворона», «как агат», смолистый, почернелый; группа «серого»: серый, пепельный, дымный, свинцовый, «цвета гранита» и т. д.; группа «белого»: белый, беловатый, «как снег», «как сахар», «нестерпимой белизны» и т. д.; «серебряное»: серебряный, серебряно-розовый и т. д.; «лиловое»: лиловый, фиолетовый, сиреневый и т. д.
Такие цвета, как «цвета меди», «наваринского дыма с пламенем», «фосфорный», «цвета винных дрожжей», отмечены мной отдельно.
Группы оттенков дали таблицу четырнадцати наиболее обычных цветов; предлагаю ее вниманию читателя.
Цвета | Статистическая средняя | «Веч», «В» и «ТБ» | Повести и комедии | Первый том «МД» | Второй том «МД» |
Красное | 17,4 | 26,6 | 12,5 | 10,3 | 6,4 |
Белое | 14 | 9,5 | 9 | 22 | 17 |
Черное | 12 | 11 | 14,1 | 11,8 | 4,8 |
Зеленое | 9,4 | 8,6 | 7,7 | 9,6 | 21,6 |
Золотое | 9,2 | 11,6 | 8,9 | 2,8 | 12,8 |
Синее | 8,7 | 10,7 | 6,1 | 4,9 | 6,4 |
Желтое | 7 | 3,5 | 8,5 | 10,3 | 12,8 |
Серое | 5,8 | 2,6 | 8,9 | 10,5 | 6,4 |
Голубое | 4,8 | 4,4 | 5,7 | 7 | 1,6 |
Серебряное | 4,8 | 7,1 | 3,2 | 2,8 | 4,8 |
Коричневое | 4 | 0,9 | 6,5 | 8,4 | 1,6 |
Розовое | 2,3 | 3,8 | 0,8 | 2,1 | 3,2 |
Оранжевое | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | 0 |
Лиловое | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 0 | 1,6 |
Приведенная таблица — повод к графикам, которые понадобятся не раз.
Вот схема изменения процентного соотношения цветов по группам произведений и средняя групп.
Интересно сопоставление двух томов «МД» с первой фазою творчества.
122
Интересно: зеленый — дополнительный красного; синтез их — белый. Преобладающий цвет «Вечеров» — красный; второго тома «МД» — зеленый (21,6); средняя — (26,6+21,6):2=24,1; процент близок к проценту преобладающего цвета первого тома «МД»: он — белый (соединение красного с зеленым); его процент 22 (близко к 24,1).
В суммарном спектре доминирующая трехцветка — красное — белое — черное (17,4—14—12); сумма цветов поэзии Блока, по данным Будницкой, выделяет на первое место ее ж; но порядок цветов иной: белое — черное — красное (28,5—14—13); красное занимает третье место; у Гоголя — первое; доминирующая трехцветка первой главы «Серебряного голубя» Белого дает тот же порядок: красное — белое — черное (29—13,2—8); не исследовано: есть ли совпад трех цветов общее явление; речь идет в сущности лишь о красном; белое, черное — проекции света и тьмы, вероятно, господствуют; впечатление от силуэтов «Войны и мира»: они — рисунки («блан-э-нуар); но в первой главе» «Петербурга» домирующая трехцветка иная; серое — черное — зеленое (красного и белого нет); трехцветка первго тома «МД» — белое — черное — серое (22—11,8—10,5); не цвет — светотень; в спектре второго тома «МД» зеленое стоит на первом месте; в суммарном же спектре оно — на 4-м (9,4); процент зеленого не велик в спектре Блока (4); различно пользование желтым; его у Гоголя в 4½ раза больше в сравнении с Блоком (7 и 1,5); голубое чаще у Блока; золотое у Гоголя занимает пятое место (у Блока — 8-е); процент оттенков белого у Блока огромен: 28%; красный у Гоголя дан в половину меньше, чем белый у Блока (14 и 28).
Гоголь и Блок — контраст в колорите, рельефе и композиции; цвета Гоголя ярче; и — впестрь; Блок — тусклей; переходы цветов не резки: под вуалью; Гоголь стреляет пятнами красок в глаза; Блок — ведет под флером, из далей. Гоголь-романтик — «японец»; романтик Блок — никогда!
Розовое, оранжевое, фиолетовое у Гоголя редки.
Разгляд спектра Гоголя по периодам и по группам являет картину исчезновения красного цвета; в группе «Веч», «ТБ», «В» процент красного — 26,6; в бытовых повестях и комедиях, перерождающих дифирамбы в иронию, падает этот процент до 12,5; в первом томе «МД» белое (22) занимает первое место; красного нет и в трехцветке; его процент 10,3 (менее ½ «Веч»); здесь сумма серого с черным (11,8+10,5) почти равна белому: 22 и 22,3; светотень с присоединением золотого, серебряного, данных в сияниях белого, образует 49,9% всего полотна, т. е. его половину; остальная ½ занята цветами-собственно; в «Веч» более половины золотых и серебряных цветов из воздуха перенесено на предметы: утвари, позументы, оружие, шлемы и т. д.; цветописно 2/3 всего полотна «Веч», «ТБ», «В».
Отношение количества красочных отметок к количеству страниц непрерывного печатного текста — установило: на 2 страницы печатного
123
текста в произведениях первой фазы имеем три зрительно кричащих красочных образа; в первом томе «МД» на 2 страницы текста один яркий красочный образ; издание не играет роли: отношение этих отношений дает соотношение: в нем количество страниц аннулировано; играет роль лишь отношенье меж цветностями; оно таково: произведения первой фазы Гоголя втрое цветистей первого тома «МД»; это менее всего оценка; красочность — не плюс и не минус.
Спектр Гоголя, разбираемый по фазам, рисует борьбу за господство цветов — красного, белого, серого, желтого и зеленого; в хвосте — оранжевое, розовое, фиолетовое; первенствующая трехцветка «МД», или светотень, в игре колорита как бы мимикрирует текст, насыщенный словечками: «ни — ни», «несколько», «в некотором роде», «довольно таки» (теневые оттеночки): доминирующее положение золотого и красного трехцветки «Веч» выделяет ее особо. В «Веч», «ТБ», «В» цвета чисты и ярки: до ряби в глазах; распределение их впе́стрядь (несмотря на обилие ночных фонов); полосато-пятнистому тексту противостоит завеянность, засоренность дневного освещения в «МД», с теневыми углами предметов, поставленных в полусумерки комнат, обильных темнокоричневым колоритом, ослабляемым в серовато-желтое, серо-голубое и серое.
Убыванию красного в «МД» противопоставлено нарастание желтого, серого, белого, коричневого, голубого: до второго тома «МД» (а желтого и во втором); процент желтого для 4 групп: 3,5—8,5—10,3—12,8; рост серого: 2,6—5,8—10,5; рост коричневого: 0,9—6,5—8,4; рост голубого: 4,4—5,7—7; рост белого: 9,5—14—22; в убывающей регрессии золотой: 10,7—6,1—4,9; и — синий: 11,6—8,9—2,8.
В «Веч» цвета чисты, от радуги; тенденция цвета — вспыхнуть, дать отсверк; фон — тьма или свет; и светотень не представлена; мало рельефов; фон выглядит плоскостью; в глазах рябит от приближенности к глазам красочных пятен; и «красное море запорожцев» растаскивается на отдельные, великаньих размеров тела: за телом тело; и все оттого, что даль порой подана — к кончику носа (то самое, что бывает с детьми, когда они, лежа в постели, разводят глазные оси, — и стены с обоями вдруг прилипают к глазам: я так делал; и мои сверстники это умели делать).
И это — сознательно.
От «Веч» до первого тома «МД» краски гаснут, как бы выцветая и в тень садясь; перед глазами — один предмет, одно лицо, — в фокусе; оно — цветная скульптура, резьба, а не живопись вовсе: и кажется неподвижным оно; окаменение — удел все более несвободных, обуживающих себя жестов героев этих; как будто усилие их найти себе место — в живой картине, которой оборвано действие «Ревизора», недаром подмененное куклами Мейерхольдом. Цвет — неопределенен, как бы не принадлежа предметам, а тени, которая их окутывает, как платками; незатененные части бесцветят в бестенном пространстве, где дали и ма́ли, свои потерявши цвета,
124
развивают невнятнейшие перебеги коричнев-атых, голубов-атых, зеленов-атых и желтов-атых оттеночков.
Если сложить отдельно: 1) ясные, спектральные, или к ним близкие чистые краски, 2) смешанные цвета (оливковые, ореховые, верблюжьи, кофейные, голубо-серые и т. д.), 3) отдельно взятые черные, белые, серые (карандашная перспектива), вот что получится: для «Веч», «ТБ», «В» группа чистых цветов (с золотыми, серебряными) — 75% всей цветности; светотень здесь представлена лишь в 23%; смешанно-грязноватых цветов всего 2%. А в группе бытовых повестей и комедий (второй фазы) процентное отношение трех групп таково: чистых цветов — 53%; светотени — 35%; смешанных цветов — 11%; для первого тома «МД»: чистых цветов лишь 41%; светотени — 39%; смешанных — 19%.
Чистая цветность падает: с 75% на 41%; светотень растет: с 23% до 39%; и растут неопределенно-сложные, неяркие краски: с 2% до 19%; появляется обилие сравнений цветов не с цветами спектра, а с предметами, как «цвета гранита», «в гороховом макинтоше» (Р), «медвежьего цвета» (МД) «наваринского дыма с пламенем» (МД, 2); или: «фрак пегий, т. е. он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках» (Н); или мундир «зелено-мучнистого цвета» (Ш); или — «глазки табачного цвета» (ОТ) и т. д.; соответственно растет процент коричневого (красное с подмесью черного), голубого, которое у Гоголя чаще всего голубое с пыльцой; появляется обилие определений вроде «лишенный цвета», «неопределенного цвета» и т. д. Когда дается указание на цвет, то часто в окончании стоит тяжелое, неопределенное «-атый»: «желтов-атый цвет кожи» (МД); и приставка ограничивает чистоту цвета: по-желтевший гравюр» (стало быть — не желтый) (МД), «по-желтевшая» зубочистка (МД) и т. д. И подыскиваются слова, определяющие не цвет, а группу цветов; отсюда ссылки на масти: «муругие», «черные с подпалинами», «рябые», «муруго-пегие», «красно-пегие», «полвопегие» и т. д.
Переход цветов от чистых, спектральных к неопределенно-смешанным до... фиктивных, бесцветных, сопровождает градацию фигур гиперболы: от гиперболы дифирамба через гиперболу иронии к... фигуре фикции, строящей своим ходом непередаваемый стиль первого тома «МД».
И то ж совпадение глаза со звуком. И звук, как и цвет в первой фазе, — прост, чист, мелодичен; и — «девушки зашумели, как приречный тростник» (МН); и «слышался шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал» (СМ); и «цветы начали... разговаривать..., словно серебряные колокольчики» (ВНИК); и «вопли едва звенели» тоже, как «серебряные колокольчики» (В); чистым цветам соответствуют частые звуки. Мутнеют краски в «МД»; и — помутнен звук: слышится «сиплый лай» (МД); и будто «комната наполнилась змеями» (МД); шип, сип, хлюп, хряст — мутные звуки!
Соответствие меж померклыми и некогда чистыми звуками и меж померклыми и некогда чистыми красками — в том, что подпочва
125
и звука, и цвета у Гоголя — общая: звуковая метафора; и цвет во всех периодах пересечен с миром звука; и оттого — соответствие: «с тихим звоном разливался... цвет» (СМ); «звуки стали сильнее и гуще; ...розовый свет становился ярче» (СМ); и наконец: звуки и светоцвет пересекаются: «задрожав сверкающим смехом» (В), «блистающей песней»; и видится: «толстый бас шмеля» (СП); и видится: «продолговатая растяжка» голоса (Рев).
ПЕРСПЕКТИВА В ПЕРВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ФАЗЕ ГОГОЛЯ
В первой фазе Гоголя краска — тональность; рисунок — мелодия; глазные мускулы, строящие рельеф, поданы в целом мускульных переживаний: тонусов движения и покоя; контроль — органы равновесия, или деятельность полукружных каналов; равновесие здесь из движения; и оттого текуч и странен рельеф ландшафта; какие-то перспективные упражнения вместо обычно положенной перспективы: тяга к смещению перспектив.
Живопись Гоголя рождена из движения, перемещения тела, огляда предметов: спереди, наискось, вбок, то с наклоном головы, то с закидом ее; происхожденье и линии, и рельефа, и краски — из «музыки», и даже танца; огромные достижения изобразительности Гоголя не поняты в том именно, что̀ их породило: породил круг движений, изобразительный стиль Гоголя — отложение ритма.
«Девушки собирались... в блеске вечера выливать свое веселье в звуке» (МН); напевала песню, «которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал» (В); но оттого именно «толковали о том, отчего на небе светит месяц» (В); звук, не разбираемый в голове, разбирается у гоголевских героев ногами: «за что не примется, ноги затевают свое ... так и дергает» (ПГ), «люди... притопатывали ногами и вздрагивали плечами» (СЯ); «от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке... все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди... притопатывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось и танцовало...» (СЯ); «дивчата... что вихорь, скакали в горнице... Парубки... рассыпа́лись... мелким бесом и подпускали турусы» (ВНИК); «отплясывает, словно веретено в бабьих руках» (ПГ); и даже: «дижа... подбоченившись... пустилась в присядку» (ВНИК); и даже: «река... переменяет свои окрестности» (СЯ); и «сама дорога... мчалась по следам его» (СМ); «летела, размахивая руками и кивая головой, и казалось,... вылетит из мира» (СМ); «и страшно показалось Вакуле, ... когда поднялся он... на такую высоту... и полетел... под... месяцем» (НПР), и «дед, что птица, вынесся наверх» (ПГ); и Хома Брут «скакал... опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под его ногами..., казалось, росла глубоко и далеко..., казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря» (В).
Всюду странность рельефа, как результат усилий разгляда предметов не прямо, а — сверху вниз; и дед из «ЗМ» доплясался до кручи и бездны — на ровном месте; сперва: с одной стороны «голубятня,
126
что у попа»; с другой — «гумно волостного писаря»; а потом: «голубятня торчит, но гумна не видно»; «гумно видно, а голубятни нет», «побежал... к гумну, — голубятня пропала; к голубятне, — гумно пропало»; и все оттого, что ... «задал... бегуна, как иноходец»; и — наконец: самая плоскость равнины очутилась под углом к себе самой: «под ногами круча; над головой... гора» (ЗМ).
Гете отметил: при возбуждении зрительный отпечаток предмета (светлая кайма вокруг ели) получает самостоятельное бытие, так что его даже можно, с предмета сняв, печатать, например, на небе (световой контур ели); у Гоголя измененный рельеф постоянно сопутствует потрясению; равнина стала под углом к себе, когда дед «задал... бегуна»; и в таком же положении оказалось ровное место, по которому проехал Хома Брут — к усадьбе сотника — на другой день; селение, казавшееся ровным, «помещалось на... уступе горы»; с одной стороны — круть, с другой — глубь (В); провал, дна которого «никто не видал», появляется в «СМ» с момента, когда колдуну показалось и «небо с овчинку» (выражение, в котором отражена зависимость восприятия перспектив от эмоции); после убийства — зятя, внука, дочери колдуном «вдруг стало видимо далеко»; «бывалые люди узнали и Крым»; «по левую руку видна была земля Галичская» (СМ); перепуганный колдун помчался прочь от этого зрелища; но дорога не уносилась прочь под ногами коня, а наоборот: «мчалась по следам его», перегоняя, точно он задом наперед мчался: к Карпату, — не от Карпата; и — «между горами провал, в провале дна никто не видал» (СМ).
Ландшафт Гоголя движется, меняя свои очертания: «подоблачные дубы» у него «будто гуляющие без цели» (СЯ); все «мечется..., снуется перед глазами»; и настоящая пиротехника — из глаз: «искры из глаз»; и оттого «молнии... мерещились из глаз» (ВНИК); то — «темно, хоть в глаза выстрели»; а то — наоборот: стреляют глаза... искрами; и даже: «искры... посыпались ... изо рта» ВНИК); и весь ландшафт — искряной, как стеклянный (об этом ниже); он движется: шинок огоньком «несется навстречу» (ПГ); и «реет» по миру Днепр (СМ); и Пискареву, который тоже «задал бегуна» кажется, что летящие кареты и он неподвижны, а дома несутся, будка валится, мост висит в воздухе; и — ломается его арка (НП); не толпа бежит по тени и солнцу, а «тень и солнце бегут попеременно» по толпе (Р); будоражатся и горы: не горы, а «море... вскинуло вихрем... волны, и они... остались недвижимы в воздухе» (СМ); «арки водопроводов казались... приклеенными на небе» (Р); и остраннению движущихся перспектив ответствует всюду изменение колорита: «голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом» (Р); «какое-то», «какой-то» у Гоголя означает всегда: измененное в нем восприятие вписано им в предмет восприятия; фосфорический свет — из глаз.
Все смещено: выблеск алебарды прилипает к реснице (Н); усы перескакивают на лоб (МД); носы попадают на луну (ЗС), на Невский (Н), на остров Эльбу, откуда приклеиваются к Чичикову («наполеонов
127
нос») (МД); месяц — под глазом; оттого-то и «крался... к месяцу» его схватить (НПР); месяц «вылетел из трубы» — надо прочесть, «встал над трубой»; «звезды играли в жмурки» — надо прочесть: в глазах у Вакулы (НПР); многое из фантастики Гоголя — от изменения восприятий рельефа и колоритов; порою фантастика — надстройка над субъективно-реальным восприятием; она — стилизованный завиток; со сна в глазах затуманилось, — это реальность субъективного восприятия, как и «все казалось так близко, как будто можно было схватить рукой» (а «все» — горизонт) (Р); и эту субъективную реальность (гора кажется — профилем, пятно на стене — чортом) тотчас же живописец Гоголь превращает в мифическую действительность, которая у него в первой фазе — действительность декоративная: «вот и чудится ему, что... из-за воза нечто серое выказывает роги» (ПГ); из «чудится» возникает орнаментальное «есть»; и это «есть» вляпано в сюжет; «чудятся роги», — а вылезают «черти с собачьими мордами, на немецких ножках»; нечисть Гоголя в первой фазе — стилистическая метафора, подобная эпитету «зеленокудрый» (от «зелень» и «кудри»); «чорт» Гоголя — стилистическое соединение наблюдений над свиньей и над страхом перед «москалем», «немцем», «жидом» и «цыганом»; он — стилизация страха: перед всем чужеродным; «принимал... собственную свитку, положенну́ю в головах, за свернувшегося чорта» (ВНИК); сперва под чорта стилизуется свитка; потом надевается она на свинью (при помощи цыгана) (СЯ), и наконец «свитка на свинье» — постоянный орнамент; «чорт» — стилистическая надстройка над «субъективным зрением».
Когда океан воздуха обнимает «прекрасную в воздушных своих объятиях» землю (СЯ), я вижу метафору восприятия перспективы; и тоже, когда пруд «держал... в объятиях своих... небо» (МН); первое восприятие — закид головы, второе — наклон головы; и метафоре приписать реальность объятий — так же глупо, как к небу и к пруду пририсовать... половой орган (фрейдисты так поступают); но с иными восприятиями у людей элементарной философской культуры так именно и бывает; помню: отроком воспринял учение Канта об априорности пространства и времени чисто физиологически; и думал: вывеска магазина — чехол на другой вывеске; в это время я верил по Гете, что идея любого предмета зрима (если так-то скосишь глаза); измененный рельеф принимал за идею я; так японская перспектива может выглядеть «идеальной действительностью», а изменение в ней колорита — «мистическим восприятием»; может быть: в философски наивном сознании Гоголя его перспективные упражнения были осознаны, как «мистические восприятия»; и он мог уверовать в чорта и в ведьму; но вера эта — от особенностей восприятия: свитки — «чортом», а бабы — «ведьмой».
«Чудится..., что в светлице блестит месяц,... мелькает ... небо» (СМ); миг: и — в центре «неба в светлице» — опочивальня пани Катерины; в ней — она; а сквозь нее — небо (по счету третье); эдак до седьмого неба дойдешь; корень же их — перспективные упражнения: с опрокидыванием предметов в зеркале: «встала..., держа
128
в руках зеркальце, и, наклонясь к нему, ... шла по хате, как будто опасаясь упасть, видя под собою вместо по́лу потолок» (СЯ); «наклонясь, ...шла,.. опасаясь, упасть», — опыт искания равновесия в условиях иной перспективной действительности; «что я, ...будто дитя,... боюсь ступить ногою?» — думала Параска при этом (СЯ); и — «пошла танцевать..., держа перед собой зеркало»; это — искание ритма, как опоры в органах равновесия; и напряжение последних дает резонанс: деятельность внутреннего уха отражается и во внешнем; звуки сопровождает у Гоголя измененный рельеф, как при картине второго неба в светлице («слышался шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по зеркалу»); может быть, и светлица в «СМ» с небом в ней — зеркало; роль этого зеркала играет у Гоголя вода: в «СЯ» даны: и опыт Параски с зеркалом, и — результат опыта: «сквозь ... листья ... тополей ... засверкали огненны́е искры ... и река ... обнажила серебряную грудь ... Небо, ...леса, люди, возы с горшками... — все стояло и ходило, не падая в голубую... бездну», как и Параска: не падала (СЯ); река Гоголя «переменяет свои окрестности» (СЯ), как зеркало — отражения; она «зеркало... в зеленых... рамах» (СЯ); «вдруг отовсюду промеж ветвей и пней сверкнули ... сияющие зеркала ... И вот ... озеро» (МД, 2); Днепр в «СМ» — тоже зеркало: в нем «леса — не леса», «луга — не луга»; может быть, опыт с наставленным на зеркало зеркалом («в зеркале — зеркало, в котором — зеркало, в котором» и т. д. до бесконечности), источник «гаданий», есть просто средство вызвать головокружение; в образе из «СМ» (под небом светлица; в ней небо; в нем светлица и т. д.) — перспективная жуть, а фантастика возникающих образов — иллюзия субъективного зрения от смещенности перспектив, как при гаданьи с зеркалом.
Если ты подвижно сидишь перед мольбертом — одна перспектива; если бегаешь и голова твоя поворачивается — вбок, наискось, вверх — перспектива иная; такая, какую дают японцы.
Таков ландшафт Гоголя: он — движением видоизменен; в нем искание иных равновесий; деятельность полукружных каналов, или уха внутреннего, тут дает отражение и во внешнее ухо; при подъеме в вышину у иных сперва щелкает в ухе, потом — шум в ушах; слышишь музыку, поется; с перестроенного ландшафта, как со струн настроенной арфы, у Гоголя срываются: звуки музыки; выныривает звуковая метафора; и появляется то особенное сияние, которое бывает в горах; и в оттенках неба, и в глубокодонных равнинах; так в «МН»: Левко видит в пруду: «дом, опрокинувшись вниз», был ярок: «какое-то странное... сияние примешивалось к блеску месяца»; оно — из глаз Левко: оно сложило ему и белый локоть, и панночку — в отраженном окне: «она усмехается»; и в эту минуту видятся «блистательные песни», как в головокружениях на высоте; и поется и щелкает в ухе; ты стоишь, скосившись, — с головой набок, — разглядывая в низлежащей бездне «какое-то странное... сияние»; и — видишь: вместе с окраской предметов окраску воздуха и колориты, которые получаются в глазе: от смешанных красок; «сияние» —
129
искры из глаз; физиологическое объяснение медиков: оно — следствие увеличения угольной кислоты в организме: от недостатка дыхания: последнее ж — как следствие и повышенной потребности к окислению крови, и — разрежение воздуха.
В результате: «горы те — не горы... вверху, как и внизу... вершина, и под ними, и над ними ...небо»; «луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший небо; и в верхней половине, и в нижней... прогуливается месяц» (СМ); земная поверхность — пояс, стягивающий стеклянный шар; мы — внутри шара: кубическая перспектива нарушена; она становится шаровой; особенность восприятия в ней: мы — не вне предмета изображения, а — внутри него; итальянская и японская перспективы подают действительность в правилах верхнего и нижнего полушария; в итальянской три оси суть: ширина, длина, вышина; в японской — ширина, длина, глубина; в последней — колорит есть окраска воздуха, амальгамированного почвой, т. е. ставшего зеркалом неба; отсюда: «певучее серебро»: «яркий, как серебро, голос» (ТБ), «серебряные голоса» (Р), «блистательные песни» (МН); «серебряные песни» летят вниз по «воздушным ступеням» (слоям) (СЯ), когда «приведши себя... в положение, как человек, летящий на коньках,... спустилась по воздуху, будто по ледяной горе» (НПР); ледяная гора — иллюзия зеркальности почвы: в разгляде ее с высоты: сверху вниз: «глянул... под ноги — и пуще перепугался» (ПГ); середина земли «стала, как будто из хрусталя вылита»; и сундук «стал уходить... далее, глубже...» — под самым тем местом, где они стояли» (ВНИК), которое, вероятно, казалось водой: «вместо месяца» там «светило какое-то солнце» (В); все — «из блеска и трепета» (В); бег Хомы Брута, как... полет по небу Вакулы; полет, в свою очередь, как бег с ведьмой на плечах; и тут, и там — пертурбация перспективы и восприятий, рождающая звуковую метафору; в «В» при этом дрожит «сверкающий смех», глаза «с пением», травы же звенят, как «серебряные колокольчики»; в «МН» блистает соловьиная песня; при взгляде вниз на глубокодонные линии поморий в «ТБ» поднимается «красный звон»; картину блесков в «СЯ» сопровождают «серебряные песни»; в «СМ» — в миг смещения перспектив «с чудным звоном разливается свет» (СМ).
Звуковая метафора — не реторика в первой фазе, как думают критики; самая гипербола здесь реальна; но критики видят не блески, а фигу в виде... полового органа, который и пририсовывают к пруду: ввиду слов «объятия» и «сладострастный»; после чего, пожалуй, и в ложке, опущенной в чашку, увидишь эротику; то же, что надо увидеть, — не видят; и не имеющий ушей и глаз Мандельштам видит безвкусие в удивительном сравнении падающих вниз коней со змеей; для него, конечно же, дичь: «кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы; мост растягивался и ломался на своей арке, будка валилась навстречу» (НП).
Купстштюк рельефа в моих «Симфониях» — разгляд предметов всадником, пустившим лошадь галопом (многие страницы писал я в седле); Гоголю ж перспективу страннила дорога: «неведомая сила
130
подхватила... на крыло... и сам летишь и все летит» (МД); не «летят» — критики Гоголя, когда видят риторику в музыке гоголевского рельефа.
Гоголь японцев не знал; можно б сблизить его манеру с манерой иных романтиков, влияние их, если оно и есть, только средство изжить коренную натуру свою; видели в «ВНИК» и в «СМ» сходство с Тиком; Гоголь дружил с кружком московских романтиков, чтивших эстетику Вакенродера.
И — тем не менее: в Гоголе я отмечаю — никем не отмеченное, офырканное критиками «хорошего тона» чудо приема, усвоенного японцами: прием — 1) в умении смещать перспективу, 2) в подчерке фонов, строящих пейзаж, который — выведен, а не вписан извне, 3) в прозрачной чистоте цветописной плоскости и в мастерстве комбинировать на ней пятна (не важны цвета — украинский орнамент, японский ли), 4) в росчерке, стягивающем комплекс движений, которого реальность — не в следовании предметным подробностям, а в верности линии движения, 5) в умении сочетать схему целого с поразительной выпиской одной или двух деталей, 6) в умении применять для лица, поз и жестов гиперболический стереотип.
Сочетание этих шести пунктов сближает всю композицию «Веч» с композицией японской цветной гравюры.
Ландшафт выглядит не имеющим перспективы, «снуется перед глазами» (СЯ), отчего предмет приближен, преувеличен и вычерчен независимо от расстояния; отстоящее от него — обобщено; и если он в горизонте, обобщено близлежащее; у итальянцев же близлежащее — выписано, а все дальнее — обобщено так, как пишет Толстой, которого битва — линия дымов и отрядов (передний план — Пьер или Андрей, в эту битву вперенные); битва в «ТБ» — снующийся у глаз «великанник», или три-четыре тела, выхваченные отсюда-оттуда без соблюдения перспективы; целое — «музыка пуль и мечей».
Вспомните цветное изображение размахнувшегося мечом в горизонт самурая с изощрением завитков вверх летящих одежд и с гримасой-стереотипом; и перед вами — «Степан Гуска», который пустился... напереймы́, с арканом в руке, пригнувши голову к лошадиной шее»; «дюжий» его «размах вогнал... пику»; так «и остался... пригвожденный к земле» враг (ТБ); вместо стратегии отрядов и распределения дымов — две-три фразы: «гатились мосты из казацких тел», «червонели... реки» крови; то — фон; и — преувеличенная деталь — обухом по голове: «голова другого Писаренка, завертевшись, захлопала глазами» на красном фоне (ТБ).
Голова — в полкартины.
Рисуемое часто подано, как японцами, — под ногами: картина, заканчивающая «ТБ», — из глаз сжигаемого Тараса, высоко приподнятого над ней; он видит: «пустились казаки... подгорной дорожкой... загибается дорожка и много дает извивов»; ниже «река Днестр, и много на ней... густых камышей, отмелей, глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашаемое звонким ячаньем лебедей»; пейзаж подан по-японски; и еще более по-японски: казаки
131
остановились на миг над обрывом, «подняли... нагайки, ...и татарские кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, ... бултыхнулись в Днестр» (ТБ); «как змеи» — чудо раккурса; этими чудесами щеголяют японские пейзажисты. Или: взгляд вниз с вершин «каменистых гор, обрывистых»: «далеко видно... море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами..., огражденное чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами..., как мелкая травка, лесами» (ТБ); такой ландшафт видел я; и вы видели, но — только у японцев. И картина Днепра («Чуден Днепр») дана не с берега, а с середины Днепра; и — над ним (как на это доселе не обратили внимания?); отсюда и «величавая ширина», и «без меры в ширину», и отблеск, как «полоса сабли»; и Данило, и колдун из «СМ» видят Днепр сверху вниз; и тень всадника из «СМ», павшая на горы, дана — сверху вниз; у всадника «ресницы опущены»: он видит себя отдающимся в нижних озерах (вниз годовой); и ландшафт лугов из селения сотника дан сверху вниз (В), и хутор Тараса: «оглянулись...; хутор... ушел в землю... Вот уже только шест» (ТБ); и многое другое в первой фазе.
Всюду тенденция: утопить под ноги в море воздуха землю с перекувырком предметов в глубокодонной воде (опыты с зеркалом; и всюду охваченность тел — небом и воздухом, увеличивающая значение фонов.
ФОНЫ ГОГОЛЯ В ПЕРВОЙ ФАЗЕ
Роль фона огромна в японской цветописи; фон Гоголя в «Веч» — «небесный» воздух Украины: главным образом днем и ночью; действие на три четверти происходит под небом; не разработана комната (в «МД» — да); Гоголь здесь — пленэрист1, ослепленный солнцем, месяцем и звездным блеском; в комнатах он точно еле видит предметы; тому причина, быть может, и незнание крестьянски-казацкого быта; но он с ловкостью выходит из затруднения, перенеся действие под открытое небо.
Чаще всего фон ночной; ударные места в «Веч» и в «В» даны ночью: действие «ПГ» ночью; 7 сцен «МН» — в сиянии месяца и в пятнах теней; фон — сине-серебряный; на нем темносиние, сине-черные, полосато-пятнистые плоскости; в «ВНИК» ударные сцены — ночью; в «НПР» 12 из 14 сцен — ночь; в «СМ» 9 ночных сцен (7 дневных); в «В» — ночь доминирует; в «ЗМ» — тоже; лишь в «СЯ» и «ТБ» стоит главным образом день.
Два ночных фона: кубово-синий с серебряным просверком, и черная японская тушь: «хоть в глаза выстрели» (ВНИК); «обволокло черным рядном», «темно, как под... тулупом», «ни... кулака не видно», «темно, ...как... в погребе» (ПГ), «ничего не могло обозначиться» (В), «ни звезд, ни месяца» (ЗМ); кубовый фон со
132
звездами: они — кое-где; или — «пояс звезд», «гущина звезд» (ТБ); небо ими «засеяно» (СМ); они — «огненные» (МН); «играют в жмурки» (НПР), мелькая «острым блеском» (МН). Чаще — фон лунный, дымящийся светом: «странное... сияние», бледный блеск месяца (МН), «светит по всему миру» (СМ); сияние — «сквозное... легко... дымилось» (В); и все покрыто «белою, как снег, кисеею» (СМ); все в нем «становилось несвязнее» (ПГ), «будто спало с открытыми глазами» (В); все — «неопределенность и даль» (МН).
На фосфорическом фоне «леса, полные мрака, кинули огромную тень»; лес тоже «мрачно чернел» (МН); лес да тень от него охватывают две трети картины; «кусты», как кометы, «острыми клинами падали» (В); резные линии черных и синих лесов — врезаются в сияющий месячный фон: «черный лес» (СМ); «чернел... лес» великолепно, «обсыпаясь... на оконечности... тонкой, серебряной пылью» (МН); «синеют леса» (СМ); на черном, или кубово-серебряном — пламенно-красные просверки: молнии в «ПГ», выпыхи испуга из глаз в «ВНИК», искры из рта ведьмы; искры — на воде (СМ), из трубки (СЯ); красивые зарева польских усадеб; на них — черные крестики снующих птиц, черные суки́, и черное тело повешенного (ТБ); зарево костра в степи; и в нем — красные платки летящих гусей (ТБ).
Редкая способность дать картину из света, мрака и отсверков — двумя лишь штрихами: сбоку в сияние врезывается зубцами лесов, осыпающихся по краям серебром, черное, мощное пятно; а на переднем плане вырезное, черное кружево, или завесь поставленных перед небом вишенных дерев; к этому штрих — «пруд подул свежестью»; и — пейзаж готов (МН); он врезан в память; картина кажется неописуемо переполненной; а она — три штриха кисти. Или: от сияющего фона отнята половина; дугой снижается черное пятно; из дуги — две-три черных крапинки врезываются в сияние; выше — четкий золотой серп; и — весь ландшафт дан: «крутою стеной,... вознеслась покатость, на вершине ее покачивалось несколько стебельков былья и над ними... луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота» (ТБ); под этой фразою, ею освещенная, — целая сцена (Андрей с татаркою крадется в город); в воспоминании держится впечатление, что все тут — ландшафт; тут Тургеневу была бы работа на пяток страниц; у Гоголя же полность ландшафта — приведенная мною фраза; в ней росчерком дано все чудо фона! Или: серебряно-синий фон: на нем темные вырезы хат; и — огонек: «хата светилась в конце улицы» (МН); или — все темнокубовое; в нем розово-красное; в розово-красном красные платки в зареве летящих гусей (ТБ).
Таковы чудеса ночных фонов; они — комбинации пятен с красными искрами (двухцветка-трехцветка); и фокус фона — луна, кстати, рисуемая сходно во всех фазах творчества.
У Пушкина ночное светило чаще — «луна в облаках» (75% всего материала поэм и стихов); у Гоголя «луну» встретил я лишь 4 раза; и раз она — «белое пятно»: тусклит из туч (ЗМ); луна Гоголя
133
всегда — «месяц», и четкий, и ослепительный; слово «месяц» встретилось мне 16 раз из 27 лунных явлений («серп» — 4 раза; «луна» — 4 раза; «царь ночи» — 1; «нежный шар» — 1; «пятно» — 1); чаще всего он бело-серебряный, усиливает белизну, бросая платки на стены домов (ОТ) и хат («Веч»); раз — «синеватый», раз — «огненный»; раз — «червонного золота серп»; он — «блистательный», «светлый», «огромный», «плавно поднимается» (НПР), «светлеет, как какое-то солнце» (В), «величественно вырезывается» (МН), «исполняет торжественным светом», «с середины неба глядит» (МН) и «обсыпает серебряной пылью» (МН); вот что есть «месяц» Гоголя (остальное, что можно о нем сказать, отнесено к фону, которого фокус он); в таком обличии он очень близок к «месяцу» в изображении... Тютчева1.
Реже дневные фоны, хотя тоже часты; они — стремительные удары солнечных лучей» (СЯ); бестенный, безоблачный, белый, «разрушающий жар»; туч — мало: «ни облака; в поле ни речи» (СЯ); тень — коротка и резка; и в ней — «прыщет золото» (СЯ); всюду — зажженные «массы листьев» (СЯ), «изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых» (СЯ); пышащий, напряженный, ломающий перспективу, приближенный прямо к глазам этот фон — рвется: в ночь: день... ясный и солнечный; тишина... мертвая»; но — «признаюсь, если бы ночь самая бешеная... настигла меня одного средь непроходимого леса, я бы не так испугался..., как этой ужасной тишины среди безоблачного дня» (СП); день Гоголю — «к худу»: «мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем» (СМ).
В дне этом «ослепительное», «беспокоящее», «огнящее листики», делающее пруды днами «медных тазов» — солнце; лучи его радужат; «пропылав свой полдень» (СЯ), обливает оно «теплотворным светом» (ТБ), «зелено-золотой океан трав» (ТБ), переливает в золото «снопы», «дыни», «тыквы» (СЯ), перерождает нивы в «праздничные плахты» (ВНИК); и уходя, бросает свою всегда у Гоголя красную зарю, которая только в «Риме» — малиновая, пурпурная и светло-желтая; реже в небе горит ее «розовое золото» (ТБ).
Два раза у Гоголя в первой фазе бессолнечный день: день отъезда Тараса в Сечь (ТБ) и тот день, когда пани Катерина проснулась от своего ужасного сна (СМ).
Краскопись «ТБ», «В», «СМ» скорей — «небопись»: сквозная, прозрачная с отсверком; эффекты фонов — небо, воздух, вода — зеркало; небо — «океан» (СЯ), «глубина» (СЯ), а не вышина; таким оно остается у Гоголя («синяя глубина» в «Р»); оно — ясно-прозрачное, не раз необъятное, звучное, озаренное «тонким светом» (П), «невыразимого» (Р) темносинего цвета; в «Р» «МД» есть и «серебряные» небеса и небеса цвета «весенней сирени». Функция этого неба: и обнимать, и касаться, но не «половым органом», как
134
думают фрейдисты, а воздухом; и не для «полового общения»; а для целей перспективы: быть таким фоном, а не иным; возду — тоже «неизмеримый» (СЯ) «океан» (СЯ), — «теплый» (МН) «океан благоуханий» (МН): небесный воздух — чистый, легкий, «непостижимой голубизны» (Р); «все в нем близко, можно схватить рукой» (Р), — вот что в нем важнее всего (не половые функции); месяц смещается в нем; и — схватывается рукой (НПР); Вакула, пролетая мимо, нагибает голову, чтоб за него не зацепиться (НПР); и все — от воздуха, из которого выводятся и предметы: он держит в объятиях их, покрывает искрами; когда покрывает все собою при взгляде сверху вниз, то все делается стеклянным.
В иные моменты стеклянен весь гоголевский ландшафт; почти всегда — вода стеклянна.
Она — могучее орудие для инсценировки ландшафта; даны три ее модификации: 1) прозрачность глубины, 2) зеркальность, 3) зыбкий издрог; вода — горный хрусталь (В), бисер (В), серебро (СЯ), зеркало (всюду); сквозь нее, «как сквозь стеклянную рубашку» (СЯ), показано дно; она — «зеркало» — в зеленых рамах (СЯ), «голубая бездна» (СЯ), «голубая зеркальная дорога» (СМ), «речное зеркало» (СМ); она и поздней зеркало: сквозь деревья блеснули «отовсюду зеркала» (озера) (МД, 2); она пропадает вдали «блещущими загогулинами» (МД, 2); гребцы несутся по хребту «зеркального озера» (МД); коли она — издрог, то «колышется, как дитя в люльке» (МН), вздрагивает, «как... шляхтич в казацких лапах» (СМ), «бьется о берег, подымаясь и опускаясь вниз» (СМ); «ветер дергает воду рябью» (СМ); она бьет «звонкой алмазной дугой» (Р) и т. д.
Вода-зеркало — подставное, второе небо, глубинящее и перекувыркивающее; вода-издрог — средство: цель — отсверки; комбинат вода — небо — блеск создает впечатленья цветного стекла многих очень ландшафтов; в них цветопись — светопись; «ослепительно блистали», «горели», «сыпались» — «массы листьев» (СЯ), «верхи... шатров» (СЯ), «цветок» (ВНИК); в тенях «прыщет золото» (СЯ), из которого вылиты «скирды», «тыквы», «дыни» (СЯ), «зелено-золотой океан трав» (ТБ); «тонкий розовый свет» (СМ), «серебряный туман» — окрестность (МН); «воздух в... серебряном тумане... прозрачен» (НПР); «снег загорался... серебряным полем... и... осыпался звездами» (НПР); ландшафты блесков; луч, как резец, провел звуки свои по стеклу, и они певуче сверкнули цветистым зигзагом — предметов, деревьев и человеческих тел; порой кажется что огромное толстое стекло, заслонившее солнце, исщерблено резцом бор-машины; здесь снята ровная плоскость стекла; там остро прощеплены линии контура; и солнце просвечивает лучами сквозь сияющие прощены, «звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью» (В); и — солнечно пресуществляет тела.
В одном месте нога, «созданная из блеска и трепета» (В); и — «облачные перси... просвечивали» (В); глаза с пением... приближались» (В); но «задрожав... сверкающим смехом», она удалялась
135
(В). В другом месте, где тоже выстроен звуком стеклянный ландшафт, «что-то белое, ...будто облако, веяло...; стоит..., не опершись ни на что, и, сквозь нее, просвечивает розовый свет» (СМ). В третьем месте, где перекликаются «блистательные песни», «в... серебряном тумане... девушки»: «тело их... сваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь» (МН); одна лепечет: «они не смываются, они не смываются, они ни за что не смоются»; и лепет — музыка.
Здесь блеск — не гипербола, а реальное условие бытия контура, выщербленного из стекла: склик — воды, звука, месяца выливает стекло; натуральное тело казалось бы влепленным тестом; оно — неуместно: в стекле; и казалось бы здесь извращеньем натуры фона. Светопись подстилает цветопись в первой фазе; припомним: мозаика, цветное стекло и предшествовали, и родили Джиотто, в котором рождалась позднейшая живопись; история живописи в прозе Гоголя от стеклянного пейзажа в отрывке «Утопленница» (МН) до описания плюшкинской комнаты аналогична истории живописи от равенской мозаики, через Джиотто, к... Рембрандту; историки живописи умеют различать реальность и нереальность позднейших голландцев; Рублев при известных требованиях — реален; и не реален, например, Константин Маковский.
Критикам Гоголя пора бы это понять; и разбирая стеклянные пейзажи и масляные, уметь отличать натуральность стеклянную от натуральности масляной; ибо и в «наинатуральнейшей» живописи ненатурально условие ее бытия: она — двухмерна.
Краска Гоголя в стеклянных ландшафтах — окрашенный светоч; тенденция цветописи первой фазы есть вспых; и оттого цыгане не курят, а — «два раза осветили себя молниями» (СЯ); зарубились и «искрами осыпали себя казаки» (СМ); оттого у них «красные, как жар, шаровары» (ПГ); у панночки — «блистающие пальцы» (В), а Данило посинел сквозной синевой, став, «как Черное море» (СМ); море призвано на подмогу — напомнить: на этом стекле все прозрачно; если бы на стекло наляпали жирную и непрозрачную краску, то была бы безвкусица, — такая же, как если бы, нарушая условности оперной позы и ритм, исполнитель Зигфрида вдруг для реальности почесал себе поясницу.
Гримаса такая — реальность ли?
Сверкающие существа имеют характер, но — не Солохин, Параскин и Хиврин; Солоха, хотя и «ведьма», а — баба; одень ее в сукно, или в капот Василисы Кашпаровны, — суть не изменится; «ведьмочка» же, Катерина, — не то: последние, вдавленные в даль веков, даже вывлеченные из мира, не перестают желать, волить, мыслить, но — по-иному: «щеки, пылавшие жаром тайных желаний...; уста..., готовые усмехнуться смехом блаженства, потопом радости... В них... он видел что-то пронзительное» (В); «чело... казалось, мыслило» (В); и мелькает — Хоме Бруту и нам: «что-то страшно знакомое... в лице ее» (В); Хоме Бруту мелькает, что — «ведьма», а мне — что-то от... Настасьи Филипповны, смешанной с Катериной
136
Ивановной, женщиной «великих порывов» у Достоевского; ведь именно Грушенька в Карамазовых возбудила «бесовски-сладкое чувство», «пронзающее, ...томительно-страшное наслаждение» (В), — то именно, что Хома Брут отнес к «ведьме»; поздней «ведьма» выявилась, как труп: «труп... вперил на него.. позеленевшие глаза» (В); и тогда — «что-то страшно знакомое... в лице ее» (В); для меня это лицо... Гедды Габлер в минуту, когда она узнает, что Левборг пустил себе пулю не в грудь, а... в живот1; «труп» — извращенная декадентка; и за нею встает, тоже мертвая, Ирэна из драмы «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»2; у той тоже стеклянное тело с тоской по сияющему преображению, выявленному корчами женщины «великих порывов» Достоевского, и еще более истеричкой передового... гниения буржуазии: конца века; «стеклянные» героини Гоголя, сияя, летают и падают в глубине истории («дела давно минувших дней»); Гедды Габлер, сияя гнилостно, слетали с башен — и «вверх пятами» — на рубеже двух столетий; мы видели их; они вперяли позеленевшие в нас глаза: иные же жалко доживают... средь нас: «Бабуся, что ты? Ступай, ступай себе!..» (В).
Мелкопоместный быт не рождал таких женщин; в великосветском круге начала прошлого века... еще не созрел такой «фрукт»; он созрел в буржуазии конца века; но гнилостный зародыш сидел уже в классе, который слагался и которого Гоголь не знал, не мог знать; но, как знать, — провидел? Ведьмочка «Вия» реальна не тем, что летала, а тем, что летанье ее — предощущение больных порывов; и Гоголь, изобразивший, по словам Виноградова, декадента до «декадентов» в опиомане «НП», изобразил будущую Гедду Габлер под ведьмовской формой, — изобразил характер без тела, без еще быта: в стекле своей светописи; пусть думал он, что его ведьма — «ведьма»; и «ведьма» реально раскрыта уже после Гоголя в ряде учебников психопатологии; вот почему и «страшно знакомое показалось в лице ее»; и она «реальна» в условиях своего «стекла».
Тенденция «стеклянной действительности», имманентной ритму, не могла быть осознана за отсутствием объектов тенденции, лежавших в утробе их вскоре родившего класса; они и были Гоголем перенесены в «назад»; и показаны «фантазийно»; они предуведомляют: действительность конца века — уже стучится: в начале его.
Опиомана Гоголь взял у де-Квинси, которого знал и... Бодлэр; в изображении грядущих людей «изыска» (ведьмочка — «изысканный тип»), в восприятиях цветного слуха, певучего света и т. д. — Гоголем предвосхищен: «изыск» конца века; «народные» монологи утопленницы из «МН» перекликаются с монологами «бледных дев» Метерлинка; иные звуки «Портрета» даны в унисон с... «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда; а когда крыши домов у Гоголя начинают «зевать» (МД), то вспоминается... Маяковский, у которого
137
«пушек шайки на лужайке» ... щиплют травы; Петух же, право, есть провинциальный... Дезесент: в отношении к пище; но все эти ноты в Гоголе на протяжении истекшего века прошли мимо критиков вместе с «японством», «смещением» перспектив и «стеклянным» пейзажем.
КОМПОЗИЦИЯ В ПЕРВОЙ ФАЗЕ
Иные исследователи подчеркивают: скуден-де пейзаж Гоголя1; не скуден, а — экономен; тургеневских амплификаций в нем нет в первой фазе; и нет отдельных — сюжета, жанра, портрета, пейзажа; здесь все — как бы итог распределения на участки плоскости фона, который звучит; у Толстого, Тургенева больше пейзажных подробностей; Гоголь — декоративен; вот синтез выдержек из «ТБ», рисующих казацкий поход: «Табор подвигался только по ночам... Пожары обхватывали деревни... Бегущие толпы монахов, жидов, женщин омноголюдили города» (ТБ). Казаки обложили город: «Поле... занято раскиданными по нем возами... Возле телег, под телегами, на телегах... разметались в траве запорожцы... кто, поместив себе под голову куль, кто — шапку, кто... употребивши товарища: тяжелые волы лежали, подвернув под себя ноги... большими беловатыми массами, и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля... Там обгорелый, черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно...; там горел монастырский... сад; и когда выскакивал огонь, он... освещал... лилово-огненным светом спелые гроздья слив, или обращал в... золото... желтевшие груши, и тут же... чернело... на древесном суку тело бедного жида... Над огнем вились... птицы, казавшиеся кучею темных, мелких крестиков на огненном поле» (ТБ); фон этого фона — «музыка пуль и мечей» (ТБ); «грянули в семипядные пушки..., четырехкратно потрясши глухоответную землю» (ТБ); на авансцене брошены в глаза за фигурою фигура, стилизованные по-японски (бой самураев): «Кукубенко, взяв... тяжелый палаш, вогнал его... в самые... уста»; палаш «вышиб два сахарные зуба..., рассек надвое язык, разбил горловой позвонок, и вошел далеко в землю... Ключом хлынула алая, как надречная калина, ...дворянская кровь и выкрасила обшитый золотом желтый кафтан» (ТБ); жестокое своеобразие деталей (горловой позвонок, надвое язык), поза, цвета (желтый — золотой — алый), размер фигуры — на фоне «музыки пуль и мечей» скомпанованы цельно; здесь краска — тональность; рисунок — мелодия.
Гоголь стягивает сложность массового движения в быстрый зигзаг, створенный с фоном; гиперболический ход на «все» здесь совсем не реторика, а композиция: все село хваталось за шапки (МН); все, как груши, повалились: заданье — дать из музыки росчерк движений; и он — вихревой завиток там именно, где и Толстой и Тургенев ухлопывают страницы; а впечатление от росчерка не уступает
138
по силе страницам: происхождение гоголевской перспективы, и в ней компановки из динамизации мускулов: «отплясывал... заломивши шапку чортом... четверо старых вырабатывали мелко ногами, покидывались, как вихорь, на̀ сторону, и вдруг, опустившись, неслись в присядку, и били круто и крепко серебряными подковами» (ТБ); во всем — действие смычка, сливающее в гармонию разнобой: «все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие» (СЯ): перо, как смычок, в быстром тремоло завиточком сжимает комплекс движений: «вам, верно, случалось слушать где-то... отдаленный водопад, когда... окрестность полна... чудных.., неясных звуков» (СЯ); тут же перо дает росчерк: «народ срастается в... огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади, и по тесным «улицам» (СЯ); и — образ какого-то многонога, спутника японских гравюр; или: отряд казаков подан линией: «...и казаки, принагнувшись к коням, пропали в траве; уже и черных шапок нельзя было видеть, одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега» (ТБ).
Струя травы, — росчерк отряда, — не из той ли лепечущей струи, о которой Гоголь говорит: «Верхние листья начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась по ним до самою низу» (ТБ); происхождение завитка — звуковая струя; а массовое движение — орнамент из фона; отсюда и «красное море запорожцев», и «высыпали черные кучи», и «колебался живой берег» (ТБ).
Из массового движения, как завиток завитка, и как рожица фавна из орнаментальной розетки, рождается и движение обособленного тела: «у них были неохраняемые... границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме» (ТБ); синекдохи: татарин, турок — раккурс всего исторического положения, дающий отвито́к: «маленькая головка с усами уставила на них узенькие глаза, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала» (ТБ); раккурс народной судьбы дан вот этою вот головкой какого-то татарина, вынюхивающего, как собака, Тарасов след. И жест поздней обобщен (связан с фоном): татарин (читай «крымцы») кусает в пятки. Росчерк переливается в фон; встает система травою заросших от Крыма до Киева границ; и — ряд вопросов, поднятых узкоглазой головкой; она гончая — в казацком тылу; и серна — перед казацким фронтом.
Такова стилизация «татарина».
Травы — отсутствие границ; и в травы уходит домашний очаг (конец первого отрывка «ТБ»); травы — под домом Тараса; «татарин» всегда где-то рядом; выглядывает; «тронувшись, оглянулись назад; хутор... ушел в землю; ...уж один только шест..., уже равнина... все собою закрыла»; «высокая трава... скрыла их»; уже «и черных шапок нельзя было увидеть»: «только струя», как след ска́ча; следует описание «зелено-золотого» океана трав, данное светописью (и оттого «крик лебедя... как серебро»); и уже: «Смотрите, детки... татарин!» Выюркнул! Таково положение всякого казака-хуторянина;
139
«дедовские хоромы... Данилы» такие же незащищенные: «за ними еще гора, а там уже и поле, а там, хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака» (СМ); и оттого через 8 отрывков: «с луговой стороны идут ляхи»; и — «стоит на горе и целят в него... мушкет гремит, — и колдун пропал за горою» (СМ); индивидуальное положение — массовое; и тот же фон светописи с явленной из нее степью, поднимающей звуковую метафору; и — вспыхи «розового золота» над «зелено-золотым» океаном, створенные с ним, выныривают: и Тарасов отряд, и татарин, и Сечь, сама фабула, сама тема казачества, которое и «орнаментальный завиток» из ландшафта, и «мысль» первой фазы; но «мысль» — музыкальный ландшафт; цвет и звук в ней слиянны.
Казаки, — этот, тот, — завиточки орнамента, или казачества, данного в «тремоло» раккурсов: «перецеловались навкрест», «из казацких штанов нарезали парусов», «ходили к анатолийским берегам, по крымским солончаковым степям...; изъездили... Черное море двухрульными челнами» (ТБ); быт выветвлен ландшафтом в стилизациях массового движения («пошли, пошли и зашумели, как море») народца, сросшегося в одно туловище (СЯ); толпы рисуются росчерком: «литавры грянули, ...на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи»; звук дает завиток; и от него — отви́тки-детали, брошенные на передний план: «показались... кошевой с палицей в руке, судья с войсковой печатью, писарь с чернильницей» (ТБ); фон — шмели; кошевой, судья, писарь — смазаны; четко вляпаны: палица, печать, перо. Курени — «кулаками ломали друг другу бока» (ТБ); и ответвление-завиток для деда в «ПГ»: «проходил кулаками по казацким рядам».
Из зигзага кисти художника по траве — выныривает ряд казаков (казачества) — на конях; и «конь, как огонь», слиян с этой ритмическою фигурой, дробочущей и без коня «серебряными подковами»; остановился; и — отяжелел: двадцатипудовое, дебелое, жирное тело, кормящее мух; тут вступает в права свои быт; и казак перерождается по линии: Тарас — Пацюк — Довгочхун; он один в композиции ритма; и он другой вне его; в нем — героический «батько»; вне его — мелкий помещик, если не мужик-кулак.
«Казачество» — композиция, которой слагаемые — социальная тенденция, сюжет, ритм; и они имманентны друг другу; нет в первой фазе тенденции, не данной цветами и звуками; и нет красок зря, ни с того, ни с сего; но и нет личности; вместо нее — стереотипы: доброго молодца, дебелого отца; и — «деда» в них, расхаживающего с бандурою и распевающего: «будет, будет бандурист, с седою по грудь бородою..., белоголовый старец, вещий духом» (бдт-бдт-бндр-рт-рд-рд-тр) (ТБ); голос его — удар меди колокола, «красный звон», зажигающий и «красный» вспых (красное доминирует в первой фазе); и пылают: «красная, как огонь, свитка» (СЯ), «красный жупан» (СМ), алые, «как жар», шаровары (ПГ); и сыплются искры, как из огнива, трущихся друг о друга и «звукнувших» сабель (СМ).
Все это дед народил; народ — род; а род — он.
140
Встает «все-казак»: и «конь, как огонь» (ПГ), и красные, «как жар», шаровары (ПГ), и «казакин алого сукна, яркого, как огонь» (ПГ), или «синий жупан» (СМ), перетянутый ярким, цветным поясом; при боку волочащаяся и брякающая сабля; «люлька на медной цепочке по самые пяты» (ПГ); шапка из черных смушек с красным, бархатным верхом, или с золотым верхом: «чернели, червонем черные, червонноверхие шапки» (ТБ); оселедец, с пол-аршина, два раза завернут вокруг уха; «чмокнул жену», — и был таков; таковы: Тарас, Данило, Остап, Кукубенко, покойный «дед» тетки из «ПГ»; каждый — «вывел коня, чмокнул жену» — и был таков; мчится с головой, прижатой к коню, по струе сжимаемой травы; хлещут в лицо — утро, день, вечер, ночь; конь мчит, «вковавши очи во мрак»; огонек — несется навстречу; соскочил с коня: «горилки..., чистой, пенной, чтоб играла и шипела, как бешеная» (ТБ); выдробатывают, вертясь точно «бабье веретено», ноги под топот, похожий, «на ропот отдаленного моря» (СЯ), «семерых изрубил, девятерых копьем исколол»; «садись, Кукубенко, одесную меня!» — скажет ему Христос» (ТБ); «размет воли» (ТБ), как размет травы ветром.
Каждое движение казака — завиток из пленума движений казачества; особенность каждого жеста — у каждого: неповторимость, непроизвольность: воля каждого — в размете воли всех, который — из ветра: «наигрывает», наклоняя «серебряные ивы» (СМ); это — «пьяная молвь» «вещего» деда, невидимо проходящего сквозь всех: с бандурой в руке.
Жестовой круг — тема целого; вариации — каждый жест каждого; слышит ухом; и вытопатывает; вытопотан ландшафт древним ритмом, серебряными подковами: в украинском народном стихосложении «падение звуков... быстро; ...строка... не длинна; ...цезура... с звонкою рифмою, перерезывает ее... Рифмы... сшибаются... как серебряные подковы»;1 казаки вытопатывали «серебряными подковами»; и безумная пани Катерина — тоже; оттого и «серебряный голос», в «яркий, как серебро, крик», и серебряное сияние, и — черный контур дерев — обсыпается серебром.
Все — во всем!
Я внимательно обследовал казацкие жесты и «Веч» и «ТБ»: ни одного жестового повтора! Казак — импровизирует каждый свой жест (чиновник и мелкий помещик в «МД» — повторяют все тот же жест, который у каждого — свой); круг казацких движений огромен, как и казацкий круг; и он ярок контрастами; каждое движение, плавно сменяясь движением, как волна за волной, убегает: в неповторимость; движения каждого героя «МД» — повтор все того же неплавного, как... острый угол, зигзага...
Вот малая дужка огромной окружности всех движений «Веч» и «ТБ»: поведет рукою усы (ПГ); заломив шапку чортом (ТБ), подпершись в бока (СЯ), постоит спесиво (ТБ); моргает усом (МН);
141
как будто прислушивается (МН); и пойдет, «пустив за ухо оселедец» (ТБ) — козырем (СМ); пальцы «складываются в дулю» (Пред. I); на все, что ни случится, посмотрит, ковыряя пальцем носу (ТБ): «хоть ты ему что хочь» (ТБ), дергает «итти наперекор» (НПР); утаскивает... «старую подошву сапога» (В); «отхватает апостола» (ПГ); и силится что-то припомнить (ВНИК), собираясь объявить «такое важное, что... не можно сказать какое» (ТБ); поставив палец перед собою, рассказывает вычурно и хитро (Пред. I), «отчего светит месяц» (В) — под звуки песни, «которой... смысл вряд ли кто разобрал» (В); руку под щеку: рыдает, отчего у него нет отца и матери (В); и после: взлезет верхом на свиного пастуха (В), или выметнет «на̀-вихорь... штуку» (ЗМ).
Волна за волною, смывая друг друга, за жестом жест убегает в неповторимость; круг не прежде замкнется, чем обойдет весь народ, что никак не случится: народ пророждается: в новое время; и — вдруг: стоп! Замкнут круг; не гопакуется деду в «ЗМ»; и Чуб стал мыслить «наперекор себе» (НПР); и оттого двойные, «себе поперечивающие» чувства («бесовски-сладкое», «томительно-неприятное») — всюду; и уже Тарас разломал свою саблю надвое; и уже ропщет Данило: казачество-де оскудело; где «дед»? Дед — «великий мертвец» (СМ); и оттого — всюду «ото́рванцы» от рода: Петрусь Безродный (ВНИК), Петро, переступивший через род (СМ), Хома Брут, не ведающий ни отца, ни матери (В); не чист род Петруся, Петро, Хомы; и гибнут — от нечисти, в нечисти: Петров праправнук, Петрусь и Хома; тут — конец первой фазы; тут гаснут — цвета, звуки, отсверки; и распадается плавный, как танец, и неповторяемый жест: в точки, в атомы жеста, — в повторный, все тот же у каждого, жест; из казака вылезают: Григорий Григорьевич Сторченко вместе с Иваном Никифоровичем Довгочхуном.
Таков переход: от композиции к бытовому сюжету в ней; композиция — фон; сюжет — авансцена; всюду дан переход от нее к композиционному фону, в котором Тарас, все-казак, лишь правофланговый за ним мыслимой линии «батек», створяемой где-то вдали с горизонтом; орел средь орлов, севших на откосе «обрывистых... гор», с которых видны данные под ногами поморья, — створен он с откосом; незабываемое лицо его не имеет личного выражения: чупрына, как у всех, белый ус, как у многих; незабываемы — брови: хмурые, исчерна-белые брови, подобно кустам, выросшим по высокому темени гор, которых верхушки занес иглистый, северный иней» (ТБ); в бровях — характер; он выщерблен ландшафтом: таковы «батьки», таков «дед»; брови у всех — кусты вершин, где уселись орлы, или — думы казачества: «как орлы, озирали они все поле и чернеющую вдали судьбу свою» (ТБ); и показана даль глубины под ними: в ландшафте сравнения (см. 8-я глава «ТБ»). Тарасов характер, Тарас и ландшафт под орлами — единый росчерк судьбы казачества; и здесь створенность — фигуры, морали, тенденции, стиля о ландшафтом.
Тенденция первой фазы лежит в композиции; и это вовсе не
142
значит, что композицией предопределена она; что-либо предопределяет что-либо, когда что-либо внеположно чему-либо; здесь еще внеположности того или этого тому или этому нет; то и это еще — формообразующий процесс в объекте тенденции, посылаемой субъектом спроса; субъект — коллектив; в нем тенденция предопределяет процессы творчества; объект — художник: его тенденция — внимать тенденции; процессы творчества — передачи тенденций; под тенденцией автора часто по недоразумению разумеют тенденцию присвоения ограниченной личностью того, что ей принадлежать не может; когда Гоголь присвоил себе тенденцию, то он... положил перо; рассудочно осознанная им тенденция оказалась в противоречии с тенденцией творчества, которая разрушила быт класса, его породившего; он же ее осознал как тенденцию возрождения им же разрушаемого.
Сентенции второго тома «МД» — ужасают безвкусием; сюжет, стиль и тенденция первой фазы имманентны друг другу: в декоративности; декоративный росчерк — падение Кукубенки с углубленным под сердце копьем; извивом одежды подан — полет души в небо; и возглас: «Садись, Кукубенко, одесную меня!» — окончание завиточка взвитой одежды; сентенция, реторика, в первой фазе суть еще декоративные завитки: части рисунка; и средства к росчерку.
Реторика в «МД» — самоцель.
Японский росчерк, как бы играя, вдруг счертит деталь; это значит: сюда смотри; фокус — здесь; эти детали — тенденции указательного пальца автора; итальянская живопись не знает его; японская играет в «фокусы», как в мячи, перекидывая их слева направо и закидывая с переднего плана в самую глубину горизонта.
У Гоголя присутствует указательный палец; вот подробность из целого: дороги ползут, «как раки» (МД); в чем тенденция восприятия? Почему вдруг деталь? Для чего «раки»! Для того, чтобы стало ясно: рост их — вспять; движение, пусть и потенциальное, влеплено в перспективу; народ «снуется», «речи потопляют друг друга», «ни один крик не выговорится»; все общо; вдруг из общего — хлопанье торгаша в ладоши (СЯ): «перекидывались бранью» — общо; «... и раками» — деталь (СЯ); такие ж детали из росчерков: «точка» чайки в «океане» воздуха, «красные платки» на розовом вспыхе (ТБ), «черные крестики» на зареве и т. д.; задача их — к ним, как к фокусу, привязать глаз, чтоб из этой детали увидеть целое.
Многие критики тыкают в нарочно данное пустым место пальцем и попадают в небо: «Пустая реторика!» Товарищ критик, — не сюда глаз, а — в «точку», мимо которой — вы; тогда — все наполнится; у Гоголя иная пустота полней наполненности «сентенционным штампом»; сентенция Гоголя первой фазы дана декоративной деталью общего росчерка: «червонели реки крови» — лишь фон, на котором кричит ужасом бичуемого зверства деталь: отрубленная, но хлопающая глазами голова «другого Писаренки» (ТБ).
143
Гоголь из первой фазы показывает чудеса неоцененного декоративного мастерства, сопровождаемого звуком музыки: «окно с цветными стеклами... озарилось розовым, и упали от него на пол голубые, желтые... света...; ...дым остановился в воздухе радужным... облаком... Стон органа... разрастался... и... вдруг... понесся высоко... звуками, напоминающими девичьи голоса» (ТБ); или: внизу лестницы, под арками с гербами «сидело по... часовому, которые... симметрически держались одной рукой за... алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы» (ТБ); всюду жест сопровожден звуком: «кинулась к нему..., обхватив его... снегоподобными... руками... Раздались... на улице... крики, сопровождаемые... литаврным звуком» (ТБ); и жест, и звук сливаются, чтоб подчеркнуть слом фабулы: измену Андрея (ТБ).
Как река в извивах, переменяющая «свои окрестности» (СЯ), как подгорная дорога, по которой извивами неслись кони казаков, как линия сжимаемой конями травы, — быстро несется сюжет «ТБ», «СМ», «ВНИК», «В» — сцена за сценой, — не давая читателю отдыха, переменяя краски ландшафтов, откантовывающих сцену от сцены; какая противоположность действию третьей и второй фаз, где сюжет или линия, или — точка; здесь же — ширящаяся спираль.
Полет сцен в «ТБ».
Первая: день, солнце, хуторок; тесно, предметно, комнатно; обухом но голове — Тарас, сыны, кулачки, пир, прибаутки, решение ехать, горе старушки матери, великолепье рассвета, облечение в «казаков»; и — хутор ушел в землю; прощай «и детство, и игры, и все, все». Стремительно, интересно, ералаш, кавардак; вторая сцена: бессолнечно, широко, беспредметно; и — плавно льются воспоминания; смены степных картин, эпизод с татарином, характер казачества, подступающий с горизонта Днепр и группы запорожцев; сюжетный извив отрезан от первой сцены, как и самая степь отрезана — третьей сценою, где встал быт Сечи, иной по краскам; ее конец — свержение кошевого; четвертая сцена — между походами: приготовление к войне с турками неожиданно в ней оборвано походом на ляхов; тут же и картина погрома; сюжет не дает ни покоя, ни отдыха; задыхаешься от обилия впечатлений, от новизны ситуаций, от вариаций основной темы, от новых красок и новых ландшафтов: поход, поле, Дубно, любовная сцена, турки, речь Тараса, бой, смерть Андрея, устье Днепра, Варшава; и наконец — сожжение Тараса: на берегу Днестра; конец, как все, неожиданен: «гордый гоголь» несется над речным зеркалом; вдоль прибрежий с краснозобыми курухтанами «казаки... плыли на узких двухрульных челнах... и говороли про своего атамана» (ТБ).
Кончается вкусно; а что вкуснее начала? — «Поворотись-ка, сын! Экой... смешной какой!»
Повести первой фазы, как бы ни был шутлив их сюжет, — чудо искусства: подавать галоп пролетающих на конях сцен; композиция их построена ритмом; никакого «по-ве-ство-ва-ни-я»; темы сцен — гопак, галопада; и конь, — «как огонь»!
144
ТЕНДЕНЦИЯ ЦВЕТОПИСИ В ПЕРВОЙ ФАЗЕ
Красочный спектр «Веч», «ТБ», «В» пестр и ярок; мало сложных определений, как «бело-прозрачный», «темнокоричневый», «лилово-огненный» и т. д.; красный, — так «красный»; и он доминирует (84 отметки в реестре); «как огонь» — 10 раз, «как кровь» — 7, «алый» — 7, «червонный» — 4, «рубинный» — 1; «как бакан», «как мак», «как у снегиря» (грудь) — по одному разу и т. д.; красные пятна богаты оттенками: они или — вспых, или чистого цвета пятно; обычны комбинации золотого и красного, красного с синим, красного с зеленым, красного с черным; в «В» пол устлан красной китайкою; алым бархатом покрыто тело в гробу; до полу золотые кисти и бахромы, а свечи увиты зеленью (красное — золотое — зеленое); «с повязанными на голове красными и синими лентами» (СЯ); «цветистый по красному полю платок» (СЯ); «зеленая кофта и красные сапоги» (СЯ); затянуть красным поясом, надеть... шапку из черных смушек» (ПГ); «в синих с красными клапанами кунтушах» (ВНИК); Данило ходит в синем жупане, подпоясанном золотым поясом, и в шапке с красным верхом (сине-красно-золотое) (СМ): лицо «казалось кровавым, глубокие... морщины чернели» (СМ); «в красном жупане с... золотыми шнурками» (ТБ) и т. д.
Таково в «Веч» обычное сочетание пятен.
Следующее по частоте, золото, имеет всего 37 отметок (11,6%); за ним следует пара: черное, синее (11 и 10,7); в группе, обнимающей комедии, «Мирг», Петербургские повести, черного больше (14,1), а синего меньше (6,1); в «МД» синее идет на убыль; в синее и в черное в первой фазе одеты: небеса, воды, воздух, тени, жупаны, лица, шапки; раз — пламя; «синее пламя выхватилось из земли» (ВНИК); «Басаврюк... синий, как мертвец» (ВНИК); «ты посинел, как... море» (СМ); черное и синее даны впестрь друг с другом, с красным, с зеленым, с золотым (реже с желтым): «зеленые и синие леса» (СЯ); черная шапка «с синим верхом» (ВНИК); черный лес; под ним синий Днепр (СМ); фляжки зеленого и синего стекла (ТБ); почерневшая позолота убрана зеленью (В); сочетание желтое — синее редко: «убор из желтых, синих... лент» (ВНИК).
«МН» по краскам исключение для «Веч»: угашены золотое и красное; повесть написана белыми, синими, серебряными и черными пятнами; белое относительно реже в романтических повестях; зеленое не резко колеблется до второго тома «МД»: 8,0—7,7—9,6 (на один процент падает и увеличивается).
В «СМ», «ТБ» чаще Гоголь смешивает цвета в сравнении с другими произведениями этой группы, темносиний, зелено-золотой, изголубо-темный, серебряно-розовый, розово-золотой, и т. д.; в «СЯ», «МН», «ПГ», «НПР» нет сложных цветных эпитетов; в «СМ» исключительно для первой фазы представлены розовые и голубые тона; они встречаются 10 раз; в других восьми рассказах этой группы — всего четыре раза; в розово-голубом дана пани Катерина, образ, нигде более не повторяющийся у Гоголя; чтобы подчеркнуть своеродность
145
образа, Гоголь, точно нарочно, одел ее в редкие для этой фазы цвета; ни разу не упомянуто слово «оранжевый»; один раз — дано фиолетовое (нос торговки); и раз — чисто лиловое (на клириках).
На переднем фоне выписка предметов; натюр-морт не так богато представлен, как в «МД» (менее разработана комната); но отдельности бросаются в глаза выпиской деталей, образуя комнату в музее «предметов» (ценные этнографические и археологические номера): «деревянная люлька в медной щегольской оправе» (СЯ); «в серебряной оправе красная люлька»; при ней «гаман1 с блестящим огнивом» (СМ); «люлька с медной цепочкой по самые пяты» (ПГ); короткая люлька Тараса (ТБ) и т. д.; размалеванная миска (НПР); сундук: «по всему полю... раскиданы красные и синие цветы» (НПР); печь с «запечьями, уступами..., покрытая цветным, пестрым изразцом» (НБ); «резные, серебряные кубки... веницейской, турецкой, черкесской работы» (ТБ); «турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев» (ТБ) и т. д.
Внутренность жилищ не богато представлена; исключение составляют: горница в домике пана Данило да комната в доме Тараса.
Зато костюм богат и ярок; переписка с матерью обнаруживает постоянную заботу Гоголя: иметь верный материал (просьба о покупке костюмов и пересылке ему в Петербург).
Особенно разработан женский костюм: «шитые платки» (СМ): «цветистый по красному полю платок» (СЯ); «платок», на котором «красными шелками вышиты листья и ягоды» (СМ); «ситцевый, цветной очипок» (СЯ); баба в желтом очипке (В); баба «в красном очипке» (В); «кораблик2, которого верх сделан... из сутозолотой парчи с... вырезом на затылке, откуда выглядывает золотой очипок с двумя... рожками из... черного смушка» (ВНИК); «золотой кораблик» (СМ); на головах у девиц «лавка лент» (НПР); чаще «красные и синие ленты»; в них вплетены полевые цветы (СЯ); «убор из желтлых, синих и розовых» лент, стянутых золотым галуном (СЯ) и т. д.
Таковы женские головные уборы.
Кофты, рубашки, юбки: «в... шерстяной зеленой кофте» с набитыми красными хвостиками (СЯ), «в зеленых и желтых кофтах» (НПР); «в тонких рубашках, вышитых... красным шелком и унизанных... серебряными цветочками» (ВНИК); у рубашек — шитые рукава (СМ); «в богатой плахте2, пестревшей, как шахматная доска» (СЯ); яркая плахта с китайской запаской; «а поверх синяя юбка, на которой нашиты золотые усы» (НПР); «кунтуш зеленый» (СМ); синие «кунтуши с золотыми усами (НПР); «в нарядной сукне3, а исподница из голубого полутабенеку» (СМ);
146
«всех цветов пояс» (НПР); «шитые серебром пояса» (ВНИК); на шеях — мониста: «червонное монисто» (ТБ), «красное коралловое монисто» (МН); ноги, обутые в желтые чоботы, «в красные сапоги» (СЯ) с серебряными подковами (СМ).
Набор пятен ярок; костюм пырскает золотыми и серебряными позументами, и он изобразительное лица; запоминаются бабы скорей по очипкам: эта — в желтом, та — в красном; у молодых героинь лицо кукольное («писаной мисочкой»); круглое, полнощекое, белое с румянцем; брови, «точно черные шнурочки, какие покупают... у проходящих по селам москалей» (ВНИК), описывают вокруг карих глаз свои ровные дуги (СЯ); глаза — карие, а волосы темные, как крылья ворона; косы — змеи; беленькая ручка, беленькая шейка; губки же розовые; жеманится с зеркальцем; лицо молодой украинки — костюмная деталь; игра выражений на «личике» — условный рефлекс.
Внутренней дана — дочь польского воеводы (ТБ); но она — иностранка; более личность — пани Катерина (кстати, у нее в отличие от других — голубые глаза, светлые волосы); но и она подана — в другой плоскости (не на авансцене быта); она скорее — далекий фон быта; тоже и панночка из «МН» (уже личность); и личность (мудреная, противоречивая, точно увиденная Гоголем во сне) — «ведьмочка» из «В»; но и она дана в другом плане: сквозном, стеклянном.
«Бытовая» же украинка Гоголя — костюм с кукольной, стереотипной личиной. В Оксане Гоголь пытается связать два женских типа: Оксана более личность, чем другие «дивчины», за которыми «гоняются гуртом»; но в проблесках личной жизни своей она родственна дочери сотника; «длинные, как стрелы, ресницы» и брови, «как ночь», у последней мыслят; уста усмехаются; в резко очерченной красоте «что-то страшно пронзительное»; в чертах ничего «тусклого, мутного, умершего» (В); из рассказов о ней создается впечатление: ее погубило любопытство переступить грань, положенную бытом (отсюда — преступность); в лице же Оксаны, которое «неизобразимо хорошо», также, «сквозь суровость, какая-то издевка»; она «мучит... бедного» Вакулу; ее речи и взгляд, и все — «вот так и жжет, так и жжет» (НПР); женские личности подымают «бесовски-сладкое» что-то; полька — иностранка, пани Катерина — безумная, панночка — утопленница, дочь сотника «ведьма»; проявление личности вырывает героинь из быта, в котором они — стереотип, штамп; им место не в рубрике «душевных движений», а в рубрике костюма, который — ярок.
Мужской костюм разработан тоже; костюм казака подан выше; а вот крестьянский: высокая шапка из черных или серых решетиловских смушек; белая, серая, черная, синяя или красная свитка домашнего сукна, целая, или исплатанная, подчас в дырах; цветной пояс с кистями и со свисающей люлькой; пояс вышит серебром; пестрядевые, если не нанковые штаны (иногда полосатого гаруса); чаще замазаны дегтем; «так широки, что какой бы большой ни
147
сделал шаг, ног... не было и казалось, что винокуренная кадь двигалась по улице» (НПР).
И опять вместо лица «парубка» — штамп, подобный штампу «дивчины»: лицо Петруся, Левко, Вакулы подобно лицам Пидорки, Параски, Ганны, т. е. — «писаной миской»; а для отцов и дедов он — гротеск-гипербола: «рожа баранья» (ВНИК), «рожа барабаном» (СЯ), «образина» (СЯ), с шишкой «в виде риторического тропа» (В); оно именно — «риторический троп»; «под обоими глазами по пузырю в копну» (НПР); «лучи до самых ушей» вместо глаз (МН), вооруженных «колесами» брички, а не очками (МН); трубкой наподобие «печной трубы»; вместо губы — «пузырь» (В).
Лицо «отца» — святочная личина; многие сцены — из народного «комедийного действа» или театра марионеток, где «личина» вместо лица, а вместо личности — трафарет роли. Профессор В. Гиппиус в книге «Гоголь» отмечает моменты, перенесенные из комедийного действа: «вертепно-сказочный» чорт, «благочестивый» кузнец-«чортоборец»; и — трафаретные пары: баба и чорт, баба и понамарь, чорт и цыган с обязательными кулачками, догонками, опрокидыванием таганов на̀-голову; сюжет «плюс» вертепный костюм, «плюс» кое-какие заимствования у писателей, бравших до Гоголя украинские темы (Нарежный, Сомов, Олин и т. д.), преломленные сквозь Тика (в «ВНИК», в «СМ»), Гофмана, Вальтер-Скотта, завитые по Стерну и заостренные отчасти под влиянием «неистовой школы» шотландца Матюрина и Жюля Жанена, определили во многом сюжетные линий, не ослабляя оригинальности перспективы, фонов, цветописи, композиции, которые оригинальней сюжетного содержания первой фазы, во многом сплетенного с эпосом, преданием, народной легендой; Чудаков1 отмечает моменты народных тем в «Веч»: роль папоротника, вред чортовых подарков, русалка-утопленница, игра в карты с чертями, любовь отца к дочери, оставление душой тела во время сна и т. д.
У Гоголя первой фазы оригинален звук, строящий композицию; и — тенденция цветописи, в которой более тенденции, чем в сюжете, взятом абстрактно.
Примером цветописной тенденции, которая и — тенденция в собственном смысле, служит контраст в компановке казацких цветов в отличие от «ляшских»; «свой» брат казак облечен в обычные краски для первой фазы: красное, синее, золотое и черное — впестрядь; «чужак»-лях — вычурен; и одет в иные, редкие для этой фазы цвета; чтоб подчеркнуть его спесь, перезолочен он; весь обшит золотом и звенит зло̀тыми, «как звонок», напоминающий снегиря на снегу, — лях из «ВНИК»; и шапка — в золоте, и нарукавники — золото, и везде золото, и весь золото (ТБ); казак — ритм, движенье, огонь; а «лях» — пышная «стать»: «с усами в три яруса..., что делало его похожим на кота» (ТБ); «хвастливый»
148
лях; в кунтуше с откидными рукавами («позакидали назад рукава»), летающими по ветру, — «ходит козырем» (ТБ); он в медной епанче: «медные шапки сияли, как солнце, оперенные белыми, как лебедь, перьями» (ТБ); «как солнце сияет в золоте» (ТБ); «шнурочки, бляшечки... от них блестит, как от солнца» (ТБ).
Казацкие кони — гнедые и черные; у ляхов — серые аргамаки: цвета ляха — редкие: редки и комбинации их; редки в первой фазе цвета: серый, желтый, голубой, розовый; поэтому, ляхи — на серых аргамаках; у них «легкие шапочки, розовые и голубые» (ТБ); на желтом жупане ляха золотой позумент: золотое — желтое, — комбинация в первой фазе дана только раз; в нее одет — «вычурный лях»; лилового цвета нет у Гоголя; появляются ляхи, и — появляются: лиловые мантии клирошан, лилово-огненные вспыхи польских усадеб; ляшское окно бросает редкие «голубые, желтые» отсветы; ляшский алтарь озаряется тоже редким «розовым» румянцем утра; единственный раз в «Веч», «ТБ» и «В» дан малиновый цвет; и это — «малиновый занавес» польского воеводы; комбинация белого с золотом нигде не дана; но ляшский, как солнце, шлем — веет белыми перьями.
Одевать «ляха» в редкие цвета, создавать вокруг него редчайшие комбинации цветных пятен — последовательная тенденция: подчеркнуть: спесь и вычуру в иностранце.
Здесь-то и выступает вся сила оригинальности Гоголя, видящего не цвет, а... звук, из которого он выводит цвета; в первой фазе глядит он как бы с широко открытыми и немигающими глазами, как сонный, напоминая строки из Фета: «Что ты... недвижно сидишь: слышишь — не слышишь, глядишь — не глядишь» («все... как будто спало с открытыми глазами»); вспомним: Жуковский ввел Аксакова в рабочий кабинет Гоголя; Гоголь, одевший на голову кокошник, с пером в руке «не зря» (выражение Аксакова) поглядел на вошедших; те, сконфузясь, быстро вышли (воспоминания С. Т. Аксакова); Гоголь вслушивался в звук тенденции, чтобы из звука вывести цвета (и кокошник, вероятно, для цвета); цвета — безошибочно тенденциозны, как в примере с «ляхами»; цвета «ляха» более говорят о панской Польше, чем суеверная казацкая молвь, рисующая поляка — «ляхом», великоросса — «москалем», еврея — «жидом»; иностранец — нечто, граничащее для казака с чортом; «чорт» Гоголя — из-за черты; черта — рубеж; все зарубежное — ухает ужасом на тесно жмущийся к обоим берегам Днепра отставший, утопающий в суевериях коллектив; высшие, но чуждые коллективу формы жизни (таковыми являются развитые хозяйственные отношения) остраннены редкою для казака цветописью; а в этом быте не вскрытые и не вскрываемые проявления утонченного субъективизма показаны стеклянно блещущим ландшафтом, из которого вывеиваются облачные, сквозные и соблазнительные контуры утонченных психопаток от грядущего в мир субъектизма: они — «ведьмочки».
Позднее чуждый ему, уже капиталистический Париж пытается Гоголь отразить в «Риме» обилием блесков огней и стекла; но
149
«стеклянная» гипербола Парижа, данная «всерьез», — вполне неуместна; глаза, глядящие в это стекло, — не глаза примитивного украинца, а глаза... Гоголя, вставленные в манекенно показанного итальянского князя: существо капитализма было не вполне вскрыто для Гоголя; потому-то и нет зрительной тенденции в образе Парижа, вылитого из огней и стекла; албанка Аннунциата — тоже пустая стекляшка: со всем своим «блеском».
Блеск фонов в «СМ», «В», «МН» имеет тенденцию: показать огромность расстояния меж данным бытом и бытами культур и классов во всей фантазийной потусторонности; и этим до ужаса остраннить: отсталость показанного, как быт. Такова подлинная тенденция художественной кисти Гоголя; она имманентна звуку и цветописи «Вечеров», независимо от рассудочных оформлений помещичьего сынка, «Никоши Гоголя».
ОТ ПЕРВОЙ ФАЗЫ КО ВТОРОЙ
Со второй фазы растут усилия отчетливо прорисовать предметы первого плана, на котором подан быт; усилия явны уже — в «Веч»; их больше в «ТБ» и в «В»; разрисовка и даже перерисовка ведет к заполнению предметами плоскости полотна; второй план начинает выглядывать из-за выреза; в «МН», наоборот, выглядят вырезом пятна первого плана. Гоголь учится рисованию, переходя к линии: от красочного пятна; пройдя курс у японцев, сидит в студии итальянского мастера, копирует геометрические тела, положив кисть и взявшись за карандаш; он теперь не выводит предметов — из фона к нам, врисовывая данный ему предмет (от нас) в фон, как в некую всетерпящую tabula rasa; врисовав один, врисовывает другой.
Эти усилия подчеркнуты в «Риме»; широко открытые глаза Гоголя пересечены согласно традициям неподвижной вперенности в точку предмета: и эта фиксация совпадает с восторгом Гоголя перед... Брюлловым; вспомните: живописи посвящаются статьи, письма, очерки; в «НП», в «П» и в «Р» герои силятся видеть «по-итальянски»; увлечение Ивановым и Брюлловым перевлекает внимание Гоголя от собственной природы видеть к перспективным задачам, выдвинутым ренессансом; музыка оттеснена живописью, мелодия — образностью; вспыхивающий в глазу и меняющий очертания образ-Протей оторван от мчащего его мелодийного ветра: «Мгновение, — остановись: ты прекрасно!» — как бы говорит Гоголь, попав в Рим; в ставшем мгновении оцепенел образ; и морщится лоб от натуги увидеть деталь; целое — заслонено.
Увлечение деталями светотени — еще до «Рима»; в 1834 году все предестинирует Гоголя к технике «МД»; он увлекается техническими достижениями ему современной живописи: «Колорит, употребляемый XIX веком, показывает великий шаг в знании природы... Какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде их вовсе не подозревали... Яркая белизна сверкает... в самом глубоком
150
мраке тени... Более стали рассматривать предмет... Никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена»1. Культ светотени, отсутствующий в первой фазе, вполне налицо вместе с лозунгом: к детали! Похвалив картины: «Видение Вальтасара», «Разрушение Ниневии», Гоголь четко им ставит упрек: «Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение»; картинам этим и даже Микель-Анджело, у которого «пластика погибала» и тела становились эмблемами страсти, противополагается пластика тел Брюллова, у него греческая «скульптура... перешла наконец в живопись; ...вся картина упруга» (речь идет о «Последнем дне Помпеи»); «тени его резки, сильны»; классической «тени от светотени», к счастью, еще не знает ландшафт первой фазы; более всего Гоголь ценит в Брюллове разработку деталей, которой нет и у Рафаэля («писал одни... лица»): «У Брюллова, напротив, все предметы... до малых... драгоценны». И позднее он пишет о картине Иванова: «Ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец», написана так, что ахают итальянские пейзажисты, потому что Иванов просиживал по нескольку месяцев в... Понтийских болотах..., изучил всякий камушек и древесный листок2.
Попытка дать в требованиях, им предъявленных живописи, и словесную ткань явлена в очерке «Рим»; удивительные достижения композиции здесь разбиваются о неудачи с деталью; вспомните гравюру Пиранези: черным по белому встал мир деталей; гравюре этой противостоит Хокусай; в одной гравюре тысячами деталей сложен морщь целого; в другой на нескольких штрихах, как на струнах, поет его гладь; японская гравюра допускает цвета; но что было бы, если бы светотенный морщь Пиранези, искрасив, силились еще и покрыть сверху: лаком! Кунстштюк, которого отдельности и пленительны, был бы попыткой обнять необъятное; попытку предпринимает Гоголь в «Р»; здесь нет слова без краски и нет образа не резко отчеркнутого его вырывающей из фона линией; пространство же меж предметами, меж частями предметов трудолюбиво покрыто штриховкой: чудо мастерства, блеск таланта переть сквозь «рожьн» — в каждой фразе! Попытка с негодными средствами, принятая за свершение, привела некогда в исступление поклонников Гоголя; и — обманула Белинского: мужеством разрешить задачу, неразрешимую в слове, где живопись условна — всегда. Гоголь же хочет стать в «Р» живописцем в буквальном смысле, пытаясь каждый словесный образ увидеть, зарисовать, окрасить и натереть лаком; в итоге какое-то многофразие, где саженная фраза набита цветистостью, проштрихованной и зала́ченной сверху: лак, а не блеск; раздражающая перекрашенность и тяжелое великолепие скульптур композиции; всюду стремление — оживописить музыку фразы; и в ней — оскульптурить красочное пятно: «из темного
151
травестина были сложены его тяжелые стены, вершину венчал колосальный карниз, мраморными брусьями обложена была... дверь, и окна глядели величаво, обремененные архитектурным убранством» (Р). Вместо песенной легкости переобремененный великолепиями реторический троп, архитектурный в самой живописности: «темная, грязная улица оканчивалась... играющей архитектурой Бернини, или... летящим обелиском, или... церковью и... стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темнолазурном небе, с черными, как уголь, кипарисами» (Р); и — перечисление: «архитектурные создания Браманте, Барромини, Сангалло, Делапорто, Виньоло, Буанаротти» (Р).
Лавры Брюллова не давали покоя!
Оттого и «введение» вместо повести, с тяжким усилием возведенное в мраморах, вызолоченное, покрытое фресками, — введение, без которого или умел вовсе обойтись Гоголь, или которое умел сжать: введение, став очерком «Рим», задавило задание: написать повесть; если бы Гоголь ее окончил таким же тяжелым языком, она была б — непрочитываемым десятитомием.
Я нарочно останавливаюсь на живописных особенностях «Р»; они — тупик прозы Гоголя, из которого она во-время вышла.
«В этот плодотворный век... художник бывал и архитектор, и живописец, и... скульптор» (Р) — лозунг изобразительности Гоголя со второй фазы; он в «Р» доведен — до нелепости; отсюда стиль подачи «князя», живущего среди фресок Гверчино, Караччей, которого... очи, «метатели огней из-за... перекинутого через плечо плаща», которого нос... «очеркнутый античной линией» и т. д.
Пейзаж первой фазы — сквозной; и с ним створена цветопись. В «Веч» пятно росчерком данного тела отворено со сквозным пейзажем; со второй фазы тела — очеркнуты античной линией, их отрывающей от фона, ставшего фреской; все оскульптурено тенью и светом.
Живопись первой фазы есть вслушивание; взгляд широко открыт; и — пристален слух; со второй — пристален взгляд; глаз — прищуренный, суженный, — как крючок, вцепился в детали; передние планы, теряя яркость, пучат рельеф.
Судьба стилизации второй фазы: быть отчеркнутой линией от сюжета, чтобы в виде концовочной сентенции, порой медальона, отдельно сопровождать фабулу; бордюр из иронии сопровождает отныне текст; стилизация в первой фазе летит на крыле дифирамба; она — на фабуле поставленный парус.
Стилевые фокусы с первой до третьей фазы рисуют линию, подобную рисовальному мастерству Обри Бердслея1: от овладения линией японцев к хохотушкам и локонам утрированного барокко: от линии всерьез до издевательства... над стилем Ватто.
Нечто подобное происходило с гиперболой Гоголя в точке перерождения ее: из дифирамба в иронию; ирония второй фазы не
152
вытекает ни из юмора «Вечеров», ни из приемов народного балаганного действа; она — дифирамб, перевернутый наизнанку; в ней — нечто жуткое; для сравнения приведу две цитаты; одна: «Ночь казалась... еще блистательнее. Какое-то... упоительное сияние примешивалось к блеску месяца... Перекликались блистательные песни соловьев... В... серебряном тумане мелькали девушки... в белых, как убранный ландышами луг, рубашках; ...дукаты блистали на их шеях; ...тело их было... сваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь при серебряном месяце... Зашумели..., будто приречный тростник, тронутый ветром» (МН); другая: «Свет, относительно сказать, ...сказочная Шехеразада... Словом, Семирамида, сударь мой!.. ...«Ковры — Персия, сударь мой, такая... Стеклушки в окнах... полуторасаженные зеркала...» (МД).
Первая цитата воспроизводит блеск света; вторая — блеск лака, который — издевка над светом; здесь блеск только повод для темных пятен в глазах, как в «СП» (день, более ужасный, чем ночь); сплетенье ироний напоминает мне фразу из «Р»: «как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки»; дама в «НП» сияет, как панночка; и, как панночка, стилизована; но линейный зигзаг, из которого она рождена, в ней перемят парикмахерскими щипцами; у дамы «приятной во всех отношениях» вместо сияния — мазь на щеках; она — от «фризера»; и призрачна лишь оттого, что «исплясалася на балах» (П); смыть примазь, откроются «пауки... на слоновой бумаге» щеки; и свет второй фазы — рефлектор студии; небо прежнего фона осталось; ландшафт с телами его заслонил; перед картиной в луче рефлектора какие-то белесоватые пятна; вместе с фигурою фикции напоминают они клуб табачного дыма, которым стреляет в картину чубук, сипло лающий звуком.
Такова гипербола первой фазы, ставшая во второй, как завитая линия Хокусая в рисунке Бердслея; она — ирония. В поздних фазах стиль линии Гоголя до странности напоминает известную фреску, выкопанную из недр Крита; на фреске — критская модница, напоминающая модницу XVIII столетия.
Резюмирую то, что хочу сказать: натура тел в первой фазе — предельное уплотнение линии и светоцвета в телах, поставленных между глазом и светом ландшафта: и все еще сквозящих светом; «воздушные» дамы второй и третьей фазы — ирония табачного дыма, выпущенного скривленными губами автора; они, как и радужные на воде пятна нефти, — лишь морок.
Композиция в «МД» по отношению к «Веч» — вывернута наизнанку.
ЦВЕТОПИСЬ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ФАЗЫ
Соответствуют ли изменениям в композиции, в словесных ходах, в составе слов («в некотором роде» и «так сказать» вместо «все», «везде» и «всегда») — изменение в красках?
Вполне.
Спектр реагирует: уменьшением красных пятен; начиная с «Шп»,
153
«ОТ» и «СП», кончая комедиями, процент красного падает: с 26,6 до 12,5; и — падает далее в обоих томах «МД»: 10,3 — 6,4; во втором томе красного менее четверти «Веч»; падает синее: с 10,7 на 6,1; и с 6,1 на 4,9 (в первом томе «МД»); падает процент золотого с 11,6 на 8,9; с 8,9 на 2,8; падает серебряное: с 7,1 на 3,2 и 2,8.
Но растет желтое с 3,5 на 8,5 и 10,3 (во втором томе «МД» — 12,8), серое (с 2,6 на 8,9 и 10,5), коричневое (с 0,9 на 6,5 и 8,4) и голубое (с 4,4 на 5,7 и 7).
Изменению словаря ответствует изменение в спектре; и в потухающем цветописном пятне растет — светотень; в первом томе «МД» главенствует белое, черное, серое; здесь тень мутнит цветопись; рост коричневого (с 0,9 на 8,4) отвечает на это; голубое — с пыльцой как цвет обоев Манилова.
Оттеночность изобилует: кафтан «травяно-зеленого цвета» (ОТ), цвет «гранита» (ОТ), фрак пегий в коричнево-серых и в желтых яблоках (Н); бронзового цвета лицо (П); рыжевато-мучнистого цвета мундир (Ш); пепельная наружность (П); появляются: табачный (ОТ), сизый (ОТ), ореховый, кофейный, бутылочный (МД) и другие оценочные цвета; растет колоритная неопределенность; всюду подмесь свинцовых белил, золы, охры; в отметках регистра частят слова, выражающие относительность; цвет чаще — зыбь колорита, или — дым сипящего чубука, мешающий видеть; оттого и фрак — «наваринского дыма с пламенем», вместо алых, как жар, казацких штанов; последние — выцвели; золотой позумент спорот с них; они — проветриваются на дворе вместе со старым казацким седлом, на котором некогда гарцовал «батько» (ОТ); и отсюда ряд серых пятен, которых нет в «Веч»: «сумерки сереют» (Ш); «в сером полукафтане» (СП); «серенькая кошечка» (СП); «серенький человек» (П); серый забор «под цвет грязи» (К); серая краска домов и серые избы торчат всюду на светло-сером фоне «МД»; у Манилова стены «крашены... голубенькой, вроде серенькой» краской; «все серо» (МД); типичная комбинация голубенького, желтоватого с серым. Типична и цитата из «Ш»: «бурый, черный, серый, пегий»; этими цветами закрашивает свое красное Гоголь; буроватые, коричневые оттенки — везде вместе с обилием слов, отмечающих цветность вообще, а не цвет: радужных цветов косынка (МД), «стол зарябел всеми цветами» (ОТ); часты слова: рябой, пестрый, мозаичный; яркости в пестроте — нет; контраст — затушеван.
Не те пятна костюмов; где комбинации из красного, золотого, зеленого, синего? Мужчина в «желтых штанах» (МД); «кофейный капот с желтенькими цветами» (ОТ); серенькое платье с «небольшими цветочками по коричневому полю» (СП); платье — «клеточки помельче и не коричневые крапинки, а голубые» (МД); «фон голубой» (МД); сукна фраков — коричневатые, наваринского дыма, верблюжьего цвета (МД); мужчина в «серых панталонах» (МД), мужчина «в белых канифасовых панталонах» (МД); мужчина в «нанковом желто-коричневом казакине» (ОТ); «сюртук коричневый, а рукава голубые» (ОТ); шинель медвежьего цвета (МД); «лакей в серой куртке с
154
голубым стоячим воротником» (МД); шинель, «крытая коричневым сукном» (МД); смушки — сизые с морозом» (ОТ). Эти редкие в первой фазе цвета даны из-под дымки: «муслины... кисеи... бледных цветов, каких и названия нельзя прибрать» (МД).
Предметы, костюмы и стены представлены фонами; господствующий цвет зданий провинциального городка — желтый; дана комната, убранная вещами; «мебель, обтянутая... шелковой материей» (МД); «люстра в холстинном мешке» (МД); гостиная — голубая; дана впестрядь с желтым (Рев); в ней голубая дама (МД) рассуждает о преимуществе голубого платья над палевым (Рев) между «диваном, овальным столом и даже ширмочками, увитыми плющем» (МД); на подушке же «вышит шерстяной рыцарь» (МД); межоконный ломберный столик; в углу — угольный (МД); «ореховая дверь резного шкафа»; такова одна из затененных и перегруженных предметами комнат в «МД»: в ней — голубое, желтое, ореховое; вот пузатая, орехового цвета мебель из комнаты Собакевича; цвета кабинета Манилова: старенькие, полосатенькие, не то серенькие, не то голубенькие обои, пепельная зола и буро-коричневые табаки (МД).
Подавляет и вещность первого плана: тенями, деталями выпуклого рельефа, которого фон или — стены, иль — вещи же; пространство предметно прочерчено; тень, теснота: куча «хомутов, ...свечек, платков, серебряный рукомойник»; «голландский холст, крупичатая мука, табак, пистолеты, селедки, картины, точильный инструмент» (МД); все — вместе, рядом, беспроко; «амбары... загромождены множествам холстов, сукон, овчин... рыбами, овощью» (МД); «бочки, пересеки, ушаты.., жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкальники, ...прочий дрязг» (МД); движение сковано; остается ходить косо, боком, с натыком, если не лежать на перине; беспрокую перегруженность вещами великолепно дал Мейерхольд (хотя бы в сцене с купцами, несущими тюки и сахарные головы в мебели); тесные сценки, набитые густо людьми в голубых, серо-синих, коричневатых, зеленых кафтанах и фраках, застывших мертво с чубуками в руках, — передают все эффекты живописи «МД».
Комнаты ломятся от людей и вещей: «вошедши в переднюю, увидел... ряды калош... на стенах висели... шинели да плащи..., были даже с бобровыми воротниками» (черное, темнокоричневое); отворил дверь, — и «свечи, чиновники, трубки, столики для карт» (Ш); «Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович, — не тот..., а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич... Сколько дам! Смуглых и белолицых... Сколько чепцов! Сколько платьев!.. Желтых, кофейных, зеленых, синих... платков, лент, ридикюлей... О чем они говорили...: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах... запах борща понесся чрез комнату... Стол зарябел всеми цветами» (ОТ).
Нагромождению глаголов в «МД» соответствует нагромождение их сменяющих существительных.
155
Второй план есть кучи людей среди кучи предметов; преобладает жанр с натюр-мортом; на переднем плане — портрет, данный фокусе: Чичиков, Хлестаков, Городничий, Коробочка; около — выписанные предметы; это — характеристики брошенного на авансцену лица; из них можно бы составить музей.
Витрина табакерок, кисетов и т. д.: «круглая лаковая табакерка» с рожей «какого-то басурманского генерала», табакерка «с портретолм какой-то дамы в шляпке» (Н), «серебряная с финифтью табакерка» (МД), «серебряная с чернью табакерка» (МД), булавка «с бронзовым пистолетом» (МД), «перстень с талисманом» (НП); портреты: греческой героини Бобелины с огромными грудями, Миаули, с неслыханными усами Маврокордато, генерал с кривым носом, Кутузов (МД) и т. д.; «ларчик красною дерева с штучными выкладками из корельской березы» (МД); «книга... с красным обрезом» (МД), «ручка из слоновой кости» (для чесания спины), «рама красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми... кружочками по краям», «подсвечник из темной бронзы, с тремя античными грациями, с перламутровым стеклянным щитом», «фарфоровая вызолоченная чашка» (все из «МД»), «кованная медная ваза» (Р); богатая коллекция экипажей и т. д.
Вспомните комнату Плюшкина: «На одном столе стоял... сломанный стул, и рядом, с ним часы с остановившимся маятником, к которому уже паук прокладывал паутину. Тут же... прислоненный боком к стене шкаф с... серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутной мозаикой» и т. д.: автор только еще приступил, севши в кресло под мухами средь пылей, теней, тесноты — перерисовывать заданный ему поздним голландцем урок и рассуждать о достоинствах и дефектах показываемого портрета; тщательность описания умиляла критиков Гоголя; мастерство, достойное всяческой похвалы! Только... — где разлет, росчерк? Выщерблено, выписано, тяжело и недвижно; «мастер-японец» стал добродетельным учеником поздней голландской школы, заимствуя у последней обилие блюд, натюр-мортов, к которым относимы и человеческие истуканы с мертвой душой, движимые физиологией желудочной, а не нервной системы.
Чудовищен поварской прейс-курант; вспомните овощи, фрукты, мяса̀, перевернутых ушами вниз зайцев — залу любого музея живописи под номерами 10, 11, 12; первые заняты старыми немцами, итальянцами, испанцами.
В «Веч», «ТБ», «В» реестр отмечает 16 упоминаний о кушаньях (за вычетом предисловий к «Веч»); в предисловиях, бытовых повестях, комедиях и «МД» мой реестр отмечает 86 смачно поданных блюд или плотоядных упоминаний о них; в «МД» необходимый, сопутствующий героям передний фон жанра — еда; блюда отнюдь не декоративны; как яства, поданные голландцами: взять бы да съесть!
Краткое перечисление этого смачного изобилия: напитки, водки, вина — «золототысячниковая сивушка», «трохимовская сивушка»
156
(Шп), водка, настоенная на травах «деревий и шалфей», перегонная на «персиковых косточках» (СП), поднос «разноцветных настоек» (МД), «разные наливки» (ОТ), «губернская мадера» (слона повалит) (Рев); «го-сотерн» (в уездных городах нет просто сотерна), «клико-матрадура» (не просто клико), «толстобрюшка» (Рев), бордо, называемое «бурдашкой», французское, под названием «бомбон» («запах? — розетка») (МД); к водкам — закуска: «соленые опенки» (Шп), сушеные рыбки, грибки (с чебрецом, с гвоздиками, с волошскими орешками, с мускатными орешками) (СП), балык, селедки (ОТ), винегрет, холодная телятина (Ш), вареные бураки, огурец, икра, паюсная, свежесольная, копченые языки (МД), сыр (Игр) и т. д.
Мучные блюда: коржики, скородумки, шанишки, прягла (СП), пряженцы, масленцы, взваренцы (МД), другие «пундики», ватрушки («каждая больше тарелки»), лепешки с припеками (луком, маком, творогом, сняточками), «кисленькие» на вкус (неизвестно с чем) (СП); блины, пирожки (с маком, с сыром, с «урдою») (СП), паштет (Ш), «загнутый пирог... с яйцом», кулебяки с сомовым плесом, «пирог с головизною», набитый хрящами и щеками «девятипудового осетра», «пирог с груздями»; и — наконец знаменитая петуховская кулебяка в четыре угла: в одном «щеки осетра да вязига»; в другом — гречневая кашица, да грибочки с лучком, да сладкие молоки, «да еще чего знаешь там этакого... какого-нибудь там того» (МД).
Супы: «борщ с голубями» (ОТ), «стерляжья уха с налимами и молоками» («шипит и ворчит... меж зубами, заедаемая растегаем») (МД), пятьсотрублевая уха «с двухаршинными стерлядями» и «тающими во рту кулебяками» (МД), «рассупэ-деликатес» (МД) и т. д.
Жаркое: «сосиски с капустой» (МД), говядина с луком (Ш), «мозги с горошком» (МД), «индейка со сливами», поданная Шпоньке на одном блюде восприятий с «весьма красивой барышней» (Шп), «набитая трюфелями индейка» (Р), «индюк... ростом с теленка» (набитый яйцами, рисом, печенками» (МД), свинина, баранина, гусь, котлеты с каперсами, теленок, жареный на вертеле, с почками (два года воспитывался на молоке) (МД), кушанье из внутренностей, «утрибка» (ОТ), кушанье, видом похожее «на сапоги, намоченные квасом», соус, «обхваченный... винным пламенем» (ОТ), каплун (ОТ), пулярка жареная, «с финтерлеями», «няня», или блюдо «из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками»; из рыбных — севрюжка, белуга, осетр: к нему сняточки, груздочки, да — репушка, да морковка, да бобки, да свекла звездочкой («да... чего-нибудь там этакого... того-растого... Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть» (МД).
Сладкое, —...
Довольно, читатель!
Не Илиада, а... Жратв-иада; можно бы исщербить щит Ахилла резьбою показанных блюд; в центре ж вырезать пуп: герой жанра — брюхо!
157
Неспроста перечисляю предметы и блюда, отчетливо выпертые всем рельефом из плоскости полотна; перечисленье — прием третьей фазы; столы жирных блюд средь тяжелой скульптуры вещей здесь насильственно вставлены в легкие фоны, почти загораживая кругозор; жанр и пейзаж скомпонованы в первой фазе с сюжетом; а со второй — начало разрыва целого: как из вспоротого ножом брюха вываливаются кишки, так вывалились оторванный от пейзажа жанр, и оторванный от жанра пейзаж в третьей фазе; и вылезла комната Плюшкина; в сторону от нее произрастает натуралистически отяжелевший пейзаж; Гоголь становится «натюр-мортистом» впервые; и пейзажистом — впервые; пейзажи не связаны с жанром; знаменитая «дорога» в «МД» — сама по себе; местность около имения Тентетникова, показанная манерою Шишкина1, — сама по себе; подробности не имеют связи с сюжетом; отсюда начало тургеневского пейзажа со стилем раскрашенных фотографий (нудный этюд, посвященный Тургеневым лесу и полю, или беспрокие полеты с Эллис под небом Италии и России); у Гоголя этих нудностей нет; но и красивости с выписанными по Курбэ листиками предпочту неизъяснимую пленительность степи в «ТБ», где быт, пейзаж, фабула единоцелостны, точно ветряный винт.
Стереоскопически дан зелено-черный рельеф сада Плюшкина в перечислениях стволов, куп, теней, отворачивая от сюжета без всякого повода; сад великолепен бесспорно: «зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали... соединенные вершины разросшихся... дерев... и показывали неосвещенное между них углубление...; чуть-чуть мелькали в черной глубине его: ...узкая дорожка, обрушенные перила, ...беседка, дуплистый ствол» — из страшной глушины; тут и «молодая ветвь клена, протянувшая сбоку... зеленые лапы-листы», и — подробное описание одного блеснувшего в солнце листика (МД); налицо все особенности третьей фазы: тень, выпуклость зелени, черная глубина, неосвещенное место, рельефы куп; и все — нетипично для первой фазы; со второй нет Хокусая, а с третьей — есть... Шишкин; «великолепие», достойное хрестоматий, но ни с чем не сключенное (ни с предыдущим, ни также с последующим); сад Плюшкина можно перенести во второй том «МД», или приставить к усадьбе — ну хоть Чартокуцкого (К); сад — дан в сторону от последующих: жанра, натюр-морта, портрета (двор, дом Плюшкина, Плюшкин), которые отвернулись от пейзажа.
Нигде нет раккурса: дописано все; тут — склик с этюдом «Рим», точно представленным на академический конкурс: «над сверкающей массой темнели... черною зеленью верхушки каменных дубов..., и целым стадом стояли над ним в воздухе куполообразные верхушки... пинн, поднятые тонкими стволами» (Р); или: «глубина галлереи выдает ее из сумрачной темноты... всю сверкающую» (Р); здесь — этюды с натуры: рельефов, теней; итог — плюшкинский сад с теми
158
же тенными углубленьями и отдельно сверкающим листиком; взгляд — суженный, пристальный; в нем нет — музыки: хрип чубука, или — ирония потерявшего строй фагота; порой многое под вуалью: она — с черными мушками; мухи садились (МД); «солнце... блистало... и мухи... обратились к нему»; рои мух, «поднятые легким воздухом»; «воздушные эскадроны мух... обсыпают... куски»; «чернильница с множеством мух»; в комнате Коробочки «бесчисленное множество мух» (МД)1; «рюмка с... тремя мухами» (МД); и оттого — ассоциации с мухами: «мухи, а не люди» (МД); «умирали, как мухи» (МД), «меньше мухи» (МД), «ну точно муха» (Рев) и т. д.
Этому черному крапу соответствуют белые пятна дам, главным образом писанных белилами, но названных «сияющими» (из иронии): жена Чартокуцкого показана белыми пятнами (белье и кофточка — белые); беленькая и губернаторская дочка в «МД»; дамы в «Н», «НП», «П», «ЗС» в белых, «как лебедь», платьях, в белых «как дым», башмачках, в белых, «как снег», чулочках; «ленты легче пирожного», «сеточка... под именем скромностей» и прочие белые принадлежности туалета; к белому кантом дано голубое («Рев» и «МД»); белого в первом томе «МД» — 22, а во втором — 17 процентов.
Оно — под крапом; крап — черный.
Многое — здесь «блан э нуар».
Во второй фазе еще белое не частит; повышен процент черного (с 11 на 14,1), которого больше красного; цвета переменились местами: черное с третьего места попадает на первое, а красное с первого — на третье; не резко еще понижено золотое (с 11,6 на 8,9); вместо золотого казацкого и «ляшского» шитья — золотое шитье на мундирах петербургских чиновников; в «МД» золото исчезает почти; но — дан скачок белого (с 9 на 22); рост серого, желтого и коричневого со второй фазы кричит.
Первый том «МД» противопоставлен произведениям первой фазы.
Остановимся кратко на цветописи второго тома «МД»; она противопоставлена и «Веч», и повестям второй фазы, и комедиям, и первому тому «МД»: в росте процента зеленого: 8,6—7,7—9,6; и — вдруг: 21,6! Это итог — выписки пейзажа; подчерк зелени, и лугов, и лесов, и садов, писанных по Шишкину и Тургеневу.
И неожиданен склик с первой фазою в золотом; тенденция первого тома «МД» свести к нулю золото; после него скачок от 2,8 к 12,8; но золото второго тома — не золото сосудов, шлемов, одежд, а золото церковных крестов, подымающих тенденцию православия; «золотой» звон противостоит здесь «красному звону» казацкой славы; падением красного, ростом желтого и зеленого второй том оттолкнут от спектра «Веч»; падением черного (с 14,1 до 4,8) — оттолкнут от второй фазы.
159
Но пертурбации в спектре второго тома «МД» почти не влияют на текст: в нем мало красок: вместо 319 цветных представлений регистра «Веч», «ТБ» и «В», здесь всего 60 их; и заостряя в гиперболу приведенные факты, — скажу: пертурбация спектра второго тома есть буря в стакане воды в тазу из... риторики.
Таковы со второй и до третьей (включительно) фазы — рельеф, композиция, цветопись.
ЖЕСТ СО ВТОРОЙ ФАЗЫ
Плавный росчерк движения «Веч» со второй фазы разложен на ломаные отрезки; и — «abcd» подано, как ab+bc+cd; групповое движение не сжато короткою фразой; и выглядит комбинированным (что делал а, что делал b, что делал с): момент а: «дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась... в передней... Иван Никифорович завязнул в дверях... не мог сделать ни шагу» (ОТ); насильственный прерыв на полужесте воспринимаем толчком; одновременно — «судья кричал..., чтобы кто-нибудь... выпер сзади»; и — с: один из канцелярских «уперся... коленом в брюхо Ивана Никифоровича»; далее отдельно данные моменты того же группового жеста: 1) как дверь открылась, 2) как Иван Никифорович ввалился, 3) как рухнул в кресло, 4) как пот струился дождевою водою; система моментов а, b, с, d и т. д.; меж ними толчки и прерывы; система — боковой ход от фабулы (явился-то подать жалобу). В том же «ОТ»: городничий, у которого дергается нога, толкает Ивана Ивановича на Ивана Никифоровича, делая «дирекцию слишком в сторону» (подчеркнуто слишком, как в кинематографе); одновременно: «Иван Иванович упал на даму»; «упал» — опять «слишком» (вырыв, толчок); одновременно: «судья... отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону»; снова «пих» и прерыв, дающий паузу; одновременно: «Иван Иванович с кривым глазом уперся, всею силою и пихнул Ивана Никифоровича». Оба были притиснуты: окаменеть; и все — замерли (от потрясения). Целое жеста — сложение: «пих — падение — отпих — пих — замирание; а между моментами — паузы; все — на острых углах.
Сцену я сократил, чтобы не перегружать вниманье; она занимает в издании Маркса 2 строчки для зарисовки одновременных движений пяти человек: время движений равно времени прочтения максимум двух лишь строк; время растянуто; 32:2=16; оно растянуто в 16 раз; жест пяти человек — точно пять фотографий из ленты калейдоскопа, которая не хочет вертеться; ни в одной нет движения.
Вспомните мельки масс из «ТБ»: вот казаки «перецеловались навкрест»; фраза в редакции второй фазы наверное примет вид: 1) сперва, нагнув головы (один — направо, другой — налево), приложили губы друг к другу; 2) потом сызнова приложились губами друг к другу, опять выгнув головы: один влево, другой вправо;
160
3) и наконец в третий раз прижались губами, нагнув свои головы: вправо и влево; три момента в «ТБ» сжаты в треть лишь строчки: «перецеловались навкрест»; схема сложного жеста, по-моему, дана втрое быстрее действительности; в показанном отрывке «ОТ» она замедлена не менее, чем в 16 раз; стало быть: жест троекратного целования всего казацкого войска показан не менее, чем в 48 раз быстрей, чем тяжелое пханье Довгочхуна на Перерепенку.
Фотография жестика второй фазы порой занимает страницу; разговорик незначащий часто — глава; а денек «с пустячком» — уже повесть; словесность разъехалась, отчего фабула сузилась — в точку фабулы-собственно; ее, как и нет; вместо смены событий, показа лесов, городов, крепостей — вырастающие: шинель, нос; кривая сюжета вытеснена деталями натюр-морта.
Колдун из «СМ» входит в дверь; не описано: 1) нога отделилась от пола, 2) взвесилась в воздухе, 3) нога опустилась, 4) лоб ударился в притолоку, 5) испуг мелькнул на лице Катерины; дана одна фраза: «вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькой в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать» (СМ); слиты: жест, образ, жанр с завязью ссоры, которая — сюжет сцены; все — в росчерке.
«СМ» — экономия средств; «ОТ» — пир словесности, произрастание атомов жеста. Вот жест, взятый мной из «Ш» и данный в атомах: 1) взял капот, 2) разложил, 3) рассматривал, 4) покачал головой, 5) понюхав табаку, растопырил на руках, 6) рассмотрел против света, 7) опять покачал головой, 8) обратил вниз подкладкою, 9) вновь покачал головой, 10) натащив на нос табаку, закрыл табакерку, 11) спрятал в карман, 12) и — уф, наконец, — сказал: «Нет!» (Ш). В «СМ» было б сказано: «взял и, нюхнув табаку, сказал». Вместо пяти слов — в «Ш» жест Петровича подан 85 словами; 85 : 5 = 17; он замедлен — в семнадцать раз! А читатель тем временем ждет объясненья: портного с Башмачкиным; жест же уводит от фабулы, точно к столику с водочными закусками; повествование — прервано: выпьем, читатель!
Иль: 1) подошел к водке, 2) потер руки, 3) рассмотрел рюмку, 4) налил, 5) поднес к свету, 6) вылил из рюмки в рот, 7) пополоскал рот, 8) и — уф, наконец, — проглотил (Шп); каждая отдельность — точно падает в обморок: «Иван Яковлевич..., разрезавши хлеб... — прерыв, пауза; поглядев в середину, «ковырнул ножом...» — прерыв, пауза; «пощупав пальцем...» — прерыв, пауза; «засунул пальцы...» — прерыв, пауза; «и вытащил...» — долгая пауза — «нос» (Н); для удлинения паузы между моментами жеста порою даны повторы момента: «Принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб», и т. д. (Н); молодой Достоевский возводит растяжку такую в прием: «Запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом — и обмер» («Двойник»).
Раздроб жеста в атомы, с углублением пауз меж ними, ведет к преувеличению угловатости, подающей момент, как толчок и вырыв
161
из линии жеста; усиление ж паузы переходит в фермату последней паузы, подобной окаменению и личности, и группы жестикулянтов.
Преувеличенность атомов жеста: «упал в кресло» (ОТ), «упал на даму в красном платье» (ОТ), «скроил рожу, какой... никогда... не видывал» (Рев); «делал... мины, глядя на которые... можно было бы прочитать, как нужно делать грушевый квас» (Шп); «глядит с... видом, как будто собирается спросить: «Сколько вы на зиму насаливаете огурцов» (Шп); «в одной короткой рубашке, позабыв... степенность и средние лета, произвел... два прыжка, пришлепнув себя... пяткой ноги» (МД); дерг козлом Чичикова есть разрыв поданной сперва плавно фигуры; вдруг «чуть не выпрыгнул из панталон» (МД); и наконец: 1) повалился — пауза; 2) ударился лбом — пауза; 3) «не выпуская сапог князя», проехался вместе с ногою по полу «фраком наваринского дыма»; 4) «почувствовал удар сапога в... губы, но не выпустил сапога» (МД, 2); пих, дерг и грох: меж паузами — покой и мертвость; «сбежал... и что силы есть, хвать стулом об пол» (Рев).
«Ревизор» — дерги жестов: Бобчинский и Добчинский — влетают взапых, вперебив дергаются словами, бегут «петушком», протыкают щель двери коками, с дергом их пряча; «дверь обрывается... Бобчинский летит вместе с нею»; надергавшись, окаменевают какими-то растаращами «с разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами»; и жест городничего — дерг: вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за голову, нахлобучивает на себя бумажный футляр; выпучив глаза и руки по швам, замирает надолго, чтоб дернуться дрожью; внезапно чихает; судорожно грозит себе кулаком, бьет каблуком; и, пораженный молнией, стоит в веках, в поколениях читателей — с разброшенными руками, с закинутой головою; Хлестаков же в момент развертыванья павлиньего хвоста — «везде, везде» — «чуть не шлепается»; какие-то дергоноги и дергоруки; на всех падает молния, высекая в веки веков: почтмейстера превратя в вопросительный знак; судью же брося в присядку с растопыром конечностей (Рев).
Повышение экспрессии дробной части разбитого жеста ведет каждого из жестикулянтов к конечному взрыву, после которого атом жеста, окаменев, превращает героя в неподвижную деревянную куклу, которою Мейерхольд заменил живого актера; душа превращается в мертвую, как от удара молнии; окаменевшие мертвецы присутствуют тут же при агонии... еще носящих признаки жизни.
Вздерг, и — пауза; еще больший вздерг, еще бо́льшая пауза; взрыв, и — долгая, мертвая тишина; начинаясь со второй фазы, она — побеждает: в третьей; и барышня «равнодушно сидела... рассматривая... стены» (Шп); Шпонька целыми днями лежал на постели (Шп); Довгочхун лежал: с утра до вечера; и — с вечера до утра (ОТ); «человек в байковом сюртуке с пластырем на носу... сидел в углу, не переменяя движения... далее, когда залетала к
162
нему в нос муха» (ОТ); Тентетников просыпался и недвижно сидел на постели (МД); Собакевич «усадил... в кресло с... ловкостью, как... медведь, который уже... умеет и перевертываться», т. е. косолапым дергом, — сел в кресло, «принагнул голову, приготовляясь слушать»; и — умер; Чичиков «начал отдаленно», с истории монархии, а Собакевич «все слушал, наклонив голову»; Чичиков перешел к ревизским душам, а Собакевич «все слушал, наклонивши голову»; Чичиков перешел к несуществующим душам, а Собакевич «слушал..., нагнувши голову».
Слушает и сию минуту «нагнувши голову» — в музее мумий, тот же все звук: «громче всего слышалось высмактыванье Григорьем Григорьевичем бараньей кости» (Шп).
Гоголем был осознан прием умерщвления движения с переход жеста в застывшую мину; о том гласит конец «Ревизора»; за последним явленьем отчерк; и — заглавие: «Немая сцена»; в ней — описание умерших жестов и поз: «Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение» (Рев); в «Отрывке из письма» Гоголь пишет: «Еще о последней сцене. Она... не вышла... Я не виноват. Меня не хотели слушать... Последняя сцена не будет иметь успеха, пока не поймут, что... все... должно представлять окаменевшую группу, что две-три минуты не должен опускаться занавес». Позднее он рассуждает об «электрическом потрясении»; всюду тенденция посадить героев своих на «электрический стул»; «дерги» Чичикова — на электрическом стуле; оборванная последняя фраза второго тома «МД»: «потому что уже нам... темно... и мы едва...» — что едва? Едва не на... электрическом стуле.
А результат — смерть.
Экспозицией распавшихся в атомы жестов я мог бы заполнить страницы; не это здесь важно, а то, что распад — результат разложения переполненного пептонами и ими надутого тела; разъятое в десять моментов движение идет вперебивку с диалогом; атомы жеста даны между фразами; фраза — звучащая пауза; лента калейдоскопа замедлена вдесятеро; она не сливает моменты жеста друг с другом: толчок и прерыв, толчок и прерыв; следующий этап — возведение момента жеста — в типичный жест, чем круг жеста обужен: вдесятеро; подается сперва, как Иван Иванович надевает бекешу, идет себе в церковь, раскланивается на все стороны, подтягивает на клиросе, при выходе из церкви отыскивает нищего и расспрашивает его, как идет выпить рюмочку водки к соседу; потом подчеркнута фальшивая вежливость; потом из этого всего круга движений выбирается один лишь расклон; далее — подмена круг движений все тем же расклоном: «Желаю здравствовать» — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны» (ОТ): и — пошло, и — пошло: «Не прикажете ли чашку чая?..» «Иван Иванович поклонился и сел...» — «Одну чашечку?..» «Иван Иванович поклонился и сел»; так семь раз на одной лишь странице; момент вытеснил круг; атом стал характеристикой личности: в жесте-рефрене; плавная
163
синусоида, став ½ себя, — толчок дерга, разложенного в механику атомов; это не реализм, а механический атомизм; так осуществляется переход к гоголевскому портрету личности, которая — не рост «я» из родового безличия, а ограничение рода; отсюда — мелкость ее; она — часть: рука, нос, бакенбарда, нога с закидом, или вздерг губы с табаком; ее характеристика — вещи: пузатое кресло, чубук, коробочная система комнат и экипажа характеризует Коробочку, кулебяка в четыре угла — Петуха: личность, 1/20 организма, дергается, точно две половинки разрезанного червя, или пойманной мухою висит в паутине предметов, трухлеющих пылью; натуральное хозяйство патриархального коллектива — труха.
Личное у Гоголя — мелко, не эстетично, не героично; личность, выписавшись из дворянства, крестьянства, казачества, гибнет телесно с Поприщиным, или... прижизненно мертвенеет в мещанском сословии, в которое переползает дворянчик; Хлестаков неспроста «насвистывает сначала из «Роберта», потом: «Не шей ты мне, матушка», а наконец — «ни се, ни то». Сперва — героика «Роберта-Дьявола»: переступление через узы родства: Петрусь Безродный, проклятый Петро; потом — ужаснувшийся своим «королевством» Поприщин: «Матушка, пожалей о... дитятке» (ЗС); и, наконец, — смерть в мещанстве: «не слишком толст, не слитком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однакож и не так, чтобы слишком молод» (МД); эволюция слов сопутствует перерождению дворянского рода в мещанство; сначала «все»; потом — «ничто»; наконец — «не ничто»: «ни се», но «ни то»; оторванные сознания, не обретая «я», изживаются раздрызгами жеста; в смеси колеров коричневатых, голубоватых и желтоватых, и серых они — толчея в толчее.
Лев Толстой широко применил способ Гоголя, заменяя характеристику жестом-рефреном; у каждого из героев — свой жест; остроту стилизации, гиперболизм жеста Гоголя он умягчил; онатураленный жест стал круглее и мягче; Толстой сделал гибким его, омногообразив вариациями; у Гоголя жест-рефрен, как атом-зерно; у Толстого зерно проросло; выхват из жеста раскрылся, как круг рода жестов.
Гоголь в «МД» подчеркнул атом жеста: Чичиков дан сперва в круге движений; потом — в нем подчеркнут козлиный скачок; он — острится; в конце это — дерг со вцепом в сапог генерал-губернатора; здесь показана марионеточность; сапог — ниточка, за которую дергает рука автора: «есть в тайных видах правительства нечто, влекущее нас» (?) (МД).
В механическом атомизме натура нарушена, но в обратную сторону, чем в «Веч»; дать лист при разгляде его в микроскоп — натурально ли? В «Веч» жест космичен; в «МД» — микроскопичен; натуральный глаз не способен увидеть ни диска планеты, ни листяного крахмального зернышка; глаз видит зелень; механический натурализм есть пунктир, а не линии жеста; в нем точка пунктира воспринимаема яростным вздергом, как бы от укуса тарантулов; в «Рев» все дергаются, как укушенные (тарантелла); и это — не натурально.
164
Ненатуральность — от пристальности; ненатуральность же в «Веч» — от верного росчерка всей линии массового движения, в котором детали стерты. Там глаз — широко открыт; здесь — сужен в точку; хочется вскрикнуть: «Где-то уж видел я растаращи такие, которые были б реальны, когда бы фигурки задвигались!» Видел на вазах (на черном, коричневом — желтая роспись); застывшая та же улыбка: но «взгляд... бесчувственен» (СП), «зажмурил глаза (МД), взмахнул чубуком (МД), окаменел в присядь, раскинув руки (Рев); и тот же панический, полднийный, черный, хоть солнечный день из «СП» ли, из древнего ль гимна; вдруг ожутен сладчайший Манилов с своим «поднял трубку с чубуком», «выронил... чубук с трубкой»; и — поехало: «куря трубку», «говорил... куря трубку», «все время сидел... и курил трубку», «все еще стоял, куря трубку», «выпустил... дым»; опять «выпустил изо рта... дым»; чтобы доконать, прозолить окончательно: «на окнах... тоже горки выбитой из трубки золы»; и уже нет Манилова, а — зола: Фемистоклюс, Алкид, «храм уединенных размышлений», сладчайшая дружба — зола: «тишина была мертвая, даже кузнечик переставал в это время кричать» (СП); но «чубук хрипел — и больше ничего» — чубук Манилова; да «слышалось... высмактыванье... кости» Григорием Григорьевичем (Шп), да пра́шилось плюшкинское добро; оттого: «Признаюсь, если бы ночь самая бешеная... настигла меня одного... я бы не так испугался этой ужасной тишины среди безоблачного дня» (СП).
Древний ужас — панический — фон всех фигурок, написанных в желтых тонах; фон — черный; в нем белое — морок табачного дыма; но острота поз измеренных, взвешенных, переизученных, перерисованных многое множество раз, — ослепительна: ненатуральная зоркость!
Жестики обращения разных персон с табаком — стилизация характеристик: один — «вынимал из кармана... табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, обворачивал ее быстро пальцем правой» (МД); другой — «всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем»; третий — «нагнул голову... вперед, засунул руку в задний карман... вытащил... табакерку... захвативши табаку... поднес... коромыслом к носу и вытянул носом... всю кучу, не дотронувшись даже до большого пальца...»
Прорисованный, переизученный вздерг высекает эффект, вызывая в памяти те же фигурки на тех же вазах: «Да, где ж это видано?» Вдруг, как ответ: коричнево-желтая роспись на черном фоне архаической вазы, иль — пляска сатиров, борьба куретов и корибантов; бородки, как клинышки, пальцы, как иглы; колени и локти углят; все застыло вовеки-веков; «гости остаются столбами» (Рев): «Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком»; «Добчинский и Бобчинский с устремившимися друг к другу движениями рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами», «судья с растопыренными руками, присевший почти до земли» (Рев).
165
«Пляска сатиров» — вот прототип стилизации Гоголя: со второй фазы: операция доктора над безносым лицом Ковалева (с щелчками по носу) (Н) — не бой ли курета с испуганным корибантом? Где тут натуральность? И сколькое в позах от... ваз Греции, Египта, Микен; дамы «НП», «Рев», «Н», «ЗС», «МД», коль собрать завитушечки, локоны, лепты, фестончики, «рюши да трюши», «глазки да лапки», да «воздухоплавательные шары» рукавов, с непременным «павлиньим пером» в голове (МД), то получится модница с фрески, раскопанной в Крите...
Механический натурализм со второй фазы — такая же стилизация, как «японизм» первой фазы: гипербола — там; гипербола — здесь; там — дифирамб, здесь — осмеяние; там — Хокусай, здесь — Ватто, остров Крит, ваза, Мексика даже (в орнаментах древнего Крита есть склик с древней Мексикой.
Посредине — натура: одна для всех фаз.
«НАТУРА» ИЗОБРАЗИТЕЛЯ ГОГОЛЯ
Противоборство двух стилей — в слоге, в красках, в ландшафте в портрете и в жанре — имеет точки пересечения: соединив и замкнув их, приходим — к «натуре»; стили заключаемы в скобки: вообще штампа; и «стеклянная панночка», и «критская модница» противостоят Параске с Агафьей Тихоновной, как нечто ненатуральное; вынося за скобки «натуру», имеем: все «стильное»; тогда вместе с Гиппиусом можно сказать: и Невский дан в принципах кукольного театра; трафарет многих сцен «Веч» (баба и чорт, москаль и цыган и т. д.) лишь аналогии трафаретно данных усов, бакенбард; но качественность — иная; и, формализм: видеть корни обоих штампов в народном пещном действе; относительно «Веч», может быть, это — так; относительно дам и носов — нет; «гиньоль» не украинская «кукла»; Бердслей — не Росетти1.
Определяет качественность, а не форма: проделки Вакулы над чортом имеют тенденцию: превознести кузнеца; корень проделок с «носом» — тенденция к скепсису: «не верьте Невскому!»; тут штамп — орудие неубедительности; происхождение женского штампа «красавица» в «Веч», — взгляд на женщину раннего отрывка «Женщина» (она — эманация бога, «София»); романтик Гоголь совпал с поэзией Владимира Соловьева, Данте, раннего Блока через романтиков (наследие Шеллинга); в перерождении трафарета от первой фазы ко второй у Гоголя — совпад с Блоком: «Прекрасная дама» разоблачается; она у обоих становится уличной «Незнакомкою»; как Блок, Пискарев ищет «Прекрасную даму»: «и там ее нет», и здесь «ее нет»: «Где же она?..» «Поиски... оставались тщетны» (НП); она — в волнах опия; у Блока она — на дне стакана; потом она — «ад».
В первой фазе Гоголя дано разъятие женщины на сквозную
166
красавицу и на ведьму, которая, в корне взять, — труп (ВНИК, В); линия падения женского образа — от эмпирея до ада (сквозь землю); у Блока падение это — по фазам: в первой фазе поэзии «ада» нет; дан «рай»; «ад» — в третьей фазе, когда «французский каблук» вонзается «страшною музою»: в грудь; «ведьма» до гроба сопровождает Блока; она исчезает у позднего Гоголя; нет «рая», нет «ада»; простое снижение образа: «пустая бабенка» — «натура» образа, за исключением недорисованной Улиньки и пустых контуров: красавица из «П», Аннунциата из «Р»; губернаторская дочка, и та — кандидатка в «бабенки».
Стиль показа дамы: в платье «больше похожем на воздух» (ЗС); она — в «палевой шляпе... как пирожок» (Н), в лентах, «легче пирожного» (МД), с талией «не толще бутылочной шейки» (НП); «Какой голосок! Канарейка» (ЗС); в лице: «такое чуть-чуть обнаруженное... неуловимо тонкое!.. Женщины, это такой предмет... Намеки... а вот, ничего не передашь» (МД); показ — ирония; «дама» — небесноподобна, как сверкающее сало, выставленное в витринах (Р); предметы сравнения — пирожок, бутылка и канарейка — снижение под формой хваления; под штампом же — просто — «галантерейная половина человеческого рода... ничего больше» (МД); «мечтательно умела держать головку, и все согласились, что... дама, приятная во всех отношениях» (МД); «как воздух» — платье, а не она: она под платьем «тяжеловата» (МД); «неуловимо тонкое» в ней: «Ух, какая булавка!» (МД); «как алебастр», белизна (Ж) — белила «в палец толщиной»: отваливаются, «как штукатурка, кусками» (МД); она просто «Подстега Ивановна»; «Ген-зи на кухня» (НП); «глупость составляет особенную прелесть в... жене» (НП); «вы думаете, что эти дамы... Но дамам меньше всего верьте» (НП); они произносят «слова, которые... обдают как варом... юношу» (МД); одно утешение: «Аделаида Ивановна»; но «Аделаида Ивановна» — крапленая колода карт (Игр); «О, как отвратительна действительность» (НП).
Тут и предел снижения образа; это — не «ад», а «бабенка»; разобрана ее жизнь по возрастам; сперва девушка — с лицом свеженьким, «как яичко» (МД), «как молоко» (Ж); в возрасте Агафьи Тихоновны — «тяжеловата» (МД); выйдя замуж, напоминает «бабенку, свежую, как репа» (МД); после замужества: «наделил бог такою благодатью — что год, то несет: то Праскушку, то Петрушу» (МД); и уже: схватывает мужа за нос, как за ручку кофейника (ОТ); ее подвиги в почтенном возрасте: «сама сечет своих девок» (ТЕО), мужа сечет, «как кошку» (TEO); на пороге старости: «откусила ухо у заседателя» (ОТ).
Это быт омещанившихся дворян; Водовозова1 описывает факты этого быта, имевшие место и после Гоголя в царствование Александра II (кулачные побоища, сечение ремнями детей, дворовых, брань классных дам в «Смольном» почище площадной и т. д.).
167
Корень стилизаций, и той, которая ведет к фантастике прошлого, и той, которая ведет к кукле а ля Бердслей, — круглое, «как репа», лицо в палевой шляпке; оно же, одетое в ленты, — лицо Параски; и то же лицо у старой помещицы с тремя бородавками, в капоре, и — у Хиври; в суждениях, замашках, тупоголовии — совпадение; остальное — обличие; здесь — украинский наряд; там — капоты и чепцы; изменение складок в условиях по-разному поданной композиции меняет стиль и гротеска, и ангеличия: под гротеском ведьмы и Агафьи Федосеевны — та же «баба»: ведьма — просто старая баба (В); оказывается: побег носа «есть больше ничего, как следствие волхвований» мадам Подточиной (Н); под ангеличиями и Оксаны, и дочки его превосходительства (ЗС) — простое жеманство.
Такова же общность мужской натуры «Веч» и бытовых повестей.
Левко — стилизация идеального «парубка»; Хлестаков — стилизация безответственной легкости; но — легкость, граничащая с легкомыслием, — живет в обоих; тот же «молодой человек» их породил; олегкомыслите Левко, — и перед вами — «Голопупенков сын» (СЯ); шалят оба; второй не прочь подплутнуть; о Хлестакове: «чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия... тем более... выиграет» (Рев); «Хлестаков... не лгун по ремеслу...»; ...ложь — «поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновения» («Отрывок из письма»); можно б сказать: видение Левко — «вдхновенная ложь»; Хлестаков и Левко в ком-то третьем, который натура обоих — как бы сообщающиеся сосуды; соединяет обоих — «Никоша Гоголь», помещичий сынок, поэт, фантазер, как Левко, гопакующий и влюбленный в думку; он не прочь и покушать, как Хлестаков, не прочь и прилгнуть; позднее ж «Никоша» держал корректуры, которых держать он не мог, потому что и текста к ним не было, — в письмах к знакомым.
Постепеннее возрастом, но все еще «Хлестаков» — Ковалев; этот уж прямо-таки кандидат стать Яичницей; а Яичница в захудалой провинции, будь он хозяином-домовладельцем и выйдь он, как Шпонька, в отставку, он стал бы — Иваном Никифоровичем; и с другой стороны: на казацкой службе Левко, войдя в возраст, — Данило; Голопупенко в возрасте, перенесенный на сто лет назад, — запорожец; а от последнего до Тараса в условиях стилизации — шаг.
И с другой стороны: Тарас мог рассориться с Сечью и зажить своим хутором: кормить телом мух (ТБ); так он стал бы — Пацюк: «кончился поход — воин... ловил рыбу, торговал, варил пиво...» (ТБ); «хватил с полведра» (СМ); «мухи напали на усы» (СМ); «полно... валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух» (ТБ). Тарас, Пацюк, Довгочхун — тот же род: в трех столетиях; два столетия Тарас укорачивался и ожиревал: он ко времени Гоголя — Довгочхун, не Тарас.
Из-под штампа «герой» довгочхунова «натура» прет: с первой
168
фазы; «натуральный» казак: широкоплечий (ТБ), дебелый (ТБ), двадцатипудовое тело» (ТБ), толстенький, с малыми глазками (МН), «забавившийся» (Тарас не «бабился», а Тарасов, сын, сядь на хуторе, — «бабился» бы); и у него небольшие (СЯ), ласковые, масляные (В) глазки (как у... Манилова); залежавшимся байбаком он летит на ковре-самолете сквозь время, не переменяя движения, и пожирая галушки; ковер опускается — на... двор Довгочхуна; Довгочхун — перенесенный Пацюк; мы его узнаем по штанам: у Пацюка они — кадь; у Довгочхуна же — занимают они половину двора; у древнего казака они — «шириною с Черное море» (ТБ).
Гоголю так примелькались штаны Довгочхуна, знакомые с детства, что их перенес он во сне в глубь истории, где они запылали прекрасными алыми пятнами, между тем как в действительности штаны Довгочхуна остались проветриваться среди арбузов и тыкв вместе со старым казацким седлом: «старуха вылезла из кладовой... таща на себе старинное седло с оборванными стременами... с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем» (ОТ); несомненно: на этом седле гарцовал Тарас; гоголевские обжоры порою атавистически переживают какие-то вспыхи воинственности; вынесли и «синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился вступить» в ополчение; кто сказал бы, что и Афанасий Иванович — бывший кавалерист, ловко похитивший Пульхерию Ивановну; и он хочет итти на войну: «Я его застрелю... Возьму саблю и казацкую пику» (СП).
Общее у казака с Довгочхуном — обжорство и выпивка: герои первой фазы истребляют по четыре фунта сала; с утра до вечера и с вечера до утра галушки сами собою влетают им в рот; выпивают же по ведру горилки: «чтобы играла и шипела, как бешеная» (ТБ); это свойство в веках разрастается лишь: «объедался страшным образом» (СП): Афанасий Иванович по точному подсчету кушал девять раз в сутки; для аппетита «закусывал... возбуждающими благодатями» (МД); «заказывал в голове... паштеты и соусы» (К); «оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить, а потом уже завершить» (ОТ); гастрические восторги доходят до выворачивания наизнанку всех ощущений: «хороший табак... возьмите, разжуйте... во рту: не правда ли, похоже на канупер?» (ОТ).
Нажравшись, тела, как откармливаемые на убой боровы, дрыхнут; когда Григорий Григорьич ложится, то кажется: «перина легла на перину» (Шп); «в эти двери не войдет — такой славный» (Ж); «шея сзади... в три этажа» (МД); «короткие руки, похожие на выросший картофель» (ЗС); «обе щеки лоснились жиром» (МД); «щеку раздуло в одну сторону, подбородок... в другую, верхнюю губу взнесло пузырем» (МД); словом: «отличались невзрачностью и неблагообразием» (МД).
Вот та же «натура» лица в первой фазе: «толстый кабан» (В); на голове чуб (у Ивана Никифоровича — «редька хвостом
169
вверх»); «нос... ...покрасневший, как снегирь»; «дали дулю под нос» (ВНИК) (у Ивана Никифоровича — «нос спелой сливой»); вообще «рожа барабаном, на котором заставили выбивать зорю» (СЯ) и оттого — «верхнюю губу взнесло пузырем».
Тот же и смех: в «Bue» смеялся, «точно два быка... замычали разом»; но и в «Коляске»: «испустил небольшое мычание, как издает теленок, когда ищет мордою сосцов матери»; то же немногословие, то же косноязычие; сентенции, изрекаемые Довгочхунами, не отличаются от сентенций пьяного Явтуха-Ковтуна, Печери́цы, Закруты-губы; изменилась лишь пища их: «Летом очень много мух, сударыня» (Шп); «дамам очень идут цветы» (Ж); «живописец... свинья свиньею живет» (П); «говорят... что три короля объявили войну царю нашему... Я полагаю, что короли хотят чтобы мы приняли турецкую веру» (ОТ); «курские помещики хорошо пишут» (ЗС); «хлеб — дело печеное, и нос — совсем не то» (Н); «у порядочного человека не оторвут носа» (Н); «женщина хватает нас за нос так... как... за ручку кофейника» (ОТ); «у него нос не из золота сделан» (ЗС); «судьба — индейка» (Рев); «где офицеры, там и трубки» (НП); «вот еще гадко, если мозоли» (Ж); «штукатурщик штукатурит и не боится ничего» (Ж); «пушка сама по себе, а единорог сам по себе»; «Эхе, хе, хе! Думаешь себе» (МД); «Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь, скорлупа, чай, сильно бы толста была» (МД); «такой славный барабан! Этак все будет туррр...ру... тра-та-та, та-та-та» (МД); «лошадь, пуф, пуф, очень порядочная, пуф, пуф, пу, пу, пу... у... у... ф» (К); то есть: «чубук хрипел, — и больше ничего» (МД).
Таковы сливки миросозерцательной мудрости, данные в выборных афоризмах; от них веет казацкой дичью XV столетия, когда перед перепуганными глазами у своего же брата, казака, побывавшего за границей, изо рта вырастал «клык» (СМ): «иной раз страх, бывало, такой заберет... что... все покажется бог знает каким чудищем» (ВНИК); «принимал... свитку... за свернувшегося чорта» (ВНИК); «только огонь из люльки может зажечь оборотня» (МН).
То же дикое суеверие гнездится и в героях, современниках Гоголя: им мерещится «бог знает какое чудище»: «Иван Иванов, сын Перерепенко... имеет посягательство... на мою жизнь... и.... содержа в тайне сие... пришел ко мне... хитрым образом выпрашивать ружье» (ОТ); или: «штаб-офицерша... решила его испортить и наняла для этого... колдовок баб» (Н); и они делают «чорта» из собственных свиток.
Та же грубость, жестокость: в «МН» обливают «людей на морозе»; в «ТБ»: «я тебя породил, я тебя и убью»; «еще милость, когда... сварят живым»; но и в «ОТ»: «откусила ухо у заседателя», «сделала такую непристойность, что...», «прошу оного дворянина... в кандалы заковать... ...барбарами шмаровать» (ОТ) и т. д.; то же отношение к иноземцам: «проклятые кацапы» — «разводят тараканов», «едят щи с тараканами» (Шп); «немцы выдумали...
170
побольше денег... забирать» (Шп); «я не немец, чтобы выпрашивать деньги» (МД); и т. д.; француз — еще чище: «Эка глупый народ!» (ОТ); хотя в сорок лет француз такой же, как и в пятнадцать (МД), хотя он ветрен, как водевиль (Р), и в один день выказывает всего себя, а «на другой... нечего... и узнавать» (Р), потому что «вся нация — блестящая виньетка» (Р), — однако: «французы с помадами и француженки с шляпками, истребители добытых кровью... денег» (МД, 2); «взял бы их всех, да и перепорол розгами» (ОТ); улицы города полны дородными животными, которых городничий называет «французами» (К); француз признает «веру Магомета» (ЗС) и чихает, «когда Англия нюхает табак» (ЗС); в общем — «француз гадит» (Рев), как и скорчивший «в острый угол» ноги англичанин «в гороховом... макинтоше», у которого «вопросительный знак на неподвижном лице» (Р); он «завидует, что... Россия... велика и обширна» (МД); какую страну ни возьми, — бред: «Китай и Испания совершенно одна и та же земля»; и она находится: «возле хвоста» (ЗС) и т. д.
Чем каталог этих сентенций отличен от староказацких? Еврей — «свиное ухо» (ТБ); поляк — «проклятый недоверок» (ТБ); цыган — «снюхался с чортом» (ПГ); «москаль» — вор (СЯ); немец — тоже — «проклятый» (МН).
Одна натура.
Коротко говоря: донельзя сближенные Довгочхун (помещик) и прошедший в «головы» кулак — полны безобразием падающего патриархального строя; натуральное хозяйство — сближает их; оно уж охвачено высшими формами производства; «натура» обрабатывается двумя штампами; одним вдавливается — в прошлое, чтобы выглядеть героически; другим — избезображивается до бреда; штампы: червонноверхая, благообразящая казацкая шапка и утиноподобный, обезображивающий картуз; под шапкою вырастает чуприна; под картузом — хвостик редьки; второй штамп ближе к натуре: он промозолил глаза «Никоше»: в Полтаве, в Нежине, в Миргороде, в Васильевке.
С него и начнем.
НАТУРА ГОГОЛЕВСКОЙ УСАДЬБЫ
Условлюсь: краски беру у Гоголя; из экономии места, щадя читателя, не опрокидываю на него завалов цитат, и где приставляю к цитате цитату, а где одной фразой даю раккурс суммы их с сохранением гоголевских словечек; задание: дать постановку поместного быта, чиновного быта, провинции и столицы, или — заменить полотнища системой цветных открыточек; с графами статистики поступаю, как с красками; не привожу их колонок, свободно смешивая, чтобы встал помещик, вросший в дом, сад, огород, крепостную деревню, в ему принадлежащие и поля, и леса: и беру материалы из своих цитатных реестров.
Вот дом помещика: «с красной крышей и темносерыми, или,
171
лучше, дикими стенами» (МД); фронтон с «полукруглым окном... не пришелся посреди дома» (МД); крышу подпирают «восемь коринфских колонн» (МД); перед домом «три клумбы с кустами сирени и желтых акаций» (МД) расположены на покатости с «подстриженным дерном» (МД), сбегающей вместе с «серой деревнею» (МД) к пруду, сияющему, «как дно медного таза» (МД); с противоположной стороны терраса, обращенная в зелень сада с узенькими дорожками; тут: «обрушенные перила... ветвь клена, протянувшая... листы... один из которых солнце превращало в... огненный» (МД); тут и «огромные, вороньи гнезда» аллеи, из которой «открыт вид на, ...дорогу» (МД): под косогором; из солнечных куп, «как темная пасть», — глубина, заросшая хмелем, глушащим «кусты бузины и рябины» (МД); над косогором «беседка с плоским зеленым куполом», «с деревянными голубыми колоннами» и и надписью: «Храм уединенных размышлений» (МД).
Таковы сад и дом помещика побогаче (из средних); кисть Поленова, перья Тургенева, Гончарова его доработали; их каркас взят у Гоголя (минус слог, минус экономия в красках); Поленов — переписал, Тургенев — переговорил этот дом.
Чаще дан маленький деревянный домик помещика победней из «низеньких фруктовых деревьев» и «душистой черемухи», где осенью «яхонтовое море слив, покрытых свинцовым матом»; свиньи толкают их мордами, «чтобы стряхнуть... дождь фруктов» (СП). «Чего там нет!» (ОТ). Из зелени видны — «крыши, посаженные одна на другую» (ОТ), «окошки с резными, выбеленными ставнями, крылечко с навесом на двух... столбиках» (ОТ), «похожих... на церковные подсвечники» (МД) и кусок галлереи из «почернелых столбиков» (СП); деревянный балкон обращен в сад (СП).
В описании этого домика Гоголь — передвижник: до передвижников.
Комнаты маленькие и низенькие, ужасно теплые (СП); «в каждой... огромная печь», сундуки, сундучки и ящички (СП); двери — со скрипом; каждая — на свой лад (СП); «стены убраны картинами в старинных, узеньких рамах» (СП), изображающих запачканных мухами птиц, или старика «с красными обшлагами мундира» (СП); в гостиной по углам «треугольные столики» (СП), перед диваном же на ковре «с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц» (СП) — «четырехугольный столик» (СП); зеркала «в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями», и покрытых черными мушиными точками (СП); на бюро, выложенном «перламутной мозаикой», прибор из слоновой кости, «для чесания самому себе спины» (МД); по... — тут «комната наполнилась змеями»; «за шипением последовало хрипение»; и часы, «понатужась... пробили таким звуком, как будто кто колотил палкой по разбитому стеклу» (МД), дверь в сенях откликнулась странно дребезжащим и вместе стонущим звуком (СП); этажерочка стала прыгать под шмяканьем тяжелого шага; и в комнату вошел низенький
172
«толстый человек» с табачного цвета глазками (ОТ), с длинным чубуком в руках (МД) в «казимировых» панталонах желовато-белого цвета и в «зеленом нанковом сюртуке» с пуговицами в пятак (ОТ); он вдавил в воротник свой затылок, как в бричку, выдавив шею складками (Шп).
Это — помещик.
Во двор въехали дрожки, звеня каждым гвоздиком, каждою железною скобкой (СП); толстый гость с желтоватыми, пропадавшими меж бровей и щек глазками (ОТ) и «руками... похожими на два... картофеля» (К), вылез из низ; с ним мужчина «с пластырем на носу» (МД); то были: Елевферий Елевфериевич и Евпл Акинфиевич (ОТ), по прозванию «шпрехен зи дейч» (МД): из «Тетюшинского» уезда (верст за пятнадцать, что значит «тридцать») (МД).
Шея помещика выскочила из окна, как из брички (Шп); чубук прохрипел, как фагот (МД):
«Лошадь, пуф, пуф, очень порядочная... пуф, пуф, пу, пу, пу... ...у ...у ...уф». (К)
Все покрылось клубами дыма.
Когда они рассеялись, уже передняя половина Елевферия Елевфериевича в нанковом, желто-коричневом казакине (ОТ) — выдавилась из передней (ОТ); за ним выглядывал Евпл Акинфиевич — «шпрехен зи дейч» — «с пластырем на носу»: «кафтан коричневый, а рукава голубые» (ОТ); облобызались «в правую... в левую... снова в правую щеку» и сели под мухами.
Евпл Акинфиевич «вытащил... табакерку», сделал рот ижицей (ОТ), лизнул крышку, щелкнул пальцем (ОТ); и сказал: «У меня был... славный дрозд» (ОТ); но «чубук хрипел» без ответа; в голове помещика, «захлопотанной посевами» (МД), мелькало: затеять «банчок»; Евпл Акинфиевич состоял в филантропическом обществе, основанном двумя философами «из гусар» (МД, 2), и потому не имел крапленой колоды Макдональда Карлыча (МД), прозванной «Аделаидой Ивановной» (Игр); у того и мальчишка «одиннадцати лет передергивает с... искусством» (Игр); так подумав, он прогудел, «точно певческий контрабас» (МД), что дрозд — вещь известная, «а то — чорт знает что такое: свинья!» (ОТ).
Пока рассказывалось про свинью, в столовой уж стлалась скатерть; явились и «коржики с салом», и «рыжички», и «сушеная рыбка», и водка, настоенная на траве «деревий» (СП).
Наконец вышла и Феодулия Ивановна в сереньком «с небольшими цветочками» платье (СП) и в коричневом капоре с небольшими сборками (Шп) — степенно держа голову и сделав движение ею, подобное актрисам, представляющим королев, она повела их к столу (МД): «Водка... если у кого болят лопатки, то очень помогает... Золототысячник: если в ушах звенит, то очень помогает!» (СП). Евпл Акинфиевич «подошел к водке, потер руки, рассмотрел... рюмку, налил, поднес к свету, вылил... в рот... пополоскал ею... ...проглотил» (Шп). «Вот это грибки с чебрецом!
173
Это — с гвоздиками!» (СП). Но он заговорил, поставив перед собой палец и вычурно и хитро (Пред. I): «Господи!» Как он заговорил! «Это ощущение можно было сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове, проводят пальцем по вашей пятке» (ОТ); и Феодулия Ивановна слушала с видом таким, будто спрашивала: «Сколько вы на зиму насаливаете огурцов?» (Шп), голова ее напоминала «кофейник в чепчике» (Шп).
Ели с «разинутыми ртами и выпученными глазами» (Рев); испускалось мычание, «какое издает теленок, когда ищет... сосцов» (МД); раздавалось: «Посечь!» (МД); помещик то-и-дело обращался к Петрушке, стоявшему с блюдом в руке: «Ты, брат, чорт тебя знает, потеешь что ли...» (МД); в ответ слышалось только громкое высмактыванье бараньей кости (Шп); наконец Елевферий Елевфериевич, съевший «двенадцать ломтей» (МД), «пощупал животик» (МД, 2); и произнес расслабленно:
«Барабан!» (МД, 2).
Помещик ответствовал толстым, шмелиным басом (СП):
«Скинем фраки... приотдохнем» (МД).
«Фетинья была мастерица взбивать перины» (МД); когда Елевферий Елевфериевич, «подставивши стул, взобрался на постель» (МД), то «точно перина легла на перину» (Шп); постель «опустилась... до самого полу», и перья «разлетелись во все углы комнаты» (МД); «какие-то... пребойкие насекомые кусали больно» (МД); «привык... чтобы кто-нибудь почесал... пятки» (МД).
Издали гудел «толстый бас» (СП): «Пропеки... чтобы... всю... прососало, проняло... чтобы она вся... растого... Да подпусти... сниточков, бобков» (МД, 2).
Таков этот взбухший, как на дрожжах кулебяка, быт.
Тут — где передвижники? Где Гончаров? Так писали бы Бенуа, или Сомов, если бы кисти их тронули мелкопоместный быт; тут гипербола — не надстройка над текстом, а — сжим в афоризм тысячу раз виданного, которое зажило в памяти раз навсегда, не требуя перерисовки натуры; после Гоголя литература не знала такого естественного преувеличения.
Там, где Гоголь натуры не знает, принимается перерисовывать он; натуральная стилизация переходит в искание натурализма путем фотографирования подробностей.
Вот — помещичий двор.
Он — поросший травою (МД); в траве — колесо; тропочки «от амбара до кухни... и от кухни до барских покоев» (СП); «отпряженный вол», петух с «крыльями, обдерганными, как... рогожка» (СП), свинья в куче мусора, «съевшая невзначай цыпленка» (МД), обилие «всяких собак... муругих, черных, с подпалинами, полвопегих..., черноухих, сероухих» (МД), запачканный мальчишка и баба «развешивала залежалое платье» (ОТ) на плетень, из которого челядь «выдергивала... палки», и который уже обвешан был «связками сушеных груш... и проветривающимися коврами» (СП); на крышах служб — «не мало... разного рода трав» (МД), просушиваемых
174
по приказанию — «Слушай у меня, Евдоха!» (СП) — Феодулии Ивановны, которая «не вела... записок», ведя счет в уме, «сплетничала и ела вареные бураки» на дворе: она была в «кофейном чепчике» (Шп), в старом и уже раз распоротом салопе, и выдавалась станом, похожим на кубышку (ОТ); платье ее «с малиновыми полосками» прогорело «во время... печения лепешек» (Шп); «цветущие сирени и черемуха бисерным ожерельем обходили двор» (МД); за двором — «подсолнечники, огурцы... стрючья» (ОТ); «пестрые пятна» арбузов и дынь, «капустник, обнесенный... изломанной городьбою» (МД), «несколько чучел... на одном чепец... хозяйки» (МД); воробьи «косвенными тучами переносились с... места на другое»; а «по огороду разбросаны яблони» (МД).
Под косогором, у пруда бабы «с толстыми лицами» и «перевязанными грудями» — по колено в воде» (МД); по косогору — «серенькие», «узорчатые» избы: «коньки да резные гребни» (МД); окна «без стекол; ...заткнуты зипуном», иные — «сквозили, как решето» (МД); «крыши зевали» (МД); мужики тоже «зевали, сидя... перед воротами в... овчинных тулупах», с окладистыми бородами (МД); «мужик... изленился... сделался пьяницей... Не может без понукателя... задремлет... закиснет» (МД); «мужики распьянствовались и стали... числиться в бегах» (МД); «в конце деревни лысый Пимен, дядя всех крестьян, держал кабак, которому имя Акулька» (МД, 2); «из-за изб» — блещущий «крест сельской церкви» (МД, 2), да «клади хлеба... цветом походили... на старый плохо выжженный кирпич» (МД).
Такова деревня, написанная в серых тонах «натуральной» школы и передвижничества; когда проезжали через улицу, — то «старые бревна», которыми она была мощена, «как... фортепьянные клавиши, поднимались» и опускались (МД); проезжающий бросил взгляд на девчонку «в платье из... крашенины, с босыми ногами, которые можно было принять за сапоги, так они были облеплены... грязью» (МД); и думал: мужик — «вор; хоть он... не украл, да все равно... он украдет» (Рев).
Но деревня уже «унеслась... с отлогостями, пригорками» (МД); «остался один небосвод, да два облака в стороне» (МД, 2); лишь «трава вместе с... колосьями и полевыми цветами лезет в дверцу коляски, ...ударяя по рукам» (СП); «то же поле... изрытое, черное»; вблизи еще не убранный жиденький хлеб; там вон — копна (Шп), пни (МД), галки, вороны (ОТ), кочки (МД); пробираешься «между перелогами»; дороги расползаются «во все стороны, как пойманные раки» (МД); в «светлой мгле» пятна «пылившихся вдали рощей» (МД); там — «в несколько зеленых поясов зеленели леса»; за ними «желтели пески, и вновь леса, уже синевшие...» И вновь «пески, еще бледней, но все желтевшие» (МД, 2).
Небогато гоголевское поле; припоминается пейзажист-передвижник.
И — два леса: «Темнел... скучно синеватым цветом... сосновый лес» (МД, 2): «с топорным стуком, с вороньим криком» (кстати:
175
не слыхивал вороньего крику в сосновых лесах) (МД); он уже «потемнел и готовился перейти в ночь»: беден сосновый лес.
Лиственный веселее у Гоголя: «стволы... закрыты разросшимся орешником»; здесь — «дуб, лесная груша, клен, заглушая друг друга», карабкаются по косогору; там — «белые стволы берез и осин, блестя, как снежный частокол, легко возносились на нежной зелени» (МД); «соловьи... щелкали» (МД); и — «голубели пролески» (МД, 2); «рои мошек... на болотах» (МД, 2); желтые цветы, «лилово-розовый» анемон; вдруг отовсюду «промеж ветвей и пней, сверкнули... как бы сияющие зеркала» (МД, 2); «деревья заредели, ...и вот... озеро» (МД, 2).
Это лес пейзажиста Шишкина, с которым опять согласился б Тургенев, столь во многом с Гоголем не согласный; только он сжатую эту картину, представляющую итог всего, сказанного о лесе, представил бы в сотнях фотографических подробностей, 50% которых излишни.
Подытожим: помещичий дом, сад, двор, поле, лес даны зрелым Гоголем в жанре передвижников и в духе ландшафта, показанного Поленовым, Шишкиным и т. д.
Там же, где выступает помещик и быт его дома, — вовсе иная живописная школа: та, которая в начале века сменила тенденции русской живописи конца столетия, вызвав движение воды (Бакст, Бенуа, Сомов) и стремясь к ироническому подче́рку, к гиперболе, как и... живописец Гоголь, упредивший лет на восемьдесят тенденции этой живописи; разумею ж я не тенденции сюжета и не тенденции языка, а — красочные пятна: в способе их комбинировать.
Что ярче в этом макете поместья: природа, или помещик? Конечно, последний; он — ось полотна; в натуре гоголевского сырья лежало нечто гиперболическое.
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
Коли не губернский, то площадь — «прекрасная лужа» (ОТ); а коли губернский, то — дом губернатора: «трехэтажный, каменный... караульная будка... солдат с ружьем» (МД); рядом суд: «восемь окошек», «цвета гранита» (ОТ); другие же дома выбелены (ОТ), иль выкрашены: в желтую краску (МД); верхний этаж гостиницы — желт; нижний — красный, кирпичный (МД); перед гостиницей — яма (МД); и начало градского сада из «тоненьких дерев... с подпорками» (МД); и возле — «навалено на сорок телег... сору» (Рев); с угла — лавочки: «с хомутами, веревками и баранками» (МД), «столы с... мылом и пряниками, похожими на мыло» (МД); исколуплена мостовая; столпленье, скопление бричек: «кучера в серых чекменях, свитках и серяках» (МД); «омытые дождем вывески с кренделями... сапогами» и «синими брюками» (МД); надпись: «Иностранец Василий Федоров» (МД); тут и больница, и почта, и пансион для девиц, где «прежде фортепиано, потом французский», а потом уже все прочее.
176
От площади «дома в один, два и полтора этажа» с мезонинами (К) и без садов; перед «досчатым забором» (цвет грязи) некто в узких «белых канифасовых панталонах» и при булавке «с бронзовым пистолетом» (МД) обернулся на даму «в клетчатом щегольском клоке», проходившую по деревянному тротуарику (МД); пихнули: солдат и девица «в красных шалях... в башмаках без чулок» (МД); «из дверей оранжевого... домика... с голубыми колоннами» «выпорхнула дама» и пошла «перед... домом темносерого цвета с белыми барельефчиками», отделенного от улицы «палисадником, за решеткой которого... деревца побелели от... пыли» (МД); свинья выставила «серьезную морду» на купца в сибирке (К); «помещик... в нанковом сюртуке» протарабанил (К), подпрыгивая и ударяясь головою в кузов пролетки (МД), мимо «кислых» домишек, ставших из «белых... пегими» (К); ни души: полосатый шлагбаум; «мостовой, как и всякой другой муке... конец» (МД); дорога мягка, «как подушка, от... пыли» (К); и — пригород, т. е. вид на «церкви... с деревянными куполами и чернеющими остроконечиями» (МД).
Если сделать от площади сверт, — то яма, в которую скатывается переулок; на косогоре церковь «Николы на Недотычках» с дворком, «с двумя яблонями перед стареньким домиком» (МД); и «направо плетень» — «налево плетень», на нем — горшки, ...напяленные плахты, сорочки, шаровары; «каждый вешает, что ему вздумается» (ОТ); из-за плетня — подсолнечник (ОТ); переулок «так узок», что «пешеход... убирался репейником, росшим с обеих сторон забора» (ОТ); «день жарок, воздух сух и переливается струями» (ОТ); за плетнем кто-то, лежа на пузе, свою выставил голую, жирную спину на солнце; и — «никуда не хочет итти» (ОТ), пока тощая баба выносит «залежалое платье... выветривать» (ОТ); встает пройтись в свиной хлев и вернуться: «человек не пойдет в хлев... для приличного дела» (ОТ).
Один днями разбирал «крап... карты» (Игр): «Пусть отец... — обыграю отца: не садись!» (Игр); «Что ж... что плюнет?.. Взял, да и вытер» (Ж); а под боком — пуще плут: переплутует его самого (Игр); другой все: «Зюзюшка... Зюзюшка! Вот я тебе бумажку привяжу» (ТЕО); третий — читает адрес-календарь: «А, вот и я» (Шп); почтмейстер «с прищуриванием одного глаза» читает «ключ к таинствам натуры», уснащая речь словечками; он видят в каждой букве, «из которой составлено слово Наполеон... особенное значение» (МД); распечатывал чужие письма, придавит сургуч, а «по жилам огонь» (Рев); дамы «заняты... разговорами о том, каким образом делаются каплуны» (ОТ); они умеют «напустить тумана» (МД), хватая мужа за нос, как за ручку кофейника (ОТ), называя его: «Жужу!» (К). Муж из дому, а кто-нибудь у дамы уж сидит (МД); и от этого дети Добчинского делаются похожими на Тяпкина-Ляпкина (Рев); в глазах — «ух, какое тонкое!» (МД); не говорит: «я высморкалась... а... я облегчила себе нос» и соблюдает «визиты и контрвизиты» (МД); весь город иногда занят обсуждением: какая свинья утащила: «Не бурая ли?»
177
Губернатор — «вышивал... по тюлю» (МД).
Все «народ добрый»: «Послушай, брат, Антипатр Захарьевич», — «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич» (МД); за картами покрывают нижнюю губу верхней; и делая мыслящую физиономию, приговаривают: «А! Была не была!..» — «А я его no усам, а я ее по усам!» Когда же в ударе, то и находят слова: «Червоточина! Пикенция!.. Пикендрас!» (МД); жен называют: «Муньмуня, пульпультик» (К), посмеиваясь над «рюшами-трюшалт» (МД); едят уху с «финтерлеями», запивают «бомбоном» (МД); чокаются, снова чокаются и опять-таки чокаются, излагая «вольные мысли, за которые в другое время... бы высекли... детей» (МД); один «в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского»; «убухал» за картами «четырех рысаков»; у всех после ворту точно «ночевал эскадрон» (МД).
Их наружности?
У Григория Григорьевича — «двухэтажный подбородок» (Шп), а шея — в три складки (МД); у Агафьи Федосеевны «отыскать талию... так... трудно, как увидеть без зеркала... нос» (ОТ); этот — «в двери не войдет» (Ж), глазки, «как два мышиные носика»; волосы — «чорт меня побери» (МД); из носа же «некартинно табак» (МД); один — огурцом; другой — молдаванской тыквой; «кувшинное рыло», «аптекарский пузырек», «аист», «верхнюю губу взнесло пузырем» — «весь город... такой» (МД).
Власть: «ожидали... генерал-губернатора»; вышел — «ни мрачный, ни ясный»; «ни гнева, ни возмущения» в минуту, «когда приходится спасать... отечество», потому что ничего «не в силах поправить» (МД, 2); около жандарм, «страшилище, с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое плечо перевязь, огромный палаш привешен сбоку» (МД, 2).
Губернатор — вылитый Чичиков, с болонкой возится и представлен к звезде: не то добряк, не то... «за копейку зарежет» (МД); «где губернатор, там и бал» (МД).
Дом — освещен; перед подъездом — крики, жандармы, форейторы; в переднюю — дама; на голове — перо, какого нет и в Париже; в глазах, — «у, какое»; трэн — занял бы половину церкви (МД); «сзади... лакей в ливрее и золотых позументах» (МД); «перед... тройными подсвечниками, цветами, конфетами и бутылками» кто-то говорит по-английски, произнося по-птичьи; лицо же — не птичье (МД); полковник подает «даме тарелку на конце обнаженной шпаги» (МД); «галопад... во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером... чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз-Куку», — «ряд локтей, обшлагов... концов лент, душистых шемизеток и платьев» (МД); все несется; губернатор держит «в одной руке конфетный билет, а в другой — болонку» (МД). Когда разъезжались, подняли такой шум, что он «разбудил будочника, который, подняв... алебарду, закричал... но увидев, что никто не шел... поймал на воротнике какого-то зверя и, подойдя к фонарю, казнил его» (МД).
178
Полицмейстер: «Мошенник!.. Предаст, обманет, еще и пообедает с вами» (МД); к нему все квартальный «в лакированных ботфортах», «поддерживая шпагу», в прискочку (МД): «взашей так прямо и толкайте» (Рев); «Ты у меня, любезный, поешь селедки» (Рев); квартальный кладет «в ботфорты серебряные ложки» (Рев); городовой «Держиморда поехал на пожарной трубе, а воротился пьян» (Рев); где нет губернатора, — там городничий, полагающий: «чем больше ломки, тем больше... деятельности»; «трех губернаторов обманул» (Рев); уничтожил городские сады (МД); высек унтер-офицершу Пошлепкину, «для порядка всем ставит фонари под глазами» и объясняет купцу: «Кто тебе помог сплутовать?.. Я помог... козлиная борода»; старается «для отечества»; глуп же, «как сивый мерин» (Рев); при нем в больнице больные стали — «грязны, как кузнецы» (Рев); в коридорах же понесла «такая капуста, что береги... нос»; в передней присутствия «сторожа завели гусей» (Рев).
Присутствие: «бумаги... широкие затылки, фраки»; сидят «казенные головы... любуясь крючковатой строкой» (МД); кто-то «из канцелярских... с продранными рукавами» (ОТ), «этакая крыса... пером... тр, тр» (Рев): «Гусак... не может быть записан в метрических книгах» (ОТ). Столоначальник с соседнего стола объясняет, что «под горлышком делается бобон» (ОТ); чиновник с «пятном по всему лицу... с заплатанными локтями сюртука» (носил три пера за̀ ухом, съедал девять пирогов, а десятый клал в карман) — перебивает: «Прикажете?..» — «Что там?..» — «Дело... о краденой корове». — «Хорошо, читайте»; и — продолжает свое: «Меня научил этому Захар Прокофьевич» (ОТ); высморкавшись «с помощью двух пальцев», какое-то «подобие человека копалось, корпело, писало», распространяя запах («комната... превратилась в питейный дом») (ОТ); канцелярист же в «подобии полуфрака... проглотил муху» (ОТ).
Вдруг посетитель, с перетянутым животом, в медведях, «в теплом картузе с ушами», держа трубочкой бумагу, — является в присутствие (МД), и тогда поднимается «шум от перьев... как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес» (МД); Иван Антоныч, кувшинное рыло, «оглянулся искоса, но в ту же минуту углубился в писание», увидев, что до него дело; и на вопрос «не ответил ничего»; посетитель ему — бумажку на стол: Иван Антоныч «накрыл тотчас... книгою» (МД); «чтобы и уши не слышали» (МД): «Я ему вместо двухсот четыреста ввернул» (Рев).
«Пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались... и сложили дело в шкаф... Пробили новую улицу; у судьи выпал коренной зуб... дело... лежало» (ОТ).
Таково делопроизводство.
Таковы же военные; «за неимением... поприща» пакостил «ото всех сил» (МД); «большая часть офицеров умело таскать... за пейсики» (Шп): «Паро ле пе!.. Пятьсот рублей мазу... плие́, чорт побери, плие́» (Игр); «проигрывали мундир, фуражку, темляк
179
и... исподнее платье» (Шп); «видели... офицера с султаном на голове, шедшего... поставить на карту дрожки» (К) пехотному капитану, который «удивительно... срезывал» (Рев); кто поскромней — сидел дома, «чистил пуговицы» и «ставил мышеловки» (Шп); поручик «большой... охотник до сапогов... заказал... четыре пары и... примеривал пятую»; он все поднимал ногу «и обсматривал... каблук» (МД); иной отвертывал «такие па, какие... во сне не снились» и «бордо называл бурдашкой»; «поручик Кувшинников... такая бестия... «Вот, говорит, брат, воспользоваться бы насчет клубнички» (МД). Генерал «с толстыми, блестевшими... эполетами... был дюже тучен»; имел лошадь «Аграфену Ивановну»; для обедов скупал целый рынок; когда накрывали на стол, шум от ножей слышался за городом (К); полковник трепал «себя по брюху после каждого слова», любил хвастнуть: «У меня-с... многие пляшут-с мазурку, весьма многие, очень многие-с» (Шп); и рассказывал «баталии», каких «никогда не было»; за ужином же все брал «пробку от графина» и втыкал в пирожное (К); у солдат были жесткие, как сапожные щетки, усы (К).
Купцы, бородачи, ходили в сибирках и меховых шапках (МД, 2); собирались они в общей зале гостиницы, распивая чаи, «сам-шост и сам-сём» (МД, 2); Абдулин — обмеривал и обвешивал (Рев); Пономарев, мошенник, с распертым брюхом, выдувал в день по 16 самоваров и примешивал сандал и жженую пробку к вину (Рев); он «усахарил» до гроба жену (Ж); «станет есть, все потечет по бороде» (Ж), а ходит — «в собольей шапке» (Ж); «дворянин-то... голенький» (Ж); сын его европейского виду, с гнилыми зубами, уж знает, что нужно, чтобы стать дворянином: «Купец есть негоциант» (МД, 2); откуда-то бухает: миллионер Муразов вхож к генерал-губернатору; половина России в руках у него (МД, 2).
Ремесленники почти что отсутствуют в провинции Гоголя; на фабрикантов фыркают: «голодный год, ...по милости фабрикантов» МД, 2).
Рабочего класса нет.
Таков городок: мошенник сидит на мошеннике (МД); «проклятый городишко» (К); «три года скачи, ни до какого государства не доедешь» (Рев).
Гипербола ли здесь показанный бред? Нет, — натура; и Гоголь, подавая ее, не имел специальной тенденции заострить картину, удручавшую Пушкина; он был наивен в заявлении, что все это «выдумал»; «выдумка» Гоголя — итог, квинт-эссенция, и не бичуемого, а промозолившего когда-то глаза; тенденция не присоединялась к «натуре» извне, а лежала: в природе так видеть; но и Переверзев неправ, когда думает, что Гоголь «шалил», изображая нелепицы; если пошаливал, как признается в «Исповеди», то в самой шалости лежала миссия; припадки тоски, от которой страдал он сызмальства, — от чего, как не от Миргорода с Диканькой. Названия — непроизвольные символы: «Диканька» — дичь; «Миргород» — городок, сжимающий в мировую пошлость тип мещанина.
180
Вспомните окончание «СЯ»: оборвав веселый гопак («все неслось, все танцовало»), Гоголь прибавляет: неразгаданное чувство «пробудилось бы в глубине души при взгляде... на старушек», которых лишь хмель, «как механик... безжизненного автомата», заставлял двигаться; «смычок умирал... теряя неясные звуки в пустоте воздуха»... и скоро «все стало пусто и глухо»; «тяжело... и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему» (СЯ); тут склик с «ОТ»: «Скучно на этом свете, господа!»; или: «небо ясно, и тучи не пройдет по нем», а все «мелькает чья-то длинная тень»; если бы адская ночь спустилась над Гоголем, то он бы «не так испугался ее, как... тишины среди безоблачного дня» (СП).
И романтические сказания, и бытовые повести окантованы этим рефреном; откуда он? Переверзев не отвечает: он — от способа видеть в «миргородском дне» вещи, какие до Гоголя ускользали от взора; гиперболичность — от удесятеренной зоркости Гоголя. Откуда ж открытие вещих, как у испуганной орлицы, зениц? От умения слушать какие-то «радио»-колебания.
Поэт — «эхо» (по Пушкину, Блоку, Боратынскому, Маяковскому): «эхо» коллектива; какого коллектива стал «эхом» Гоголь? Кто раскрыл в нем «зеницы»? Мог ли раскрыть их помещик, или майор Ковалев? Если бы они раскрыли «зеницы», то вместо жалких усилий оздоровить мертвый класс, каким отдается Гоголь в последнем периоде, вытаскивая для этого то Муразова, то Костанжогло, то «генерал-губернатора», имели бы «поэтическую идиллию» мелкопоместного быта, нечто вроде «Германа и Доротеи» Гёте; слабенькая попытка к идиллии в «СП» — в «СП» же и терпит фиаско, утопая в мертвостях быта, усиленных паническим ужасом полдня. «Во здравие ли «СП»? Нет. Стало быть: не звукам мелкопоместного коллектива внимал Гоголь, а звукам того коллектива, который складывался, которого выразителями становились: Белинский и Чернышевский.
Городок свой Гоголь увидел совсем не наследственным глазом — не глазом помещика; показавшееся гиперболой и Толстому-американцу, и самому «Никоше», не изжитому в Гоголе, — было «натурой» класса; когда озрелела тенденция в Гоголе, она — увы! — оказалась принадлежащей «Никоше», пожелавшему отнять ее у Белинских, как «собственное добро»; тенденция поставить заплату на дыру в быте от... «генерал-губернатора»; «дыра» оказалась равной самому классу; пришивать было — не́ к чему.
Отсюда и ужас, и бред: гоголевских героев; потом — Гоголя-«Никоши».
Средоточие бреда — Санкт-Петербург, изображенный мороком.
Тенденция Гоголя изображать быт провинции была имманентна натуре глаза; Гоголь был тенденциозен не тогда, когда «полагал», а когда «наблюдал»; когда позднее он стал «полагать» отдельно от наблюдения, он «положил» не то, что увидел; «натура» гоголевской провинции перешла к Салтыкову, который ее разрабатывал в других слоговых приемах и полагал о ней правильней: у Салтыкова — тенденция
181
определяет «натуру»; у Гоголя второй фазы натура располагала тенденцию.
Гоголь болел от того, что так видел; резолюция на эти виды: бежать; отсюда — поэзия дороги; в ней — судорожный испуг: «летит вся дорога нивесть куда... и что-то страшное заключено в... быстром мельканьи» (МД); «пошли писать... чушь и дичь по обеим сторонам дороги» (МД); уже и сама дорога срывается: «понеслась, понеслась, понеслася!» (МД); кони ж над ней «превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху» (МД); точно полет Вакулы, иль пляска безумной, которая «летела... размахивая руками, и, казалось, будто, обессилев... вылетит из мира» (СМ); тут и «Записки сумасшедшего»: «Кони... несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего» (ЗС), потому что «никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды» (МД, 2), «гадко на свете» (П), «по всей земле вонь страшная, так что надо затыкать нос» (ЗС); тема дорожного бегства становится бегством из мира, переходящим в бред: «Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней!» (ЗС) «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа» (МД); «летит мимо все, что ни есть на земле» (МД); «сизый дым стелется под ногами... с одной стороны... Италия; вон и русские избы» (ЗС); «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух» (МД).
Такова дорога; Гоголь в 1828 году понесся из Нежина, как в некую «Индию раззолоченную», — в Петербург; и так же в 1836 году, из Петербурга, едва живой, — вынесся: «я устал и душою, и телом... Никто не знает моих страданий... Я хотел бы убежать... Пароход, море и другие, далекие небеса — могут одни освежить меня»1; «забросило русскую столицу на край света»; «воздух подернут туманом; на... серо-зеленой земле обгорелые пни...»; весело в Петербурге тому, «у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа»; иначе: «хорошо... что... поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо» («Петербургские записки»)2; так написавши, едва живой, выносится... за границу.
Петербург — точка морока, стилизации; он гипербола для гиперболы; и он для Гоголя — взрыв: бомбы в Гоголе.
ПЕТЕРБУРГ В ИЗОБРАЖЕНИИ ГОГОЛЯ
Про Петербург слуга Хлестакова рассказывает: «жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебе танцуют» (Рев). Вообще же: «поехал... в кондитерскую... «Мальчик, чашку шоколаду» (Н): «бонтон» (Рев); идешь «по прешпекту» (Рев); «берешь извозчика... а не хочешь заплатить... у каждого дома... сквозные ворота» (Рев); «будучи знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... вы
182
посудите сами» (H), — «чайный столик, фортепьяно, домашние танцы...» (НП); «милостивый государь, Платон Кузьмич» (Н) — «в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником, в замшевых панталонах» (Н); «Подточина, Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша... посудите сами» (Н); «хорошие знакомства» (Н); «Филипп Иванович Потанчиков» (Н), «корсет... фрак» (П) (рублей полтораста стоит); «вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги» (ЗС); «перстень с талисманом на щегольском мизинце» (НП), а на шинели — куница (Ш).
«Так-то, Иван Абрамович...» — «Этак-то, Степан Ваграмович» (Ш) — хлопают «друг друга по ляжкам» (Ш).
Квартал победней: «из-под ворот — ад»; и бежишь, «заткнув нос» (ЗС) вовсю прыть мимо вывесок; изображены надписи: «кушанье и чай» (Н); кофейники, самовары (НП), «господин с намыленною щекою и с надписью: «И кровь отворяют» (Н); зайди: Иван Яковлевич в пегом фраке схватит за нос и с помощью кисточки превратит щеки в крем, «какой подают на купеческих именинах» (Н): «У тебя, Иван Яковлевич... воняют руки» (H); выставлены литографии: женщина, обнажив ногу, снимает башмак, а за спиной ее из дверей какой-то выставил голову; картинка «с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом» (Н); тут же: город Иерусалим (П); мимо — «мужики... в сапогах, запачканных известью», низенький «сонный чиновник с портфелем» (НП) во фраке «мучнистого цвета» «несколько рябоват... несколько даже подслеповат» (Ш), «старухи, которые молятся... которые пьянствуют», тащат тряпье... от Калинкина моста до Толкучего рынка» (П), толкуя «о дороговизне говядины» (П); извозчик стегает «вожжою лошадь», и бредет лакей во фризовой шинели (П); а будочник указывает алебардою (Н); здесь отдаются квартирки «за пять рублей в месяц... с кофием» (П); здесь по утрам — запах печеного хлеба (НП); ломовой извозчик тащит «красный гроб бедняка» (НП); по вечерам, когда «потухает серое небо» (Ш) и дома — в красноватом свете зари (П), «будочник... карабкается... зажигать фонарь» (НП); и дома мерцают обманчивым светом» (НП); вдруг — разом глянут «четыре ряда окон»; то — «дом» Зверкова» (ЗС).
С Кокушкина моста пройди на Столярную, Мещанскую, сверни — на Гороховую (ЗС).
А вот и — центр.
«Невский проспект... всеобщая коммуникация Петербурга»; «чисто подметены его тротуары» (НП); он «пахнет гуляньем», он «пахнет тысячами» (МД) в зеркальных окнах красуются — «ряпушка», «корюшка» (Рев), «семга» и «вишни по пяти рублей штучка», и «арбуз-громадище высунулся» (МД); из двери же — «дама, сопровождаемая ливрейной шинелью»; и откуда-то «звуки музыки»; дам — «цветочный водопад», сыплется «по всему тротуару» в «розовых и бледноголубых рединготах» (НП), в палевых шляпках (Н); «бледные мисс... идут... позади... легоньких вертлявых девчонок» (НП);
183
точно «море мотыльков» (Н); «мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками»; «черные, как смоль», бакенбарды «с необыкновенным искусством» пропущены сквозь галстук (НП); проходит и ус, на который «излились восхитительные духи» (НП): «шляпа с плюмажем», при боку шпага (К); кто «показывает... сюртук с... бобром», кто шляпу, кто — перстень, кто — галстук (НП); кто оборотится посмотреть на твои фалды (НП), закуривая сигарочку «по 25 рублей сотенка» (Рев); экипажей множество; «лихачи в малиновых бархатных шапках» (Ш); карета «со светлой оборкой», «цвет — голубой», «на манер кареты Губомазовой» (ТЕО), кучер и «высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников» (Н); свернула и пронеслась под аркой Главного штаба, разъятой, как рот (Н); порядком распоряжается квартальный надзиратель «благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе, со шпагою» (Н), «большой любитель искусств и мануфактурностей» (П); распоряжается, заложив палец за пуговицу (П).
А там уже «шпиц... в воздухе; мосты... висят этаким чортом... без всякого прикосновения; ...Семирамида...» (МД); и попирает набережный гранит легкий, «как дым», башмачок дамы; и «гремящая сабля... прапорщика» проводит по нем царапину (НП), мимо «металлической ручки» подъезда дома; войдешь — «сени с мраморными... колоннами» и «с облитым золотом швейцаром» (НП), у которого в руке — булава: «графская физиономия» (МД): мопс этакий! (МД); тут и «воздушная лестница с блестящими перилами» (НП); далее — «гардины, шторы, чертовство такое»; «ковры... Персия» (МД); «китайские вазы; мраморные доски для столов... мебели с выгнутыми... грифами, сфинксами и львиными лапами» (П); «потолки расписаны» (НП); лакей — «не весь же день спать» (ТЕО); к нему «ходил в гости... сочинитель» (ТЕО); «повар, — иностранец, француз этакой... белье... голландское» (МД).
В кабинете перед столом красного дерева «значительное лицо» (Ш) изрекает правила: «Все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и единообразия» (П); «неприлично, неловко, нехорошо» (Н): «во-первых, пользы отечеству нет никакой... Во-вторых: но и во-вторых тоже нет пользы» (Н); «на шее значительный орден» (НП), а «чиновник сидит и очинивает перья» (ЗС) («в одной строке... «си-», а в другой: «-ятельству») (ТЕО); в растворенное же окошко «мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках» (П); у подъезда ждут выезда его превосходительства в департамент: лошади — «в серых яблоках»; в департаменте «встречали... на лестнице» (Ш); и когда проходил, то застегивали «на пуговицы свои фраки» (Ш): «Что вы, милостивый государь, не знаете порядка? Куда вы зашли?» (Ш); «Плюнул... в лицо... А жалованье...прибавил» (Ж).
Приемы лица «солидны... величественны» (Ш); у жены — «тонкий сиреневый цвет платья» (НП), «камер-юнкеры, в блестящем костюме... сдвинулись... стеною» (НП) слушать хозяина: «Великодушная
184
государыня... полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова... что не под монархическим правлением угнетаются высокие... движения души, что истинные гении возникают во время... могущества государей» (П).
«Красиво! Хорошо! Душа радуется, дух торжествует» (ТЕО).
«Виноват петербургский климат»: случается «необыкновенно странное происшествие» «в северной столице нашего обширного государства» (Н), где охватывает одиночество, где с площадей огонек «будки кажется на краю света» (Ш), где ветер дует сразу с четырех сторон (Ш) и чиновнику вмиг надувает «жабу» («весь распух и слег в постель») (Ш), где проносится «слух, что у Калинкина моста стал... показываться мертвец, и совершается неестественное отделение носа майора Ковалева вместе с явлением испанского короля Фердинанда Восьмого» (ЗС); честолюбие начинает делать «какой-то цырюльник, который живет на Гороховой» (ЗС).
«Холодный, пахнущий ветер»; «лунное сияние на крышах» (П); «все... тихо»; лишь долетает «дребезжанье дрожек извозчика» (П); «деревянные домы, заборы; нигде ни души» (Ш); в пустыре стоит «будочник и, опершись на... алебарду», глядит на... мертвеца (Ш).
«Усталый дотащился к себе... в Пятнадцатую линию» (П); «взобрался... по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек» (П); бросился на узкий, оборванный диванчик, «о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею» (П); «свет месяца озарил комнату» (П); «страшно сидеть одному в комнате»; «кто-то другой станет ходить позади»; портрет старика — «открыт... и глядит... к нему во внутрь» (П); он «вдруг уперся в рамку обеими руками, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выскочил из рамы» (П).
Тут и вскрывается провал, «дна которого никто не видал» (СМ); он стал — дырой рамы портрета; некогда свергнутый грешник в образе Петромихали опять выскочил покупать души, которые от того становятся «мертвыми»; Гоголь промертвенел в Петербурге: и не отогрел его Рим; «Мертвые души», портрет России, — выпрыгнули из рамы.
Это началось... на Невском проспекте.
«Страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте»; «меньше заглядывайте в окно магазинов... далее, ради бога, далее от фонаря! И скорее... проходите мимо!» (НП); «Не верьте этому... Проспекту! «Я всегда закутываюсь покрепче плащом ... когда иду по нем» (НП); «все дышит обманом» (Н); «все — не те, чем себя выдают: и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович» (НП); «Перепендев, который... (отроду не знал Перепендева)» (МД); «дамам меньше всего верьте» (НП); «вы думаете, что она глядит на толстяка со звездой? Совсем нет: она глядит на чорта» (НП); «вчера вы были немного ниже ростом» (Ж); «вместо двух — четыре глаза» (МД); «усы... казались на лбу» (МД); «дурь почище сна» (МД); «Иван Павлович Яичница» — «Да,
185
я тоже перекусил» (Ж); «все пошло, как кривое колесо» (МД); «понес околесицу, которая... ни на что не имела подобия» (МД); «невозможно, чтобы чиновники могли создать такой вздор» (МД); «выходит просто: Андроны едут... сапоги в смятку» (МД); «показался какой-то Сысой Пафнутьич и Макдональд Карлыч, о которых и не слышно было никогда; ...заторчал какой-то длинный, длинный» (МД); чорт зажигает лампы, «чтобы показать все в ненастоящем виде» (НП); происходит перемещение пространств, времен, как в «СМ»: «вдруг стало видимо... во все концы света... узнали и Крым» (СМ); полотно, на котором было изображено лицо человека, разорвалось; вместо него — провал, дна которого «никто не видал»: на «Пятнадцатую линию» выскочил из рамок Петромихали (П); «изо рта выбежал клык... и стал... старик» (СМ); дыра в раме теперь — дыра в мозге; «чудилось, будто кто-то... влез в него и ходил внутри него» (СМ): «так страшно отдался этот... смех» (СМ), — ужаснувший Пушкина: «тетушка лежит на карачках... глазами хлопает... Э... э... э..!» (ТЕО); но «тетушка... не тетушка, а колокольня» (Шп); и «я не колокол, а Иван Федорович» (Шп) — Фердинанд Восьмой (ЗС), или сбежавший «нос» Гоголя («вместо носа гладкое место») (Н); нос бежал вместе с мозгом, сел в дилижанс, чтобы ехать в Ригу, в Гамбург, где делает луну «хромой бочар» (ЗС); отчего и мозг понесся «ветром со стороны Каспийского моря» (ЗС), отчего письма стали писать аптекари (ЗС); я «советую... написать на бумаге Испания, — выйдет Китай» (ЗС); и это — не результат действий цырюльника, «который живет на Гороховой» (ЗС), а — Петромихали (П); «кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу: «Колдун показался снова!» (СМ).
Словом: «Январь... случившийся после фебруария» (ЗС); «день был без числа»; «месяца тоже не было»; «было, чорт знает что»; наконец: —
— «Чи 34 сло Мц. гдао февраль<*> 349» (ЗС).
Бурлюку, Крученых, — не открутить и не перебурлючить Гоголя, который тут вскакивает на тройку «быстрых, как вихорь, коней» и уносится в Рим; тень, им отброшенная на Россию, тень Хлестакова, начинает волновать современников: день безоблачен; а все кажется, что мелькает чья-то длинная тень (СМ).
ОТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ К СЮЖЕТУ
В живописи провинции гипербола вращена в материал; здесь даже примысел вырастает, как гриб из земли; материал отформован бытом, который — гипербола с точки зрения здравого смысла; Гоголь лишь следует Гете: «Поэзия — зрелая природа».
В изображении ж Петербурга отдельно даны: слой на слое; 1) быт петербургской безбытицы; 2) внешность города; 3) субъективная стилизация восприятия (морок); Гоголь выявил себя тут предтечею урбанистов и футуристов; вообще: город как вырастающий
186
центр капитализма (Париж) дан впервые Гоголем уже по... Маринетти); места в «НП» даны по... Маяковскому.
Но морок, гипербола — самостны в изображении Петербурга, определяя показ быта; поздней Достоевский уже в ослабленном виде дал гоголевскую картину столицы империи; отсюда у Гоголя ненатуральность гротеска в рассказах, изображающих Петербург («рот величиною с арку Главного штаба») (Н); подчеркнуты и растер, и раздерг; не смех, не юмор и не ирония: оскал, дичь, бред — тенденция стиля; тенденция самого смеха: как если бы «два быка», поставленные друг против друга, «замычали разом» (В); таков смех; он — рев «мотора», везущего чинить расправу позднейшего блоковского «Командора»1; смех Гоголя — и не юмор Диккенса, и не ирония Свифта: в нем «чорт» «Вечеров» стал «чертой», за которой — и сумасшедший Поприщин, и маниак, пошляк Ковалев; оба опасней чорта, реально гнездясь в сознании Гоголя; точно на пути из Диканьки в столицу переродился в чиновника «чорт»; в «НПР» у него еще задняя часть — чиновничья; в петербургских повестях он — стал чиновником: с головы до ног; богомаз Вакула — художником Чартковым (Черт-ков — в другой редакции); перерожденный в чиновника «чорт» побеждает и чорта, и художника.
Петербург разбил Гоголя; и он уцепился за иронию, как за средство самозащиты; доминирует же не смех, а страх: «Не верьте Невскому» (НП); самый смех здесь — выражение ужаса, напоминающего ужас колдуна из «СМ»; вскрылись впервые здесь корни гоголевского смеха, который и в «Веч» неблагодушен весьма; Гоголь бегал два раза из «северной столицы нашего обширного государства»: в Гамбург и в Рим; позднее признался он, что забавные сцены им выдуманы для излечения от приступов непонятной тоски, обрывающей еще с «СЯ» его веселый гопак: «все... пусто и глухо»; сердцу «нечем помочь» (СЯ); смех — эхо из-за него выглядывающих неприятностей: «в собственном эхе слышит... грусть и пустынно, и дико внемлет» (СЯ).
С первых рассказов героев Гоголя давит забытое, пережитое, ужасное что-то; и смех резче бросает лишь черную тень; она, как прожег, как дыра в самом дне; смех — выражение любопытства к жути; в «Н», в «П», в «ЗС» и в «НП» это вскрывается без остатка впервые; именно: не колдуном из «СМ» объясним ростовщик из «П»; в ростовщике из «П» объяснен колдун; а ростовщик — морок испуганного сознания; «думает и как будто бы хочет что-то припомнить» (ВНИК); «все как будто туманом покрывается перед ним» (ВНИК); «одичал... стал страшен и все... силился припомнить что-то и... злится, что не может припомнить» (ВНИК); «вдруг по какому-то безотчетному для него самого чувству» (В); «с оглушительным свистом трещит в уши какой-то голос: «Куда, куда?» (В); «долго оставался смутным» (П) и т. д.; так издали Гоголю вырастающим томлением угрожает какая-то к нему подкрадывающаяся
187
гроза: и безоблачно небо, и не трещит и кузнечик, а ужас бешеной ночи — повис (СП); «что-то неприятное почувствовал он» (П); «какое-то болезненное, томительное чувство» (П), «какое-то тягостное, тревожное чувство» (П); «полный тягостного чувства» (П); «странно-неприятное чувство» (П); «душа его начинает... болезненно ныть» (В); «почувствовал... состояние, которое овладевает... после угара... сон... представлялся... так тягостно жив... неприятное чувство оставалось в душе» (П); странное отвращенье, такая непонятная тяжесть» (П); «никто не знает, как далеко летает от своей погибели» (ТБ); «душно мне! Душно!» (СМ); «вечно знакомое, всегда неприятное чувство» (МД); «все было в том же грозно-знакомом виде» (В).
И — как приступ бреда: «продал душу!» Продажа души Петрусем, Петро, колдуном, Чартковым есть предательство: колдуном — Украины; Андреем — казачества полякам; Петро — Ивана; Петрусем — Ивася; Чартковым — искусства; тема же гибели — отрыв от рода.
Отсюда: «поперечивающее себе чувство» (В), или психика героев Гоголя во многом — проекция самого Гоголя: в них; герои Гоголя движимы лишь условным рефлексом да традицией рода; в одной точке, принадлежащей не им, а Гоголю, они «психичны»: в раздвое, корень которого — страх; а корень страха — отрыв от рода, от быта рода; ужасает трещинка в роде, когда не «гопакуется» деду по общему всему роду штампу (ЗМ); или — когда не во-время поднимается пляс (ПГ); во всем бездушные, здесь, в наличии раздвоя, они выявляются в чуткой настороженности; и даже Чуба «дергало итти наперекор» (НПР); в Хоме Бруте же перекор стал «поперечивающим себе чувством» (В); отсюда и «страшное веселье» (ВНИК), и «суровость», сквозь которую «издевка» (НПР); «я погублю себя» (ТБ); сладкое пение вонзается нестерпимо (НПР); «томительно-странное наслаждение», «бесовски-сладкое чувство» (В); не хотел глядеть, а «не утерпел не взглянуть» (В); «читает совсем не то, что написано в книге»; (В); «не гляди» — шепнул... голос... и глянул» (В); загляд — подгляд себя в гибели рода и в гибели класса при неуменьи привиться к быту иному, живому; отсюда — остервенение: «в судорогах задергались губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания» (В); «как полоумный,... грызет и кусает себе руки» (ВНИК); «гложет в страшной муке свои кости» (СМ); «будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри него» (СМ); и ему хотелось «весь свет вытоптать конем своим» (СМ), как и Чарткову, который с бешенством тигра кидался на картины, рвал, разрывал... топтал, сопровождая» эти действия «смехом наслаждения» (П); но «не от злобы хотелось ему это сделать» (СМ); «жестокая горячка овладела им» (П).
Истерио-невроз сердца (на почве заболевания страхом) присущ гоголевскому персонажу; «с томительным биением сердца» (ВНИК); «с сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди» (ВНИК); «будто кто-то... молотом бил по сердцу» (СМ); «как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою»
188
(В); «у него захолонуло сердце» (П); сердце билось, как перепелка в клетке» (МД); «затрепетало... сердце» (НП); «дыхание занялось в... груди» (НП); дикий бег «в такт сердца» (НП); «с бьющимся на разрыв сердцем» (П); кровь билась «напряженным пульсом по... его жилам» (П); и т. д.
Корень — необузданный, беспричинный в Гоголе страх, которым он наградил своих «не-героев»-героев: «страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг» (МД); «мне страшно» (СМ); «чувствовал какую-то боязнь» (П), «страшно одному сидеть в комнате» (П), «страшно ходить по комнате» (П), «кто-то другой станет ходить позади» (П); «вот-вот взглянет через плечо» (П), «точно сидит шпион какой-нибудь» (П); «что-то подирало его по коже» (ПГ), «забирало... вскрикнуть» (ПГ); «весь задрожал, как на плахе» (ВНИК); «память от него улетела» (СЯ); «ноги не двинулись, ...голос не звучал: ...слова без звука шевелились на губах» (В); «глянул... под ноги — и пуще перепугался» (ПГ); «глаза... ничего не видели от страха» (ОТ); «что-то страшное заключено в сем быстром мелькании» (МД); «ужас... превзошел все границы» (Ш); от страха и «председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович... и тот похудел» (МД); прокурор же умер от страха (МД); страх в том, что он — «ни с того, ни с сего» (МД); «и страшного, кажется, ...мало, а непреодолимый ужас напал на него» (СМ); как будто «близок страшный суд» (СМ); тема суда — определяет сюжет и «СМ», и «Рев», и «МД»; и здесь — в сюжете сюжетов — биография Гоголя.
Гоголь влагал в психику «героев», натура которых срисована извне, то, что он нес, как неузнанное в себе нарушение границ рода и класса, и что под нашептом мертвого обстания вообразилось преступностью; и назидания Аксаковых, и бешенство Толстого-американца, и испуг Пушкина перед образами «МД», переродилось из мужества в чувство самобичевания, отчего и близко понявший его Белинский увиделся соблазнителем, а постылый Погодин был принят за друга.
Страх уже серого кошечкой проникает в страницы «СП» и разливается паническим чувством, охватывающим Гоголя и в безоблачном полдне; позднее Гоголь ссылается на это безымянное чувство: «вспомните египетские ночи, когда... послал на них... непонятные страхи... слепая ночь облекла их среди бела дня...; другие... же не видели никаких ужасов»1; Гоголь признается в «Страхах и ужасах России»: «если бы я вам рассказал то, что я знаю..., тогда бы... помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как убежать из России»; «погодите, скоро поднимутся снизу такие крики... что закружится голова» (там же); между тем: крик снизу — спрос к Гоголю-художнику; и он ответил таки на него предложением «МД», которое было подхвачено линией, возглавляемой Белинским и Чернышевским; Гоголь болел непониманием социальной
189
действительности: «Я болею незнанием многих вещей в России»1; оттого и «страшна душевная чернота»; оттого и — «Соотечественники! Страшно!»2 В Петербурге, в скрещении бьющихся устремлений на Гоголя подул ветер сразу с четырех сторон (Ш); но «даже с наиискреннейшими приятелями я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений» (Исп).
В кружке аристократов Гоголь был не свой; в кружке Пушкина — тоже; со служебной карьерой произошел прямо скандал; ни к чему оказались усилия стать актером, художником; с профессорством не выгорело; лопнули научные фикции; лопнула попытка стать публицистом (до... черной кошки между ним и Пушкиным); самый писательский путь, начавшись с провала, взлетев успехом, оборвался в Петербурге отношением к «Ревизору» ударом извне; класс, который отразило зеркало Гоголя («нечего пенять, коли рожа крива»), ответил по-своему, подставив Гоголю кривое зеркало, в котором он увидел себя колдуном из «СМ»: предателем его породившего класса; и это изображение себя в кривом зеркале позднее принял за... самопознание он, прочтя неверно тенденцию своего творчества; отсюда и — «Соотечественники! Страшно!»
В петербургских повестях и в «Рев», более, чем где-либо, подчеркнута стилизация под вздерг и гримасу; и здесь же максимум недоумения перед мороком, центр которого — Петербург; здесь же вскрыты болезнь и страх, как следствие потрясения; потрясение выявилось концом «Рев» и концом недописанных «МД», как явленье жандарма, в результате которого марионеточный дерг Чичикова, метаемого по полу генерал-губернаторской пяткой; с 1836 года Гоголь всюду объясняет идею потрясения, как авторского намерения; и даже назидает приятелей, что «оплеуха», нанесенная им, — спасительное средство; но то — следствие удара, постигшего самого Гоголя.
Произведения Гоголя носят печать невскрытого процесса, подобного удару молнии; она — и в расщепе гоголевской фразы, и в судороге жестикуляции, и в разрыве сюжета, не доведенного до конца и неясного автору, охваченному ураганом личных переживаний; они-то часто подставлены, как сюжетный конец; «скучно на этом свете, господа», рассуждения о сюжете в конце «Носа», конечные сентенции первого тома «МД» и т. д.
Автор часто подменяет своей потрясенною психикой психики «героев», вообще психику, нормальные проявления которой отсутствуют в его произведениях; и ею же подменяет конечное осознание тенденции любой повести; оно — в недоосознанном хвостике собственного сознания; от этого и «герой» героев Гоголя — «Гоголь»; герои Гоголя под конец становятся какими-то марионетками; когда это осознано автором, — «герои» уже не интересуют его; интересует вытяжка из сюжетов и лиц: «герои́н», «сюжети́н»; и это — так вообще, душа человека; на долю героев остаются лишь авторские недостатки.
190
СЮЖЕТ КАК АВТОР
В «Н», «П», «НП» и «ЗС», как нефтяной фонтан, вдруг забил бред: из героев Гоголя, сигнализуя о том, что какие-то процессы в авторе, подготовляемые всей жизнью, вырвались из-за порога сознания и скопление электричества в воздухе повестей первой фазы разрешилось: грозою над автором; обнаружились корни «диких» переживаний для Петруся и Хомы Брута, поданных в романтической дымке; неясность сюжета (до известной черты — ясно, далее — не ясно), олицетворенная необходимостью ввести в фабулу «чорта» («нечистую» силу) и освященная традициями недавно господствовавшего романтизма, выявилась, как ясность (пусть ложная); «чорт» был Гоголю необходим, чтобы отчитаться перед собою самим; он — «deus ex machina»; и — маска недостаточно культурного и оттого достаточно хвастливого «Никоши», помещичьего сынка незнатного рода, севшего между двух стульев, из которых одно — обречено продавить помещичий устой и увязнуть в мещанстве, другое же обречено сделаться бричкою странствующего предпринимателя: негоцианта из комедиантов, или комедианта из негоциантов; таков «Никоша», засевший в Гоголе, как заноза, и вызвавший в его душе нечто подобное гнойной опухоли; отсюда — томление безысходности: вплоть до удара, когда вскрылся нарыв и можно было заглянуть в язву; заноза выскочила в образе Хлестакова-Никоши; тогда и исчез «чорт»; вместо него замелькал здесь и там фрак чиновника, давшего энное количество модификаций до... экс-чиновника с антрепризою «Мертвых душ»; Гоголь в себе опознал хвастливого «гоголька» с коком волос и с откидным наипестрейшим жилетом: «Я — научу профессоров, дерну многотомную историю Малороссии, я уже держал корректуры исследования о земле, я... я... всем покажу... Я — везде, везде». И — хлоп, хлоп: ходил на лекции с подвязанными зубами, чтоб отделаться от лекции, никакой истории написать не мог, никогда не держал корректур исследования о земле; и вне литературы выявил себя довольно беспомощно.
Созерцание себя в таком виде напоминает гётево: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst»1.
Лицезрение — удар; усилия перевоспитать «гоголька» в себе — рост риторики за счет искусства: на протяжении десятилетия.
С этого же момента конец сюжета, застрявший в Гоголе, смешан с автором сюжета, поданного читателю; сюжет творчества и в поучениях о себятворчестве, и в рисовании карикатур на себя, и в разглагольствовании о своих достижениях; последними вытеснен — увы! — первоначальный сюжет; рисование карикатур изживается в стилизации; себятворчество — в сентенции; сентенционизм третьй фазы так растет из гиперболизма второй, как заостренность тенденции, напоминающая вылезание занозы из раны, растет в борьбе с чрезмерной изобразительностью.
191
С конца первого тома «МД» уже ясно: герой эпопеи не Чичиков, а... «Николай Васильевич Гоголь»1; прочие все герои — души с убитою раз навсегда психикой; и оттого — гипертрофия в них физиологических отправлений и условных рефлексов, изученных с чисто научною точностью и поданных вместо души.
Физиология героев гоголевского персонажа взята с натуры, а психика их существует постольку, поскольку она зеркало процесса, происходящего в сознании Гоголя, которого стадии — недоумение, страх, до... бредовой мании, — процесса, которого конец — анэстезия жизни; герои в этом конце показаны паралитиками: мертвая душа — продукт процесса; появление ее в «МД» показывает: особи класса, из которого вышел Гоголь, в изображении Гоголя — мертвецы; Гоголь в процессе изображения их преодолевает свой класс; но в выводе из того, что он — изгой класса, грешит ужасной социальной неграмотностью: она-то и укрепляет в нем маниакальную мысль о воскрешении трупов призванным генерал-губернатором, разделяющим тенденции «Переписки»; тут он и налагает запрет на свою настоящую миссию; видит себя чуть ли не мессией того, что есть для художника подлинный запрет: запрет собственным предложением исказить спрос; в этом искажении символический жандарм становится... николаевским; суд народа «городничему»-Николаю становится судом Николая над... марионеткою; в таком ложном прочтении тенденции его инспирировавшего коллектива он, Гоголь, обличитель гнилого строя, выглядит чем-то вроде колдуна из «СМ», — Гоголя же: к ужасу Белинского, узнающего, что генерал-губернатор де «посылается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса» (Пер).
И это — всерьез!
«Находили на меня минуты жизненного онемения; сердце и пульс переставали биться» («Завещание»); онемение, перешедшее в неизлечимое бесчувствие прижизненной смерти, — вот что отразила «мертвая» душа (не чичиковская); «окаменели от страха» (СМ); «вылетел дух... от страха» (В); «умер от страха» (МД); «и уже ни страха, ничего не чувствовал он... умер... и открыл очи; но уже был мертвец и глядел, как мертвец» (СМ); «я желаю иметь мертвых» (МД); «как, на мертвые души купчую?..» «Мы напишем, что они живы» (МД); «народ мертвый, а плати, как за живого» (МД,); «возьми себе все кладбище! Ха, ха, ха, ха!» (МД); являются едкие слезы «уже охладевшего сердца» (СП); и кажутся детскими все прочие чувства в сравнении с «бесчувственной» привычкой (СП); и Афанасий Иванович «сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку», «взгляд его был совершенно бесчувственен» (СП); «призрак пустоты виделся во всем» (Р); всюду «тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность»; всюду — «рука, принадлежавшая... грубо
192
сделанному автомату» (П); «равнодушная пустота обняла его» «шел..., полный бесчувствия ко всему» (П); «сказал с... равнодушием» (П); «кисть его хладела и тупела» (П); «сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка» (П); Гоголь становится изобразителем того разряда людей, «который можно назвать... пепельный, людей, которые — имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а просто ни то, ни се» (П); «платье было совершенно неопределенное» (МД); «вне... переписыванья... для него ничего не существовало» (Ш); подруга жизни — «шинель, на толстой вате... без износу» (Ш); «чувства не отражались в чертах лица» (МД); к сукну страшно дотронуться: оно «превращалось в пыль» (МД); «потчевал... гостя... пылью» (МД); рот «ощеливал» (МД); «весь обратился в прореху» (МД); Гоголь берет не Россию, а кладбище: «возьми... все кладбище! Ха, ха, ха, ха!»; каждому в этом кладбище можно сказать: «признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете» (МД); все вокруг — «гниль и прореха» (МД); и даже стены дома «ощеливали», т. е. становились «ничто».
Свои трупы далее прибирает Гоголь — под жизнь, гримируя их под даже степенность: Чичиков «не слишком толст, не слишком тонок»; «не красавец, но и не дурной наружности»; но и губернатор «ни толст, ни тонок» (МД); «нельзя... рассмотреть, какое у него лицо» (МД); оно не представляло «ничего особенного» (МД) и мелькало в гостинице «такого рода, ... как бывают гостиницы», где подают «обычные блюда» и где «по обыкновению» отвечают, откуда «куда следует» извещают (МД), где ходят во фраках, «в какие одеваются», говоря там «какими-то общими местами» (МД); закусил, «как закусывает вся Россия» (МД); «сказал комплимент, ...приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой, но и не слишком маленький» (МД); «мужчины здесь, как и везде» (МД); «с вида... очень похожи между собою, ...трудны для портрета» (МД); «не так, чтобы слишком толстые, однакож и не тонкие» (МД); «баба, или мужик... Ой, баба!.. Ой, нет!» (МД); «говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует» (МД); «с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются» (МД); «читал все с равным вниманием» (МД); «интересуюсь познанием всякого рода мест» (МД); «поступал, разумеется, как все» (МД); «словом, все, как нужно» (МД); «словом, виды известные» (МД); «все было прилично и в порядке» (МД); «он везде между нами» (МД); «таких... не мало» (МД); «не чувство, а какое-то бледное отражение чувства» (МД); «в этом теле совсем не было души» (МД); «ничего не почитаешь в... бесчувственных чертах» (МД); «платье совершенно неопределенное» (МД); «тень со светом перемешалась совершенно» (МД); «у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные» (МД, 2) и т. д.
Благонамеренное кладбище: даже провала в нем нет: свалиться некуда; все и так повалились в физиологические отправления, как в гробы: чавкают, храпят, свиристят чубуками.
193
Здесь — сфера фигуры фикции, о которой я уже говорил: будто бы приличие бытовых форм, разыгрываемых выкопанными трупами, — «нормальность» почище ненормальности; условия некогда нормального быта разыграны героями Гоголя на общем им кладбище класса; Гоголю, оторванцу средь оторванцев, лучше прочих увидевшему кладбище класса, следовало бы принципиально вырешить: во что ему и ему подобным вродиться?
В выявлении путей — тенденция гоголевской изобразительности.
Гоголю далекий и очень «невнятный» Белинский и был делегатом от нового коллектива людей, для которых тенденция Гоголя могла бы быть жизненна и запросы которых Гоголь услышал, но в звуках, «которых значенье темно»; так казалось «Никоше» Гоголю; Белинский мог бы «овнятить» Гоголю «Гоголя», хотя бы правильным осознанием «смеха сквозь слезы»; славянофилы же лишь толкали к изображению положительных типов в среде, где их не было; разнобой требований кричал в неустойчивом сознании Гоголя; Гоголь сузил в себе тенденцию спроса неправильным толкованием и недолжно расширил звуки, чуждые ему и летевшие из лагеря, с которым он створился лишь в быте, но не в сознании; славянофилы, католики, православные лишь топили художника; и голая рефлексия Гоголя оказалась в несоответствии с собою же в процессе сложения из конкрета изобразительности; вставало противоречие между тем, как пелось, и что пелось; Чернышевский доказывает: Гоголь прав в том, что он видел Россию, устремленной к нему: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» (МД); «полные ожидания очи» — были очами лиц; первое из лиц, реально узренное, — Белинский, а не Аксаковы, не Толстой-католик, и не Росетти, и не Матвей; когда появилось перед Гоголем и подлинное от ему грезившихся очей лицо, то он пришел в ужас (ждал одного, явился другой): но ему доказывали: народу-де нечему учиться у «гнилого» Запада, потому что неисповедим путь России; «но отчего же вдруг стал он... с разинутым ртом... и отчего волосы щетиною поднялись на его голове?» Явилось «не то» лицо: «непрошенное, незваное, явилось оно к нему в гости; ...брови, глаза, губы, — все незнакомое: никогда во всю жизнь свою он его не видывал» (СМ); не видывал, но слыхивал: оно-то в слагало знаки запроса к нему: показать лик «великого мертвеца» или — душу класса; чужое лицо есть Гоголь же, но в раскрытии Белинского и Чернышевского, выразителей интеллигенции, слагавшейся наперекор мертвому классу и зачитывавшейся утопическими социалистами; «и страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него» (СМ); «соотечественники! Страшно!»; «погодите, скоро поднимутся снизу такие крики... что закружится голова»; «если бы я вам рассказал то, что я знаю... вы... подумали бы, как убежать из России»; «даже с... приятелями я не хотел изъясняться... насчет... моих помышлений».
194
Гоголь ходил средь будто бы «близких» врагов, производя жуткое впечатление: не то святого, не то преступника (по Аксакову); для чего-то писал в кокошнике; «кокошник», вероятно, смутил Аксакова, как «чудная чалма» на колдуне смутила пана Данилу; Толстой-американец предлагал Гоголя заковать в кандалы; оттого-то долженствовавшие стать друзьями увиделись врагами; и Гоголь ходил сам не свой в своем мороке: «походка... мелкая, неверная... в фигуре... что-то сжатое... в кулак... ничего открытого... взгляды исподлобья, наискось, мельком, ...лукаво не прямо... в глаза»; таким виделся он Бергу; Белинскому же десять лет «чужой» Гоголь виделся близким.
После «Рев» жизнь Гоголя остывает в моральный столбняк; окаменив героев в последней сцене комедии, стал окаменевать в годах и автор, напуганный собственным смехом; выяснение «невидимых слез», подсказанных Белинским, в условиях столбняка провело лишь грань меж Белинским и ним; «слезы» не соответствовали «слезам»; для Белинского они стали тоскою по социализму; для Гоголя — тоской по содействующему генерал-губернатору; для Белинского этого рода слезы, конечно же, «крокодиловы»; и Белинский отрекся от Гоголя, не поняв, что имеет дело с болезнью в Гоголе, с «Никошей» в Гоголе; «Никоша» же — опухоль наследственности, которую можно было бы во-время оперировать; «опухоль» предъявила право на собственность; стала автором; автор стал тенью ее; и Гоголь вообразил: миссия его-де — мистическая; рядом с тенденцией художника Гоголя, имманентной краскам и звукам, оказалась другая, втиснутая извне, трансцендентная и краскам и звукам: и краски померкли, и звуки угасли.
Корень хохота Гоголя во второй фазе — хохот из ужаса; наковальней оказался породивший Гоголя класс; молотом — будущее творений Гоголя, изъятых из рук больного в раскрытии лика «Руси», которую издалека слышал же, как никто, Гоголь.
«Всадником на Карпатах», иль молотом в биографии Гоголя поднялся вдруг единственный «пониматель», Белинский (Пушкин не понимал до конца; Жуковский дружил, но спал, когда Гоголь читал ему); и такое видение Белинского — оттого, что сам Гоголь увидел себя каким-то предателем, колдуном: «изо рта выбежал клык... и стал казак старик» (СМ); вот до чего довели Гоголя друзья: от славянофилов до «схимника» Матвея; когда «колдун» прибежал к схимнику, схимник сказал: «Иди, окаянный!» (СМ); в «СМ» колдун убил схимника, а «колдун» Гоголь — себя.
«Колдуна»-то и не было: «колдун» — болезнь Гоголя.
Проклятие Белинского способствовало тому, что Гоголь бросился в провал: к великому мертвецу; мертвец догрыз Гоголя; в эпоху же «Переписки» Гоголь еще чувствовал себя где-то посредине между провалом и высью, на которой ждал его — его «всадник».
Снизу — яма; сверху — высь:
Между них — вертись, вертись...
Брюсов.
195
Конец петербургской жизни — начало «верча»: из боли; он отразился ветром из «Ш», дующим сразу с четырех сторон; в Петербурге «колдун», увиденный сперва романтически, выскочил из провала, в который был сброшен, или из рамы «Портрета», как «болезнь Гоголя», разыгравшись идеей, что он, Гоголь, убил смехом то, что должен был бы возродить; на самом деле он осмеял класс, который не осмеять не мог; «Русь! Чего же ты хочешь от меня?» Осмеял же Гоголь свою «прекрасную даму», Русь смешал с Агафьей Федосеевной; тема последней фазы: никто России не знает; и — Гоголь ее не знает.
Класс, породивший Гоголя, России не знал; Гоголь же, «тщетно тщась» усвоить тенденцию своего класса, присвоил себе право на то, от чего уже отказался художник: во имя того коллектива, весть которого дошла до художника; больной художник отдал перо «Никоше», руками которого завладел «великий мертвец», воображенный «старцем, вещим духом» (СМ); перо сломалось; однако: «художник» все-таки победил мертвый свой класс: показом его; «человек» же победил «Никошу» в себе тем фактом, что не мог жить, сломав перо; русская литература поняла жуть этой смерти; если верить, что Гоголь имманентен тенденции последних лет, то непонятно, почему он не заздравствовал в ней: николаевская действительность дала бы Гоголю средства для широкой деятельности в духе воображенной тенденции.
Вместо того ж, чтобы соединить свои действия с Дубельтом, Гоголь, запершись от всех, без видимой причины умер.
Смерть эта — оправдание художнику.
————
196
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — СТИЛЬ ПРОЗЫ ГОГОЛЯ
СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ ГОГОЛЯ
Предстоит кратко охарактеризовать особенности слога Гоголя. Полный перечень его слоговых ходов явил бы мощную номенклатуру; многие слоговые ходы не поддаются учету, ибо они — сумма разновидностей, подлежащих, каждая, отдельному описанию; в поросли их тонет слоговой рельеф; обнажить его труднее, чем кажется.
Место не позволяет мне остановиться подробнее на отдельных видах словообразований; ибо я уделяю внимание лишь типовым особенностям слога, которыми Гоголь противопоставлен другим писателям. Посвятив отдельные главки повторам, гиперболе, сравнению, я не могу уделить много места, например, восклицаниям, вводным предложениям, фигурам обрыва, спирали наращения, умаления, расстава слов и т. д.; придется сказать лишь попутно об этих приемах; в пристальном разгляде и они — мир особенностей, достойный диссертации. Почтенный греколог сумел прочитать 11 лекций о греческой союзе кай; сколько же лекций следовало бы уделить слогу Гоголя, если об употреблении Гоголем частиц «ни», «не», «и», уже можно прочесть четыре лекции?
Речевая ткань Гоголя есть прежде всего сумма фраз, отделенных знаками препинаний и расчлененных на главные и придаточные предложения, разделенные запятыми; знаки препинания Гоголя отличны от пушкинских: точка с запятой — чаще; точка — реже; широко использованы: двоеточие и «тире»; двоеточием порой Гоголь распоряжается своеобычно, внося объясняющую интонацию туда, где она отсутствует у других авторов; обычно ставятся точки между отрывистыми фразами: «Ночь... Темно...» Гоголь тут может влепить двоеточие: «Ночь: темно» (в смысле — «ночь — следовательно темно»); как то: «гремит конец Киева: есаул... празднует свадьбу» (в смысле — «потому что празднует») (СМ). К особенностям расстава запятых следует отнести запятую после союзов в фразах, подобных приведенной: «смеясь и, глядя» (вместо «смеясь, и глядя»).
В отличие от уравновешенной и короткой пушкинской фразы, фраза Гоголя и длинней, и насыщенней придаточным предложением; части речи неуравновешены в ней всюду скопление одних частей речи в ущерб другим; всюду заторы друг друга теснящих глаголов и существительных, отчего текст беспорядочно толпится у глаз, раздражая порой неумеренной яркостью; и — пафос дистанции
197
всюду Пушкиным соблюден; фраза Гоголя какая-то неравнобокая фраза, как здание, напоминающее цаплю, которое Тарас Бульба увидел, подъезжая к Варшаве; но и фразе Карамзина противопоставлена эта фраза тем, что «период» Карамзина в ней разорван, становясь группою фраз: три описания Днепра в «СМ», состоящие из дня, ночи и бури, как бы вылепленные Карамзиным в трех огромных периодах, Гоголем перемараны; многие «когда» в них исчезли; и появились точки с запятыми; в результате — отрывок «Чуден Днепр».
Гоголь растрепал «период» Карамзина, хотя и им он пользуется; вместо взлетающих, как дуги, частей «протазиса», у Гоголя колоннада словесных повторов (существительных, прилагательных, глаголов, вместо повторов «хотя» или «когда»); субъективно говоря: вместо арочной системы Карамзина, — система колонн и колоннок; вместо гладкой торжественности — барельефная гирлянда народных словечек, с лукавыми, как рожа фавна из роз, прибаутками, с полукруглыми дугами вводных предложений, над которыми влеплено междометие в виде «чорт», или «угодники божие».
Словом, — причудливое барокко.
Растрепу фразы (от суетливого метания и туда и сюда автора, ставшего рассказчиком) способствовал Стерн, оказавший в начале прошлого века огромное влияние на стиль фразы большинства молодых авторов (разговорная речь была использована Вальтер-Скоттом); о «стернианстве» Гоголя подробно и убедительно говорит Виноградов; и я не останавливаюсь на нем.
Гоголь и до влияния на него Пушкина сосредоточил внимание на короткой, насыщенной, отработанной фразе, которой он бьет, как молотом, уже в первых рассказах: «Чернел... лес, обсыпаясь... на оконечности... тонкой, серебряной пылью» (МН); или пруд подул свежестью»; незабываемы эти фразы. Вот ряд примеров на короткую фразу Гоголя: «В поле становится холодней... Примеркает, примеркаст... И — смерклось... Темно, хоть в глаза выстрели» (ВНИК); или: «День клонился к вечеру. Уже солнце село; уже и нет его. Ужо вечер; свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки» (СМ); или: «Кто он? Куда, зачем едет? Кто его знает» (СМ); местами столплением таких фразочек разорвана ткань кудреватых, щеголеватых фраз; короткая фраза Гоголя предуведомляет о близящемся размахе действия, и оттого-то сжата она, как в кулак.
Но не она для Гоголя типична; типична та, которая летит на размахах придаточных предложений — «без меры в ширину, без конца в длину». Попытаюсь выразить узор ее в схемах покойного Л. И. Поливанова, обучавшего малышей, нас, синтаксису сложных фраз, как архитектурному стилю; главные предложения обозначаю большими буквами; если они «сочинены», ставлю между ними тире с надписанным знаком «сочинения»; подчиненные, придаточные предложения подписываю под главным, соединяя их с главным черточками; если они «соподчинены», протягиваю между ними тире (со знаком «соподчинения»).
198
Вот фраза, взятая мною из «Рима»: «Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов, поражаясь то видом кафе, блиставшего неслыханным, царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч застучавших шагов сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галлерею, то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о двадцати четырех ежедневных представлениях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов; то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа — все домы вдруг стали прозрачными, сильно засиявши внизу»1.
Вот схема фразы:
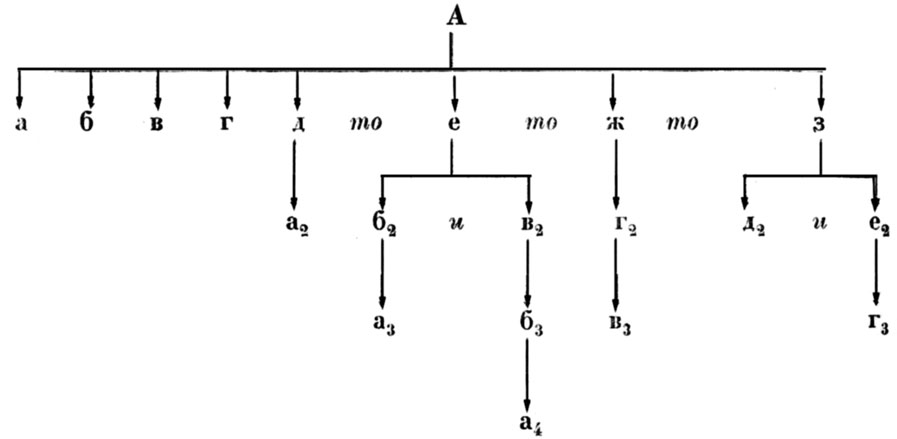
Здесь А — главное предложение «пошел он по улицам»; остальные — придаточные; ряд абвгдежз — ряд придаточных предложений, подчиненных главному: «пошел» — а («как ошеломленный»); б («не будучи в силах»); в («пересыпавшимся»); г («исчерченным»); д («поражаясь»); е («поражаясь... переходами»); ж («останавливаясь»); з («растерявшись»); придаточные с указателем 2 (а2 б2 в2 г2 д2 е2) подчинены придаточным, так сказать, первого порядка; придаточные с указателем 3 подчинены придаточным второго порядка; придаточное а4 подчинено придаточному третьего порядка б3; кроме того: придаточные дежз «сочинены» друг с другом частицею то («то поражаясь кафе, то... переходами, ...то останавливаясь...
199
то растерявшись»; придаточные б2 в2 «сочинены» союзом и («где оглушал..., и где ослеплял...»); придаточные д2 е2 «сочинены» опять-таки подразумеваемым и («когда... куча вспыхнула... и когда все домы стали прозрачными»).
Таков сложнейший рисунок фразы, состоящей из одного главного и 19 придаточных предложений.
А вот ряд фраз из «СЯ», являющих собой синтаксический узор речи Гоголя: от «девушка в осьмнадцать лет», кончая словами «разнообразными ландшафтами». (Изд. Маркса, т. I, стр. 65.)
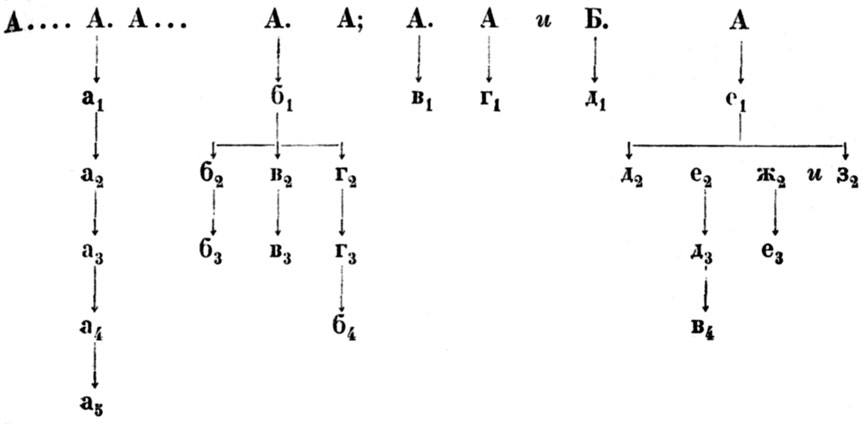
Такова схема речевой ткани Гоголя.
В первых рассказах фразы Гоголя испещрены рядом выражений, типичных для XVIII века; и такими, какими полна, например, повесть Нарежного «О двух Иванах»; чем-то от прабабушкиных дневников веет на нас, когда читаем: «радость, прекрасная и непостоянная гостья» (СЯ); «резвые други бурной и вольной юности» (СЯ); «воздушные уста ветра» (МН); «великолепные сени» (НПР); «разметавшись в обворожительной наготе» (НПР); постоянно «сей» вместо «этот»: «владельца сих драгоценностей» (СЯ); «сколь... ни удивительно сие малевание» (НПР); «после сего» (НПР) и т. д.; веет аллегоризмом почтенных остроумцев в париках, когда юный «любомудр», Гоголь, вещает о пыли, что она парикмахер, «который без зова является к красавице и к уроду и... насильно пудрит»; или когда он гласит о кобыле, «смиренный вид которой обличил преклонные лета» (СЯ); аллегория, как необметенная паутина, гнездится здесь и там в первых рассказах.
Еще более веяний сентиментализма от «Бедной Лизы» Карамзина и элегий Жуковского: «на... лицах веяло равнодушие могилы» (СЯ); «девственные чащи» (МН); «весь ландшафт спит» (МН); «вечер мечтательно... обнимал небо» (МН); «умиленный взгляд поклонников роскоши» (СЯ); «блистательный царь ночи» (МН) и т. д.
Есть в эпитетах, сравнениях, гиперболах, нагроможденьях глаголов, в кипучести чувств нечто и от Марлинского; вот несколько выписок из
200
«Фрегата Надежды»1: «Дамы... подобно ниткам жемчужным... так блестящи и воздушны» (Фр. Н., 9); разве это не дамы из «НП»? Или: ветер «гнал их, рыл их, рвал их... бил... как тараном»; разве это не склик с «П» Гоголя: «кидался, рвал, разрывал... и топтал»; или: «люди, климаты, города, небеса, океаны... развивались росли, смешивались, меркли» (Фр. Н., 115); столплением существительных и глаголов обилен Гоголь; у Марлинского «клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса» (Фр. Н., 92); или: «она раздирала мне слух, распиливала сердце, кипятила кровь... Я летел; колеса жгли мостовую» (Фр. H.); y Гоголя: «голос его, будто нож, царапал сердце» (СМ); «кипел и сверкал» (СМ); «холод прорезался... в жилы» и т. д. У Марлинского: «ужасно прекрасная», «прелестный ад»; у Гоголя: «бесовски-сладкое чувство» (В); у Марлиского: «пламенные вязы охватили пруды звездистыми венками»; ил: «играла... с яхонтовыми волнами» (Фр. Н., 8—9); у Гоголя: «багрянцем вишен и яхонтовым морем слив» (СП) и т. д.
У молодого Гоголя много фразовой трухи; есть ужасы вроде: «тут было множество бонмонтистов» (В); или: «покамест Каленик достигнет конца пути... мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем» (МН); или: «все наперерыв старались рассказать красавице что-нибудь новое» (НПР); или: «по уши влюбилась...» Так пишут гимназисты, а не мастера слога!
И тут же рядом кто-то сильный, огромный, оригинальный в крепнущем мастерстве раскрывает приемы письма, никем не открытые, повергая в словесную ткань дождь народных, жаргонных, сословных и местных словечек, отшлифованных в перлы языка; так уже кое-где говорили, но так еще не писали.
Начну с ощупи состава слов. Когда мы изучаем еще не изученный язык, мы ищем словаря; введением к искомому словарю Гоголя пусть послужит разгляд наиболее употребительных частей речи: глаголов, прилагательных, существительных.
ГЛАГОЛЫ ГОГОЛЯ
Гоголь увеличивает энергию глагольного действия, подчеркивая или кинетику, или напрягая потенциал; он широко использует прием одушевления; и оттого глаголы его — оригинальны и ярки; мы говорим: «Пламя вырвалось из земли»; он скажет: «выхватилось» (ВНИК); обилием остраннений резко контурирован жест; он — отчетлив, быстр и ударен; глаголы — «глаголят»; привычное представление о холоде гласит: покрывает снегом, обметывает; у Гоголя мороз — «замуровал окно» (ВНИК); земля — «прохватывается морозом» (ВНИК); топор у Гоголя не «вонзился»: он «вбежал в дверь» (ВНИК); волоса «ерошились на голове» (ВНИК); усы не дрожат, а «моргают»; и впечатление о «моргающих» усах сопровождает память о «Веч» и «Мирг»: «усы... заморгали» (ВНИК);
201
«моргнувши усом» (ТБ); «моргаешь... усом» (МН); и — «усом моргнул» (ТБ); пес не лает, — «отхватывает... как пономарь» (МД); дед «отхватывает» апостола (с клироса), как трепака; грозится «дать треуха» (МН); грозится «покропить... спину» нагайкою (ВНИК); «заклеил... образину навозом» (СЯ); ветер «дергает воду рябью» (СМ); «глаза... вторгаются» (В); глаза «будто хотели выстрелить» (СЯ); ноги — «чешут дробно» (ЗМ); «писала ногами совершенное подобие своего товара» (СЯ), «с сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди» (ВНИК); «забить в кандалы» (ОТ); «проняло страхом» (Рев); «скроил рожу» (Рев); «влез в генералы» (Рев); «наворотил обед» (Игр); «загнул пирог» (МД); «убухал рысаков» (МД); «заломил угол... тузу» (МД).
Какое богатство выражений для изображения процесса речи!
Начнет «москаля нести» (лгать) (ВНИК), «провозить попа в решето» (лгать) (ВНИК); «куда метнул» (Рев), «подпустил турусы» (Рев); «подпустили... турусы» (МД); «подпустил комплименты» (МД); «влепил словцо» (ОТ); «ввернул, подсыпая... кучу аллегорий» (МД); «какие пули отливает» (Рев); «начал откалывать» (МД), «валяй в колокола» (Рев), «сворачивает слова» (Пред. I), «выкапывал... истории» (Пред. I), «перекладывает разговоры» (Ш), «забранки пригинаешь» (МД), «закрутил слово» (ТБ), «прибрал... слово» (ТБ); «разобрала речь» (ТБ); «доехал» названием (МД), и т. д.
Так же ярок страдательный залог: страх «прорезался» в жилы (СМ), «город хотел... писаться» (П), «слезы выжались» (Н), «осадился сивухой» (Ш), «искры посыпались из глаз» (ВНИК), «сердце колотилось, как мельничная ступа» (СЯ), «схватился со стула» (в смысле «упал») (МД), «насунулись» морщины на лоб (ТБ), «крик не выговорится» (СЯ), «на душе усмехается» (МН), «миска хвастливо выказывалась» (СЯ), и т. д.
Гоголь глаголами срывает с места предметы, обычно пребывающие в неподвижности (дома, деревни, верстовые столбы), заставляя и их отхватывать трепака: «пошли писать версты» (МД), «со всех сторон бежало ловить» (СМ), «бричка мчалась во всю пропалую» (МД), «дорога... мчалась по следам его» (СМ), «неслась аркада водопроводов» (Р), «застава... пронеслась мимо» (ОТ), роща «скатывалась к пруду» (МН), «пруд подул свежестью», «пруд тронул искрами», в нем «все стояло вверх ногами» (СЯ), «рассыпалась избами деревня» (МД), «деревня унеслась из виду» (МД), «лес несется» (ЗС), «толпа плотин гоняется за рекою» (МД, 2), клубится небо» (ЗС), «летит вверх кипарис» (Р), и даже: «прокатилась красная краска» (П); афиши, — и те «толпятся в глаза» (Р), «буквы лезли на дома» (Р), «выбегают окошки» (ОТ), и кто-то в телеге навстречу сорвавшемуся с места косному миру «дует во весь опор» (Игр), и — «заливает колокольчиком» (Рев). Движения тела электризованы до... судороги: «Шаг летит под такт сердца» (НП), «руки расскакивались по... бумаге» (МД), «мелькнула бровями» (ЗС), «переменились движения на лице» (ОТ); отсюда обилие однократных действий: «цапнет пулей» (ТБ), «царапнет саблей»
202
(ТБ); и ряд подобных: брызнуть, дунуть, кутнуть, моргнуть, звукнуть, хлопнуть, куликнуть, высуслить; но есть ряд старомодных, своеобразных форм; и — многократного вида: «закушивал», вместо «закусывал» (СР), «заламливал» (Р), «смаркивался» (МД), «развизгивались» (МД), «пригаркивал» (МД), «выпрямливал» (МД), «влепливал» (МД), «потрепливать» (Ш), «пронюхивать носом» (К); и между прочим: часто Гоголь употребляет «проездиться», вместо «проехаться».
Глаголы «звучат» и в прямом смысле: «луга звучали» (МД), деревня «звучит» (МД, 2) и т. д.: характерен гоголевский глагол «звукнуть» вместо «зазвучать»: «сабли... звукнули» (СМ), они — «гукают» (СМ), шпоры — «чокаются» (СМ), карета «брякает» (П), «перепел гремит» (СП); звук действий остраннен: дождь «хлопает» (СП), «громом хлопнет», а не загремит (В); прозвище «каркнет» (МД); «слова... хрипло всхлипывали» (хрпл-всхлп) (В); звук усилен: поцелуй громче, «чем удар макогона» (ВНИК), «деревья загремели» (ВНИК), они «стонали» (ВНИК), «гром соловья» (МН), «вопль музыки» (Р), «в карманах... звучала возможность» (ТБ); глаза «с пением вторгаются»; иногда для звучности создается новый глагол: «волны хлебещут» (СМ); звук заменяет и действие света: «голос перепела отдается» (СЯ); но и — «звезды... отдаются в Днепре» (СМ), т. е. звучат в нем; и отдаются «голые вершины гор» (гл-гр) (СМ).
Вода — льется, плещется; слово — звучит; зерно, пыль — сыплются; шуба — валится с вешалки. У Гоголя — наоборот: «сыплется гром соловья» (МН), «водопад сыпался» (П), «валится серой пылью вода» (СМ), «пот валится» (ОТ), «мириады карет валятся с мостов» (Р); обычно: река течет в недвижных берегах, толкаются в перила, всадник летит навстречу огоньку; у Гоголя же — недвижная «река переменяет свои окрестности» (СЯ); «перила противопоставили ему... толчок свой» (НП); «огонек летит навстречу всаднику» (ПГ); «тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижными» (НП); обычно: дым — тусклит; сияние — очищает; у Гоголя — «сияние дымилось» (В); обычно: кипит и сверкает самовар; у Гоголя «кипел человек» (Р); «кипел и сверкал сын есаула» (СМ), «кипят достоинства» (СЯ), уста «прикипали к сердцу» (СМ); обычно толпа «сгущается» у Гоголя: город «сгустил толпу» (Р); «Париж... выветрил груз» (Р); и даже слезами «брызнул», точно из лейки (СП)! Обычно проходят ногами, неся кулак; у Гоголя «прошел кулаками промеж казаков» (ПГ); «курени ломали бока куреням» (ТБ): крыши... зевали» (МД).
Таковы приемы остраннения глаголов, повышающие потенциал их действия; самый бранный пир сдвигается с места, когда подчеркивается, так сказать, «пир в пире»: «запировал пир» (СМ); «сила... пересилила силу» (ТБ).
Для этого же повышения энергии действия меняются глагольные приставки: обычные на менее обычные; «при-меркает» (вм. «у-меркает») (ВНИК); «при-чаровала» (вм. о-чаровала) (ТБ); так:
203
«ис-плясались на балах» (П), «спестриться», или: «вы-бьется... сердце» (СМ), «вы-метнуть ногами» (ЗМ), «высидеть врага» (ТБ), «все вы-значилось» (МД), «крик... не вы-говорился ясно» (СП), «хоть вы-ходи околодок» (НПР), «вы-значилась природа мужчины» (МД), «выпевали» (МД), «пере-глядеть курени» (вм. о-глядеть) (ТБ), «пере-ели» виноград (подчеркнута тщательность действия) (ТБ), «переплутует» плута (Игр); «пронюхивал» (вм. раз-нюхивал) (МД); и — «пронесли» (вм. раз-несли) (ОТ), «по-усумнился» (ВНИК), «попере-одевайтесь» (НПР); наоборот: «рассветлять» (вм. просветлять), «распьянствовались» (СП); «уломаю его» (МН), «ухлопотался» (вм. за-хлопотался) в смысле: в лоск уложил себя хлопотами (Ж), «на-строить штук» (МН), «на-тащивши на нос табаку» (Ш), «натрунились и наострились» (Ш), «натряхивал на кулак» (Ш), «исконфузили» (Ж), «экипаж... из-воротился» (МД), «засластил микстуру» (МД), «от-смолили шубы» (НПР); так же: о-блеснуть, об-смотреть, о-стареть. Иногда — удвоение глагольной формы: для того же повышения энергии действии: вместо «доставал» (МД) — «кинулся достать»; вместо «понесут» — «пустятся... нести» (Пред. I); «соберутся... повертеть» (Пред. I), ноги «начнут писать покой-он-по» (ПГ); «дергало итти» (НПР), «забирало вскрикнуть» (ПГ), «схватился натянуть» (НПР), «рвался грызть» (СМ), «успело углубиться» (ТБ), «пошел отдаваться» (МД) и т. д.
Выбор глаголов редко употребляемых, народных, звукоподражательных, подчас заумных, тоже способствует впечатлению: червонить, черкать, гатить, шеломить, атукнуть, верещать, ворохнуть (П), шарпать, пришипиться (МД), чумаковать (ЗМ), байбачить (ТБ), челомкаться (ТБ), куститься (МД), наименить (от «имение»), «объиностранить, омноголюдить (ТБ), омедведить, тарабанить (К) и т. д. Чем глаголы «наименить», «омедведить» отличны от знаменитых «окалошить», «оэкранить» Игоря Северянина, вызвавших сравнительно недавно рев хохота? Гоголь близок к футуристам, когда выражается: «омедведила тебя жизнь» (МД), «стены... ощеливали» (МД), «нахлобучивалися... сумерки» (МД); иные из сочетаний существительного с глаголом вызывают впечатление утонченной силы: глаза — «с пением... вторгаются в душу», «выманивают... душу» (СМ); и даже из них «вытягиваются... железные клещи» (СМ); или: «кони торопились... вковавши очи во мрак» (ПГ).
Один из обычных эффектов Гоголя: нагромождать глаголы; и в этом он не одинок (встречается нагромождение глаголов, например, и у Марлинского); но Гоголь широко пользуется этим приемом: «откажусь, кину, брошу, сожгу, утоплю» (ТБ); «бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались... и положили» (ОТ); «купивши картины, приносил... на них кидался, рвал, разрывал, изрезывал в куски и топтал ногами» (П); «не слыша, не видя, не понимая, он несся... стараясь умерить» и т. д. (6 глаголов при одном, подлежащем) (НП); «музыка... погасала, и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела» (5 глаголов, 1 существительное) (НП); «движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется» (Ж);
204
он — «встал... расставил ноги... нагнул голову... засунул руку... в карман... вытащил... табакерку, щелкнул пальцем... поднес к носу... и вытянул носом» (8 глаголов при «он») (Пред. I); «звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу» (В); деревья — «толпятся... наклонившись, глядят... и не наглядятся, и не налюбуются... и усмехаются... и приветствуют... кивая ветвями» (8 глаголов при одном существительном) (СМ), и т. д.
Характерно, что в «МД» фраз с нагромождением глаголов гораздо меньше.
Чтобы подчеркнулась вычурность глаголов Гоголя, беру IV отрывок «Пиковой дамы» Пушкина и выписываю глагол за глаголом; вот их ряд: «отправился, отпевать, чувствуя, заглушить, имел, верил, решился явиться, и спросить, прибраться, лежала, стоила, не плакал, поразить, смотрели, произнес, представил, обрел, совершилась, пошли прощаться, двинулись, поклониться, приблизилась, вели, поклониться, пролила, поцеловав, решился, приподнялся, наклонился, показалась, взглянула» и т. д. Бросаю выписывать; во всем отрывке ни одного «гоголевского» глагола; все глагольные действия обычны; наиболее вычурный глагол «тихо шаркая туфлями».
Беру Лермонтова на протяжении семи страниц отрывка «Бэла», рисующего картину гор, — лишь два глагольных представления, слабо отражающих энергию действия гоголевских глаголов: «Арагва, обнявшись с другой рекой»; и — вершины гор «рисовались на бледном небосклоне».
Беру первый отрывок нарочито «поэтических» «Призраков» Тургенева; выписываю наиболее образные глаголы: «страх щипнул... за сердце»; след луны «округляется»; отрывок второй: глаголы обычны; отрывок третий: ничего, кроме «ветер запорхал»; «листья... заиграли»; отрывок четвертый: глаголы банальны; отрывок пятый: «звук... задрожал в ушах»; отрывок шестой: ничего, кроме «мы взмоем» и «перелеты ать»; отрывок седьмой: глаголы банальны; отрывок восьмой: «шоссе... впивалось в... конец города» (звучит по-гоголевски); отрывок девятый: «ветер... визжал в моих волосах»; отрывки — десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый: глаголы обычны.
Итог обследования 14 страниц дал бедный улов: ничего, кроме «шоссе... впивалось».
Я вовсе не стараюсь дискредитировать прозу Тургенева, Пушкина, Лермонтова; проза последних двух — великолепна; сравнением глаголов, которыми они пользуются, с гоголевскими глаголами я лишь хочу подчеркнуть, до чего богат, фигурен, «глаголен» Гоголь.
ЭПИТЕТ У ГОГОЛЯ
Большинство эпитетов падают на прилагательные; жизнь последних ярка, но... не без дефектов, которые — в перенагруженности, в чрезмерности ухищрений, порой рассудочного порядка; и — в неуклюжести
205
сложных эпитетов, не спаянных и разломанных на два слова; есть, однако, ряд эпитетов, в творчестве которых Гоголь обнаруживает гомеровскую мощь; как величавыми кариатидами, обвешан ими текст Гоголя; есть эпитеты, сочетающие пушкинскую простоту с протонченным изыском лучших стилистов XX века.
Эпитеты то метафоричны, то метонимичны, то синекдохичны; в них много гиперболизма; есть разряд прилагательных, о которых можно говорить и в отделе, посвященном гиперболе.
Сложные эпитеты Гоголя двух родов: одни запечатлевают предмет наблюдения, взятый из обстания; в других отражены субъективные восприятия предмета; этот вид в свою очередь разлагаем на два подвида: в одном эпитеты отвечают творческому переживанию; в другом они — надуманы, рассудочны, аллегоричны: «эластично-нежная окружность» женской груди (В), «томительно-страстное наслаждение» (В), «глухо-ответная земля» (ТБ), «разноголосные речи» (СЯ), «умно-худощавое слово» (МД), «обоюдно-слиянный поцелуй» (ТБ), «дикообразный человек» (Р), грубоощутительная правильность» (МД), «всеобъемлющее свойство» (Р), «всеспасающая рука» (МД), «двухэтажный подбородок» (Шп), «воронкообразное лицо» (ОТ) и т. д.
Другой ряд эпитетов, как результат попыток прорисовать сложное восприятие, хотя и тяжеловат в композиции, но красиво вылеплен: «сутозолотая парча» (СМ), «подоблачные дубы» (СЯ), «длинношейный гусь» (СЯ), «короткошейная бутылка» (К), «белошейные девицы» (МД), «змееподобный злак» (СЯ), «трепетнолистные купола» (МД), «древле-разломанные горы» (СМ), «белопрозрачное небо» (СМ), «благовонный пар» (СЯ), «многобашенный амфитеатр» (Р), «одностворчатая дверь» (МД), «долговечный подсвечник» (МД), «зеленолиственные чащи» (МД), черноногая девочка» (МД), «мелколистные» (МД), «короткохвостые» (МД), «короткобрюхие» (МД).
Из этого ряда эпитетов подымаются величественно чисто гомеровские скульптуры слов, яркие звуком и краскою: «двухрульные челны» (ТБ), «однозвучный шум» (у — у) (СМ), «зеленокудрые леса» (СМ), «краснозобый курухтан» (ТБ), «глубокодонное место», «белоголовый старец» (ТБ), «ясноокая» дивчина (МН), «короткочубучная трубка» (ТБ), «седочупрынный казак», «дюженогие запорожцы» (ТБ), «семирядная пищаль» (ТБ) и т. д. Повесть «Тарас Бульба» насыщена ими, как и подобает эпосу.
Очень много эпитетов, исполненных преувеличений, восторженной выспренности (и иронической, и — «всерьез): «чудотворный холст» (П); «чудная быстрота» (П), «чудная река» (СЯ), «усы чудные» (НИ), «чудная быстрота кисти» (П), «чудный город Миргород» (ОТ), «прекрасный дождь» (СП), «отличная рука» (НП), «славная бекеша» (ОТ), «вдохновенные леса» (МН), «упоительное сияние» (МН), «неизобразимое умиление» (Пред. I), «великолепная», «дражайшая», «несравненная» (НПР), «неизмеримая брика» (В), «пронзительный перст» (МД), «ослепительное чело» (МН), «блистающие пальцы» (ТБ), «блистающая панна» (МН), «блистательная песня соловья»
206
(МН), «фосфорная прозрачность тела» (П), «серебряная грудь» «эфирные ленты» (НП), «эфирные насекомые» (СЯ) и т. д.
К излюбленным эпитетам этого рода следует отнести эпитет чудный, употребляемый Гоголем в двух смыслах: в прямом (как дивный) и в переносном, как чудной, странный, дикий; в первом смысле: «чудный воздух» (МН), «месяц чудно плыл» (МН), «лицо чудной девушки», «чудная Оксана» (НПР), «чудная девка» (НПР); во втором смысле: «чудно... мудреное прозвище» (ВНИК), «старинное, чудное дело» в смысле диковинное, мудреное, непонятное; часто в этом эпитете подан лейт-мотив жути: «пропал... чудный старик» (СМ), «стали... слушать историю чудного колдуна» (СМ), «чуден показался ей поцелуй» (СМ), «чудный мне сон снился» (СМ), «по стенам летали чудные знаки» (СМ), «в чудной чалме» (СМ), «чудная шапка» (СМ), «чуден их вид» (СМ); «Россия... чудная страна» означает: странная страна; «чудные глаза» в «П» означают: страшные глаза; в «Р» эпитет чудный опять употреблен в смысле дивный; там чудны — волосы, согласие, праздник, модель, ясность слияние, собрание, воздух, зубы, панорама и т. д.
В «Веч» чаще эпитет чудный; в бытовых повестях вместо него эпитет странный; можно сказать, что странный и чудный эквивалентны друг другу; где больше встречаешь эпитет странный, там менее част эпитет чудный; у Гоголя эпитет странный всегда с каким-то подчерком; в «СП»: «странные звуки», «странный... звук», «странный беспорядок», «глядел странно», и т. д.; в «Н» все полно странностей: «странное происшествие», «странно», «странный случай», «странная фамилия»; в «П» эпитет этот сплетен с жутью (как чудный в «СМ»): «странный образ», «странный портрет», «странный фантом», со «странным выражением»; глаза глядят со «странной живостью» и вызывают «странно-неприятное чувство»; ростовщик живет в комнате, покрытой «странными коврами: биография его «странна»; «необъяснимо странно», «странно и страшно»; здесь эпитет становится синонимом эпитета «страшный»; в «ЗС» он синонимизируется со словами: непонятно, дико, нелепо: «чрезвычайно странно», «странный обычай», «странная страна Испания» и т. д.; в «НП» он обретает собственный смысл: «так странно... посмотрела», что «странным показались обстоятельства встречи», «поражен... странным видом», «родились... странные мысли», «все странно кончилось» и т. д.; в «Р» эпитет странный редок; но из всех щелей опять вылезает эпитет чудный; в «МД» статистика слов странный и чудный уравновешена.
Все творчество Гоголя, как кряж, перерезает нагроможденье гипербол; прилагательные, данные в превосходной степени, образуют как бы ступенчатые предгорья к кряжу гипербол; и много примеров сравнительной степени с присоединением частицы еще: «еще ослепительней бросалось в глаза» (НП); «еще лучше любил» (НП); «еще живее и ближе... еще темней... еще глубже и фосфорнее... еще торжественнее и лучше» (Р) и т. д.
Кроме обычной формы превосходной степени на -айший, -ейший
207
превосходная степень на пре-; в «Шп»; преблагонравный, престарательный, пребольно, превкусные, «пречудного нрава»; в «Ш»: «преогромные усы», преблагонравный и т. д.; в «МД»: пренеприятный, препочтеннейший, прелюбезнейший, престранное, пресильными, «преамбиционные люди», «претолстое бревно» «препорядочный толчок», «пренеприятнейшая неожиданность», презанимательный, пресмешные, престранные и т. д. То же обилие этой формы в «ЗС».
Со второй фазы учащаются ходы на весьма и особенно на чрезвычайно; «ОТ» густо населено «чрезвычайностями»: «чрезвычайно приятно»; «приятно! Чрезвычайно приятно»; чрезвычайно любопытен»; «чрезвычайное происшествие»; «чрезвычайная деликатность» и т. д.; «МД» — чрезвычают; в двух первых главах: «с чрезвычайною точностью», «чрезвычайно громко», «чрезвычайно долго», «чрезвычайно искусно», «чрезвычайно внимательно», «чрезвычайно много», чрезвычайно похожий», «чрезвычайно сладкое», «чрезвычайно обстоятельным», «доволен чрезвычайно» и т. д. В «Р» этого хода мало. Весьма так же обильно представлено в «МД»: «весьма гладко выбрито», «весьма много», «весьма вежливым», «весьма рассудительным», «весьма ловко», «весьма лестное» и т. д.
Очень частому употреблению частиц ни, не, никак, нигде и т. д. соответствует ряд прилагательных отрицательного порядка: «несеверная» сила (П), «неподозреваемая» красавица (Р), «нелегкие увещания» (Н), «небрегущий» (НП), «немалолюдный народ» (ТБ), нещекотливые бока» (Р), «нестаринная церковь» (Р), «неблещущий капуцин» (Р), «необерегшийся ездок» (Р), «нещегольское платье» (П), «неразвлекаемые занятия» (П), «неотбойный охотник» (МД), «Петрусь немазанный» (ВНИК), «небесчестное дело» (МД), «неедущий путешественник» (МД); есть ходы и на без-: «безъинтересно» (МД), «бессемейное одиночество» (МД), «безвинный ребенок» (ВНИК), «безархитектурные массы домов» (Р); забегая вперед, скажу, что на без- и не- встречается и ряд существительных: «бесчеловечье» (Ш), «бесперехватность стана» (Р), «бесхлебье» (МД), «бессапожье» (МД), «неповорот» (МД) и т. д.
Общая масса эпитетов «не» примыкает к эпитетам, выражающим превосходную степень, ибо чаще всего в ней — отказ определить в слове степень чего-либо; поэтому можно сказать, что эти виды эпитетов сливаются с тем родом их, в которых подчеркнута патетика гиперболизма; подчас Гоголь точно топорщится, нагромождая горы эпитетов, долженствующих изобразить неизобразимое, описать неописуемое; и в этих усилиях впадает в аллегоризм; особенно в «Р» подчеркнуто это «тщетное тщение» восторженно превзойти себя самого. Остановимся на этом отрывке: в нем с особою силою обнаружили себя все недостатки неумеренной роскоши определений, относительно которой можно сказать, что она «раздражает око светом ложным» (Фет).
«Всякий изо всех сил топорщился»: этой цитате «Р» соответствует и стиль написания «Р», напученного эпитетными гиперболами; если бы из отрывка удалить эти эпитеты, он сократился бы
208
на треть; ибо Гоголь их приставляет кстати и некстати к каждому существительному; и вместо того, чтобы потрясти своей превосходною степенью, он подчас вызывает зевок; весь «Р» — превосходная степень пустых категорий: света, пылания, великолепия роскоши и неизобразимых торжеств.
Блеск: «потопом блеска», «блистали резцы», «в блеске», «ее... блеск», «блеск», «кафе, блиставшее... царским убранством», «ослепительный... блеск магазинов»; «все, что лежало внутри их... блистая»; руки... блистая, заворачивали бумажки конфет», «блещет водевиль», «блеском... деятельности», «блистание... сцены», «блестящие эпизоды», «вся нация блестящая виньетка», «в воздухе, блиставшем голубизною», «вспыхивающим блеском», «блеща пожаром», «блеск герцогов», «блеск эпохи», «блеском ума», «небесным блеском... воздуха», «блестящая эпоха... блистает в красавицах мира», «блистающие волоса», «блеск молнии, а не... женщина», «блеск... на всей архитектурной массе» и т. д.
Мало того, что все блещет в «Р», оно и сияет: сияет и блещет; Гоголь не замечает тавтологии этих оспаривающих друг друга тождественностей; и топорщится «изо всех сил»: «сияющий снег лица», «сверкающая шея», «сверкающая галлерея», «сияли... стены», «сияли... дома», «сияли... ясно углы и линии», «сверкающая... полоса», «светящиеся... мухи», «сияющий... наряд», «сияющих женщин», «сияющий смех», «сверкающая масса домов» и т. д.
Мало того: «сияющее блисталище» еще и пылает: «вспыхнула воспоминанием», «с огнем во взорах», «кипевшее перо», «горячая драма», «все... было горячо», «пылкая душа», «четыре пламенные года... жизни», «отчаяние, готовое вспыхнуть», «вспыхнувшим блеском», «пламенится... золотом», «блеща жаром», «все живет и кипит» и т. д.
«Сияющий блеск пыла» подан в «Р» на ходульных эпитетах: «огромный Рим... громадно возвышается», «громадный блеск», «огромный... жабо», «огромный размах», «огромный рак», «великая выставка», «чтение колоссальных журнальных листов», «бесчисленные толпы дам», «исполинские буквы», «исполинский барабан», «страшилищной величины скрипка»; и даже: «клистирная трубка вышиною в колокольню» (Р).
Огромный, сверкающе-пылающий блеск еще закручивается, точно буклями, эпитетами на слово великий: велико-лепный, вели-чавый, вели-чественный; и влепливается: властный, возвышенный! «Великолепных, светлых гостиниц», «в великолепном... дворце», «великолепием заманить», «величавое течение всего целого», «у великолепных колонн», «перед величавым дворцом», «величественной залы» «могучий средний век, положивший... следы художников исполинов и великолепной щедрости пап», «величественная роскошь», «великолепная старина», «великодушные черты», «величественная мысль», «величавое архитектурное чудо», «великолепная бедность», «восторженные плески», «верховное совершенство»; и — так далее: великолепию нет конца! «Величавое течение целого» карикатурится то «клистирною
209
трубкою», то желанием «выпить стакан ослиного молока» (Р); а Гоголь, не замечая ходульности эпитетов, присоединяет к ним рой эпитетов, выражающих отказ от определения посредством своего хода на не: невиданные землею плечи, необузданная муза, непреодолимое желанье, непреклонный деспотизм, невыговаривающаяся речь, неслыханное убранство, неслыханные страсти, непостижимая голубизна, непостижимое порождение, небранные струны, неприступные кардиналы, необыкновенная плодотворность, незыблемая роскошь, неувядаемая плоть, «несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц» и т. д.
Одна подлинно выпуклая фраза: «горбом выпученная мостовая» рвет, как папиросную бумагу, небеса, построенные на ходульных эпитетах; из переложения и сочетания опустошенных частым повтором эпитетов и гипербол складываются фразы, подобные нижеследующим: «они были высокопрекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши» (Р); «чуть заметные движения... министерства разрастались в движения огромного размаха» (Р); «женщины казались подобны зданиям Италии; они... дворцы» (Р); «нестерпимый блеск», накладываясь на себя самого, превращает многие страницы «Р» в риторическую тусклятину, когда из «блеска» в окнах магазинов изваивается «белое, как снег, сало» (Р); «Р» заостряет превосходную степень эпитетов в скрежещущий диссонанс; я потому остановился на разгляде его эпитетов, что в них дана квинт-эссенция тропической роскоши, обнаруживающей пустоту, которой подчас отдается Гоголь.
Насколько ярче, живее ряд умеренных эпитетов Гоголя, без всяких превосходных степеней, «сияний» и «блесков»: «юркая прыть» (МД), «гибкое юношество» (Игр), «обширное лицо» (Шп), «тучная ширина» (Шп), «статный подсолнечник» (СЯ), «жаркий пот» (ОТ), «дородные животные» (К), «серьезные морды» (К), «ничтожный переулок» (Р), «наездная толпа» (Р), «полные взоры» (Р), «волнистый хвост» (СП), «легонькое личико» (Ш), «легонькая дама» (Н), «лилейные плечи» (СЯ), «разнообразное зеванье» (Р), «поносное имя» (ОТ), «трубочный куряка» (МД), «православный морозец» (ВНИК), «усталые языки» (СЯ), «щеголеватый мизинец» (НП), «щеголеватая чистота», «дряхлые стены», «тщедушный дом», «бывалые головы», «гульливые головы» (ТБ), «задорное море» (СМ), «круглое небо» (СМ), «картинный фонтан» (Р), «зыбучая брань» (ТБ), «пьяная молвь», «острые звезды» (ТБ), «тонкое поморье» (ТБ), «дебелое колесо» (ТБ), «дробные слезы» (ТБ), «матовые перси» (В), «облачные перси», «мутные волосы» (Р), «певучее население» (МД) и т. д. Этом ряде эпитетов Гоголь — огромный мастер; в иных эпитетах он доходит до пушкинской простоты: «вольное небо» (СМ) и т. д.
Ряд эпитетов Гоголя вызван тою способностью к аналогиям ощущений, в связи с которой Мандельштам поминает Эйхендорфа и Гейне: «У Эйхендорфа упоминается о «пурпурной прохладе»... Гейне говорит о способности воспринимать музыкальные впечатления образно, так сказать, глазом («О характере гоголевского стиля»,
210
стр. 177); к числу таких эпитетов Мандельштам относит: «яркий крик» (В), «яркий дар» (МП), «благовонное море... музыки», «густое слово» (ТБ), «красный звук» (ТБ), небо «звучно раскинувшееся»; сюда же: «серебряная» песня жаворонка (СЯ), «яркий, как серебро, крик лебедя» (ТБ), «толстый бас шмеля» (СП), «жемчужная душа» (ТБ), «больной день» (ОТ), «видимая тишина» (ОТ), «сладкая тишина» (МН), «дышащая нога» (Р), «острый порыв» (П), «острое пенье» (В), «в свежести теплое» (В), «горячая пуля» (ТВ), «с продолговатой растяжкой» (Рев) и т. д.; в этой способности к цветному и фигурному слуху творчество Гоголя сплетается с позднейшими символистами и экспрессионистами, а не только с романтиками; экспрессионист Шенберг писал о «звуках красочных мелодий»1; «красочной мелодией» продиктованы иные из эпитетов Гоголя.
Звук — отражение первичной энергии творчества; она переживается, как внутренняя интонация; в многообразии речевых фигур мир звука играет огромную роль; когда Артур Рэмбо дает субъекцию своего цветного слуха, то он субъективен не во всем и не до конца; Вундт считает первичной метафорой звуковую; в ней даны еще нерасчлененно и все виды будущих образностей; выражение «красное солнышко» не так уже субъективно, как это кажется сперва; в нем дана импрессия «жаркого» солнышка (тепловые лучи ведь лежат в инфракрасной части спектра).
Художник, изощряя ухо ли, глаз ли, как Гёте, осознавший в себе «чувственно-моральное восприятие краски», не может не реагировать на цветной слух, ибо он коренится в группе аналогий ощущений, уже данных «implicite» в звуковой метафоре, как первейший и не расчлененный еще до конца в органах чувства (в ухе связь глаза с жестом посредством органов равновесия).
Сила многих эпитетов Гоголя в том, что они необычайно звучны; часто составные части его сложных эпитетов аллитерируют и ассонируют: «неизме-ри-мая б-ри-чка» (ри-ри), «двух-рульные челны» (у-у), «по-доб-лачные дуб-ы» (доб-дуб), «краснозобый курухтан» (крс-крх), «глубокодонное место» (ооооо), «железное лицо» (жлз-лц), «жемч-уж-ная д-уш-а» (уж-уш), «я-ркий кри-к» (рки-кри), задорное м-оре» (орное-оре), «легенькое личико» (лгк-лчк), «бе-ло-го-ло-вый» (ло-ло), «гуль-ли-вые го-ловы» (гллв-глв); «дор-од-ные жив-отн-ые» (одн-отн); очень част ассонанс на ударных: «двух-рульные» (у-у), «раз-ру-ша-ющий жар» (раз-ру-ша-жар), «густое слово» (о-о), «бледная смерть» (е-е), «блистающая панна» (а-а), «тонкие поморья» (о-о) и т. д.
Так же, как и глаголы, Гоголь остранняет эпитеты, меняя обычные приставки и окончания корня на необычные.
Меняет приставки: «о-черкнутый» (Р), «об-пачканный» вм. «запачканный») (В), «окраенные веки» (В), «об-линеенные тетрадки» (Шп), «обеспамятевший страх» (П), «рас-кидистые ветки» (ОТ), «раз-не-варенный
211
кисель» (ТБ), «у-ветливый голос» (Н), «у-хватливый парень» (МД), «у-кладистая коляска» (К), «при-глуповат» (вм. «глуповат») (Рев.), «пре-сильные толчки» (МД), «из-ветшалый тес» (МД), «из-бороненное поле» (МД), оклад, «исцвеченный» каменьями (ВНИК) и т. д.
Меняет окончания: «разноголос-ный» (вм. разноголосый) (СМ), «литаврный» (ТБ), «перламут-ный» (вм. перламут-ровый) (МД), «уны-вный» (вм. уны-лый) (СМ), «преамбиционный», «рогож-енный» (вм. рогож-ный) (ОТ), «овощенная лавка» (вм. овощ-ная) (Рев), «консерватор-ный» (вм. консерватор-ский) (Р), «морда-тый» (им. морда-стый) (МД), «художес-кий» (П), «плыву-чие» (вм. плыву-щие) (Р), «речи-вый» (вм. речистый) (Р); и много окончаний на -альный, -ельный: «надува-тельная земля» (вм. надуватель-ская) (Игр), «огло-хлый» (вм. огло-хший).
Иногда он употребляет прилагательные, слаженные по типу народных: «небрегущий», «когдашный», «хожалый», «езжалый», «дюжий», «пекельный», «прибережный», «статистый», «укладистый», «насосная завертка» (про храп), «пролетная голова», «загребистая рука», «залетная лошадь» (МД), «забубеные века» (Набр) и т. д.
Эпитеты Гоголя — смесь роскошеств с чувствительными недостатками; но они — не изъян, а перепроизводство богатств; в тропических порослях травы не дают расти травам; и оттого — сушь, как следствие густоты; заросли эти взывают к очистке; к ним нечего прибавить: от них надо убавить и тогда все в этом мире будет прекрасно; богатство Гоголя особенно подчеркивается, когда мы обратимся к эпитетам Пушкина, которых красота в утонченной скромности, а вовсе не в роскоши; эпитеты Гоголя и Пушкина относятся вовсе к разным климатическим областям.
Гоголь — тропичен; Пушкин — показывает красоты северной флоры.
Беру для примера уже разобранный в отношении к глаголам отрывок IV из «Пиковой дамы» и начинаю выписывать эпитеты: истинный, мертвый, вредный, бархатный, усопший, сложенный, белый, атласный, домашний, черный; ну — и так далее; пусть читатель поверит мне: ни одного гоголевского изыска!
Беру кусок из отрывка «Бэла» Лермонтова; эпитеты там несколько красочней пушкинских; но до гоголевской яркости им далеко; вот наиболее образные из них: «легкие струйки облаков», «черная туча», «темносиние» вершины в «бледном небосклоне», «голые», «черные» камни, «огромный» клуб дыма; и далее: неприступные, красноватые, увенчанные, исчерченные, безыменной, серебряной и т. д. Беру у Гоголя хотя бы один красочный ряд: коричневый, темнозеленый, бронзовый, радужный, пегий, гнедой, желто-коричневый, темнокофейный, табачный, ореховый, сизый, сивый, палевый, коричнево-желтый, сиреневый, рябой, лимонный, гороховый, оранжевый, медвежий, верблюжий, мухортый, муругий, чубарый, брусничный, скучно-синеватый, светлосерый, темносерый, дымный, лилово-розовый, янтарный, сутозолотой, кармазинный, прозрачноголубой,
212
белопрозрачный, фиолетовый, фосфорный, лилово-огненный, зеленооблачный, голубовато-красный и т. д.
Спектр Гоголя, составленный по эпитетам, — переливный, пестрый, павлиний хвост.
И характерно нагромождение прилагательных: «свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла» (ПГ); «странный, дребезжащий и вместе стонущий звук» (СП); «сколько дам... смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых и... тонких» (ОТ); сколько платьев — «красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных» (8 прилагательных при одном существительном) (ОТ); «со всей грацией красоты воздушной, легкой, очаровательной, приятной, чудесной, подобной мотылькам (П); «дерево шитое, точеное, лаженое и плетеное» (МД); «странное, и манящее, и несущее, и чудесное слово» (МД); «черство, неотесанно, неладно, нестройно, негоже, нехорошо» (МД); «я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно» (СП); или: «мокро, гладко, ровно, бледно, серо, — туманно» (НП) и т. д.
Виноградов видит в нагромождении эпитетов влияние Жюля Жанена, нанизывавшего до пятнадцати эпитетов на одно существительное; но ведь то же явление имеет место относительно глаголов и существительных: Жанен Жаненом, а Гоголь Гоголем. По профессору Ермакову1 тут мы имеем дело с психической конструкцией Гоголя, — собирать, перечислять, каталогизировать — что бы ни было: предметы, слова; Гоголь — Плюшкин словечек, нижущий их подчас нарочно бессвязно, чтобы ошеломить, вызвать столпленье у глаз красочных пятен; позднее он нагромождает почти бессвязно одинаковые этимологические формы и удвояет эпитет уже прямо ненужно его синонимом; и кончает крючничеством, обходом мусорных ям, выкапывая из завали выдохшихся, ставших мертвыми, словечек ему для чего-то нужную всякую дрянь.
ЯЗЫК СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Фонд существительных Гоголя — неисчерпаемый; он — не «народный язык», а — «народные языки»: украинский, смешанный с местными великорусскими говорами; «языки» даны впестрядь с архаизмами, неологизмами, с рядом словесных импровизаций вплоть до... заумных коленец; сюда влиты: высокопарица канцелярского слога, которую Гоголь имел время изучить и в Нежине, и в Петербурге, технические языки (кухонный, помещичий, лакейский, охотничий, картежный), язык мещан и ремесленников; из пестрого месива Гоголь вываривает свой язык, которого руссицизмы, украинизмы и полонизмы переходят подчас в грамматику, не оправдываемую никакой грамматикой; судьба яркой пестрятины этой — стать на три четверти русскою литературною речью; и — даже: изменить тот самый язык, в котором Гоголь чувствовал подчас иностранцем себя.
213
Попав за границу в 1829 году, молодой Гоголь хочет-де издать первые опыты на чужом языке (так он обещает); исследователи недоумевают: с какой стати? Гиппиус правильно раскрывает скобки «иностранного» языка; это — русский: «великорусский», он же мыслил по-украински; он высказывался, что «позабыл» в Риме русский язык, подтвердив это в письмах, где стоит: «послать по художнику» (в смысле «за художником»). И — тем не менее: он сдвинул с места «чужой» язык.
Трудно классифицировать яркую нестроицу его существительных; нужны рубрики рубрик: в подрубриках; у меня нет места на этакое «над-пере-под»; буду я лапидарен.
Язык украинский дает ряды существительных: запаска, левада (поле), кухва (кадка), рядно, щедровка, очкур и т. д.; Гоголь, составив словарик, его приложил к украинским повестям; интересны — архаизмы, интересны словечки, разбрасываемые щедрой горстью его запорожцами вместе с дымом из люлек и со «злотыми», выкидываемыми из алых, широких, «как Черное море», штанов: канчуки, сердюки (ТБ), оксамиты (ТБ), красуля (Игр), чоботы (ТБ), скарбница (ТБ), чапоруха (чарка) (ТБ), довбиш (литаврщик) (ТБ), добро́та, зеница (ТБ), молвь (ТБ), прибыток (ТБ), орань (МД), «ячанье» лебедей (ТБ), панованье (ТБ), панство (НПР), крехтанье (ТБ), латинцы (ТБ), шляхетство, посполитство (СМ и ТБ), добродийство (ТБ). По типу этого жаргона Гоголь строит свое миллионство (МД), аристократство (ТБ) и т. д.; сюда ряд словечек: небога (бедняк), яломка, облога, броварники (ТБ), пивники (ТБ), гречкосеи, домоводы (ТБ), домоводка (МД), перекупка (СЯ), овцепасы, плугари, крамари, баболюбы (ТБ); и поздней — рамщики (Р), самоварники (Рев), панталонники (МД), мыкальники (МД); сюда же — плетюганье (ТБ), хлопьята (ТБ), побратимы (МД), сподка (изнанка пирога) (Шп), вытребеньки (ТБ), бакун (табак), бейбас (ТБ), гуголь (СП), дрязг (в ряде повестей), брехание (МД), трехнога (МД), хлопинцы (МД), раздол (МД), ссадка (МД), высмактывание (Шп), бабьё (Н), гольё (Лак), коробьё (МД), гривенок (МД), гущина (Р), глушина (МД), огородина (ОТ), животина, собачина (ЗС), брика (В), круть (В), нежба (ТБ), гульня (ТБ), грамотня, размет воли (ТБ), остроконечье (Р) и т. д.
И эти словечки вплетает Гоголь в свой казацки-крестьянский жаргон: «кисель выйдет» (вм. «чепуха будет») (ТБ), дал бабе «киселя» (ногой под з...у) (СЯ), «раздобар взял» (ТБ), «ось, сосулька» (В), «все, старый собака, знает» (ТБ), «турецкий игумен» (СМ), «экий... такой-сякой сын... Ах, сякой-такой сын» (ТБ); «ну, давай на кулака... посмотрю, что ты за человек в кулаке» (ТБ); «ей отдеру... на... бока» (ТБ); «ни чортова кулака не видно» (В); прошел «кулаком» промеж казаков (ПГ); словечко для Гоголя, что изюминка, или, что камушек, бросаемый в воду: он мелодичный из воды извлекает звук; и от него — круги: круг за кругом; какое-нибудь «полутабенек», звуком «полу» вызывает действие фразы; и вот уже — пани Катерина в платье из го-лубо-го полу-табенеку» (лубо-полу)
214
(СМ); особенность жаргонных существительных Гоголя в том, что они поджигают звуком: с ними аллитерируют, или ассонируют эпитеты, дополнения, глаголы: у Гоголя из звука «крх» существительного «курухтан» извлекается звук крез подбором к нему эпитета: «краснозобый».
Оттого-то вокруг существительных кругами разбегается жаргонная речь: «садись, где кому нужно за стол» (ТБ); «пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора и отца отца моего, и отца матери моей» (ТБ); или: «так если ж так, так вот что» (ТБ); «хоть ты ему что хочь» (ТБ); «мы такое объявим..., что еще не слышали, — такое, что еще не можно сказать какое» (ТБ); и это такое какое-нибудь словечко: «бейбас» или «кнур»: «спичка тебе на язык, проклятый кнур» (В); словом: «уж коли кому закрутит слово, так уж «ну»... Да уж и не сказали казаки, что такое «ну» (ТБ); сказал Гоголь, закручивая словечки — баболюбы, гречкосеи, овцепасы, и — отказачивая фамилии: Голопупенко, Попопуз, Макогоненко, Крутотрыщенко, «Моту́зочка, — не Моту́зочка», «Закрутыгуба» и т. д. Если в глаголах Гоголя — порох к фразовому вспыху, то в фигурно вылитых существительных — сталь курка, ударяющая о порох; Гоголь поджигает своими словечками и позднейшик писателей к выиску языковых изюминок; чем ремизовское слово блоховод отлично в типе от гоголевского домовод? И в стиле народного жаргона строится синтаксис Гоголя; часто у него единственное число вместо множественного — «Карпат», вместо Карпаты: «от Карпата» (СМ), «по Карпату» (СМ); вместо дрязги — «дрязг» (ЗМ, СП, П, Р); позднее — «фреск», «средний век» (Р); по типу же народных слов с иными, мало употребляемыми окончаниями («круть» вм. крутизна, «гульня» вм. гульба) ряд словообразований: копа (вм. копна) (Шп), недоверки, расхлебка (МД), скородумка (МД), толковня (вм. толкотня) (МД), колдовка (вм. колдунья) (Н), продавица (Р), грамотня (по типу «трескотня») (Р), красуля (Р), скучанье (вм. скука), мигач, лихач (существительное от «лихой») (МД).
И такой же ряд слов с необычными приставками; на за: заплевки (МД), забранки (МД), захрап (МД), запев (МД), зашептыванье (вм. нашептыванье) (Ш); на по: покурки (вм. окурки) (МД), позов (иск) (ОТ), побранки (НПР), покрик и т. д.; на раз: разнужда (ЗС), раскрасотка (Ж), разделка вм. от-делка; и — наоборот: от-воды вм. разводы (ТБ); ход слов на полу-: полутабенек (СМ), полубричка (К), полугоризонт (Р); сюда же: выморозки (Шп), пересеки (МД), изломки (МД), подсочельник (МД), переборщики (МД), неповорот (МД), невзгодье (ТБ), бесхлебье (МД), бессапожье (МД), бесперехватность и т. д.
В некоторых словечках одновременно остраннены и приставки и окончания; обычно говорят: угодье; и — говорят: невзгоды; Гоголь берет корень -год-; и приставляет к нему не-, необычное для окончанья -ье; или же: при обычном окончании -годье вместо приставки у прибавляется необычное не-; он оставляет лишь корень существительного, образуя вокруг него вихрь приставок и окончаний;
215
словарь Даля, вошедший в обиход после Гоголя, оправдывает Гоголя; грамматика народного языка оказалась такою именно, какой ее увидел Гоголь; согласно с ней от корня -вар можно образовать слова: по-вар, у-вар, при-вар, из-вар, раз-вар, пере-вар, вз-вар, не-вар, недо-вар, над-вар, с-вар, пере-провар, и т. д.; любое из этих слов может итти под флагом разнообразных окончаний; возьмем хоть провар: проварня, проварка, проваренье, проварство и т. д.; но и — взварня, взварка, взваренье, взварство; образный глагол северного наречия улалакать (убить) можно переделать в существительное; улалак (убийство) будет звучать жутко; и даже: ложно сказать: «эдакое улалачище» в смысле: «эдакая бойня»; русский язык — футурист и заумник; и Гоголь становится футуристом до футуристов, овладевая ритмами народной метаморфозы приставок и окончаний; и написав «пузантик» вместо «пузанчик» (МД), он отдается потоку словообразований в своем кухонном языке: галушки, пампушки, коржики, масленцы, взваренцы и другие пундики; что пампушка есть вид печеного теста, известно всем, а вот за масленцы, взваренцы я не ручаюсь: может есть где-нибудь взваренцы, а может... и нет их нигде; что же касается до «других пундиков», то ручаюсь, что слово пундик сочинил Гоголь; не довольствуясь неологизмом пузантик, он выдумал свой пундик, как выдумала одна почтенная дама, отрицавшая заумь, ласкательное выражение для ребенка: «сюбасю́ленька лябото́сяя» (факт!); бьюсь об заклад, что пундик — такая же сюбасюленька Гоголя; и он всюду старается в меру ему дозволенных прав всучить читателю под тем или иным предлогом сюбасюленьку; например: в языке нарядов, не довольствуясь ассонирующими «глазки да лапки» (ла-а-ла) (МД), подпускает: «рюши да трюши» (МД); что рюши — да; а что трюши, — сомневаюсь; трюши — сюбасюленька, т. е. языковые побасенки, как и «лапки под аплике» (апк-ап-к) в «Ш», как и финтерлеи (МД), суплеты (МД) — слова, принадлежащие Гоголю: есть суфле и есть куплеты; а у Гоголя — суплеты; и так же кики, жужу, француз Куку (МД), моньмуня, пульпультик (К); все это — предлог к «сюбасюленькам люботосиям», или — к зауми.
Потребность бесконтрольно излиться звуковым посвистом буйствует эскадроном имен, отчеств, фамилий, названий местностей, деревень, которым Гоголь штурмует нас: фамилии, или вернее — бред Гоголя, — выпучены ужасом пошлости, или хлещут, как кастаньеты, гротеском; что̀ главное: в них глумится тенденция отщепенца от рода над безличием родового чрева; даже имя «Николай» (почему «Николай»?) превращает «я» Гоголя в безыменку; почему оно — Николай, когда любое «ты» — Николай, любое «он» — Николай? И отсюда потребность ожутить; и остранняют: не Николай Николаевич, а — «Миколай Калаич»; Гоголь же — «Николай Васильевич» из рода «Гоголей» (чорт их знает, откуда «гоголи»?). И как месть за гоголя, пухнут звуковые монстры.
Вот фамилии по чину «гротеск»; Бульба, Бурульбаш, Козолуп, Попопуз, Пухивочка, Голопупенко, Голокопытенко, Колопер, Пидсышек,
216
Палывода, Покатыполе, Черевиченко, Макогоненко, Перерепенко, Метелица, Вовтузенко, Вертыхвыст, Невеличкий, Черевик, Чуб, Шпонька, Коробочка, Курочка из Гадяча, Земляника, Яичница, учитель Деепричастие, Держиморда, Хома Брут, Сторченко из Хортыщ, Сквозник-Дмухановский, Фемистоклюс Манилов, граф Толстогуб, Товстогуб, Довгочхун, Чипчайхилидзев, Пифагор Пифагорович Чартокуцкий, судья Тяпкин-Ляпкин; сюда же: Ердащагин, Шлепохвостова, Василиса Кашпаровна Цупчевьска, и т. д.
Вот фамилии, которых задание внушить ужас своей тривиальностью: пара Пискарев и Пирогов в «НП» окаймлена парой немцев, носящих знаменитые фамилии Шиллер и Гофман; вдумайтесь в ничтожество звуков, строящих фамилии двух героев Гоголя: Чичиков (чи-чи), Хлестаков (нахлестался); серою пылью чехлов несет от ряда фамилий: Подточина, Потанчиков, подполковник Потогоненко, Поприщин, Поплевин, Помойкин, Почечуев, Пуговицын, Перепреев, Перепендев, Подколесин, мичман Дырка, Люлюкин, столоначальник Ерошкин, Ковалев, Бобов, Бухмистерова, Брандахлыстова, Белобрюшкина, Купердягина, князь Брюховецкий, граф Булкин, Собачкин, Мурзафейкин, Замухрышкин, Вахремейкин, Ярыжкин, Тряпичкин, Швохнев, Блохин, Ихарев, Чмыхов, Глов, Невелещагин, Кислоедов, Софи Ватрушкина, полковник Чепраков, Харпакин, Трепакин, и т. д.
Читатель, ведь — ужас!
Имена и отчества: Амос Федорович, Агафья Тихоновна, Агафья Федосеевна, Василиса Кашпаровна, Фентефлей Перпентьич, Псой Стахич, Евдокия Малафеевна, Сильфида Петровна, Адельгейда Гавриловна, Маклатура Александровна, Евтихий Евтихиевич, Елевферий Елевфериевич, Акакий Акакиевич, Евпл Акинфиевич, Сысой Пафнутьевич, Макдональд Карлович, и т. д.
Имена и прозвища: Солопий, Солоха, Мосий Шило, Хивря, Бовдюк, Ковтун, Коровий-Кирпич, Шепчиха, Копрян, Абакун Фыров, Алкид Манилов, Неуважай-Корыто, Григорий Доезжай-не-Доедешь, Елизавета Воробей, повариха Явдоха, девка Горпина, девка Орышка, приказчик Ничипор, кучер Омелек, отец Петр из Колиберды, Мокий, Соссий, Хоздазат, Трифилий, Варахасий, Павсикахий, Вахтисий; лысый Пимен «держал кабак, которому имя было Акулька» (МД); колода карт — «Аделаида Ивановна» (ТО); лошадь — «Аграфена Ивановна» (К) и т. д.
А география Гоголя?
Сельцо Вшивая-Спесь, село Колиберда, хутор Хортыщи, Шестилавочная улица, Мыльный переулок, дом Зверкова, церковь Николы-на-Недотычках и т. д.
Я останавливаюсь подробно на именах, фамилиях, прозвищах; без них — не полон словарь; в них — явная тенденция к зауми сплетена с тенденцией к народным словам, прыщущим неологизмами; из последних выкручивает Гоголь свои жаргоны; в одном направлении ярчится смешанный с лакейским мещанский жаргон; сюда: обижательство (Рев), потьма (МД), тузан (МД), хапуга (МД), шильник
217
(МД), шаромыжник, пентюх (Рев), тюрюк (МД), наян (назойливый) (МД), расстепеля (слюнтяй) (МД), елтажи (МД), хлигерь (Ж), елистратишка (Рев), шантрет (Рев), галдарея (МД), великатес (Ж), валгалантерство (Ж), дробь (в смысле мелкие люди) (Шп), бумагомарака, свекруха; ряд увеличительных: осетрище, карпище, плечищи, силища, машинища (МД) и т. д.; и в противовес им ряд уменьшительных, появляющийся в изобилии со второй фазы творчества: суконце (Рев, Ж), тавтица (Ж), рыбица (Рев), колясчонка (Лак), канальчонок (Ж), пострельчонок (Шп), экспедиторченок (Ж), фрачишка, страстишка (МД), картишки (МД), тузик (Игр), вистик (МД), вистец (ТО), фортунка (МД), эдакий розанчик (Ж), безешка (МД), нуждочка (ЗС), полтиннички (МД), мордашечка, таракашечка (Ж) и т. д.
Ряд уменьшительных связывает мещанский жаргон с мелкопоместным и провинциально-чиновным: рассупэ-деликатес (МД), клико-матрадура, бурдашка (вм. бордо) (МД), «бутылка бомбона» (МД), «бутылка толстобрюшки» (Рев), ракалия (МД), протобестия (Рев), «пройдоха труба» (МД), мордаш (МД) папаш, (Игр), свинтус (МД); эти слова в лаборатории Гоголя осаждаются в технические языки (карточный, охотничий, поварской); карточный: червоточина, пикенция, пикендрас, пичурущух (МД), пароле (Игр), «пять рублей мазу» (Игр), «плие́, черт побери плие́», «пароле пе» (МД), «А была не была! Не с чего, так с бубен!» (МД), «загнул кутку не во-время» (о карте) (МД); и встает серь провинции с шулером-офицеришком: «Да здравствуют гусары! Теремтете! Шампанского! — «Теремтете! Да здравствуют гусары» (Игр). Вокруг словечек спиралями закручиваются жаргонные фразочки: «задал бегуна» (ЗМ), «набивает с обоих подъездов» (ОТ), спит «во всю насосную завертку» (Рев), «нюхательная часть тела» (про нос) (Н), «сколот насос» (разбит нос) (МД), «попользоваться насчет клубнички» (МД), ходит пехонтарией (ОТ), «дрянная гарниза» (Рев) и т. д.
Из этого же языка в другую сторону вскручивается высокопарица: негоция (МД), конфузия (Лак), скандальоза (МД), министерия (МД), посессор (НП), вояжировка (Рев), реприманд (Рев), нотиция (Рев), профит (Ж), пассаж (Рев), поведенц (МД), «замолвить в профит» (Ж); «сконапель истуар» (МД); «ну, просто, оррер» (МД), «какую-нибудь этакую науку... паренье этакое» (МД); «у нас нет... обеда, какой на паркетах... у нас... щи, но от чистого сердца» (МД); «в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое» (МД) и т. д.
В другую сторону от звонких, как щелчок, словечек тусклеет словесная ткань нарочитым косноязычием: «этакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом» (МД); или: «чтобы она вся, знаешь, этак разэтого...» (МД); еще... там этакого... какого-нибудь там того...» (МД).
Привожу эти фразочки: они — вихревые линии, завиваемые, как пулей, выкидываемым словечком: Гоголь им бьет, наповал;
218
словечко — пузантик, если не пундик; или оно смачно, как — молвь, полутабенек, оксамит.
Глаголы Гоголя — динамизаторы стиля; существительные Гоголя — кристаллизаторы слога. Нагромождению прилагательных и глаголов вполне соответствует нагромождение существительных: «проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и — исподнее платье» (Шп); «перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор» (Шп); «комната... уставлена сундуками, ящиками, ящичками. Множество узелков и мешков с семенами... множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев...» и т. д. (СП); «птицы, строение... амбары, всякая прихоть, водка перегонная» (ОТ); «бешмет, шпага, фалды травяно-зеленого...» (ОТ); «говорили... о походе, о собаках, о пшенице, о чепцах, о жеребцах» (ОТ); комната уставлена «кусками гипсовых рук, рамками... холстом, эскизами.., драпировкой» (П); «золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью» (П): «шинели на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы... меха и кожи» (Ш); «тысячи сортов шляпок, платьев, платков пестрых, легких» (НП); «в нос... в уши, в рот, в зубы, во всякое место» (Ж); «кочки, ельник... кусты... сосен... стволы... вереск и тому подобный вздор» (МД); куча «хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник» и т. д. (МД); «грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки» (МД) и т. д.
Нагромождению глаголов первой фазы соответствует нагромождение существительных в «МД», переходящее часто в перечисление, в каталог какой-то к музею предметов, переполняющих сознание и даже рвущих течение фабулы. Гоголь становится Плюшкиным, крючником слов, обнюхивающим специальные жаргоны в поисках словечек; записные книжки его переполнены названиями блюд и другими техническими терминами; художник слова в нем подчас подменяется словособирателем.
Я бы мог без конца характеризовать словарь Гоголя; неологизмы, оригинальные словопроизводства обнимают все формы речи; например, — наречия; и в них обнаруживается движение воды, которого нет в языке обиходов; мы говорим: «вскачь»; и не говорим: «вслезь» «взаверть»; народ — говорит; Гоголь следует народному молодечеству, развивая веер пестрых наречий: поцеловались «навкрест» (крест-на-крест), «наперейма̀» (наперерез) (ТБ), «торчмя» (ПГ), «врассыпку», «в обкладку» (МД, 2), «на ви́хорь» (ЗМ), «на разрыв», «наудалую» (Рев), «на шаромыжку» (МД, 2); так же интересны его числительные: «вдевятеро» «всотеро» (МД, 2), «пятирик» (ПГ) и т. д.
Читатель поверит мне на слово; и я ограничу показ гоголевского словаря.
РИТМ ПРОЗЫ ГОГОЛЯ
Проза Гоголя полна напева; он — трудно учитываем; он еще никем не изучен; он — действует; он — не размерен: не паузник
219
только, не только киклический стих древних греков1; напев не выразим всецело ни в былинном речитативе, ни в песенном ладе; последний, как гребень волны, поднимается, но на волне, состоящей из всей ткани напева; отдельные песенные строфы, которыми заострены кое-где ритмы Гоголя, действуют мощно лишь потому, что они — всплески пены всей, так сказать, речевой массы, образующей напевную волну.
Все ж ритм прозы ближе всего к сложным паузникам, — к строкам, где слоговые пропуски дают паузу, равную времени произнесения пропущенных слогов; обратно: неударный, принятый, например, за 1/4 — дробится: вместо него — два неударных, равные 1/8, три неударных, равные 1/12, и т. д.; наращение лишних слогов ведет к ускорению; многосложные, например, «вывороченная», взывают к быстрому чтению; чем дальше неударный от последнего ударения, тем более он переходит в трель; «вывороченная» звучит, как «выворочен»», а «выворочен» звучит, как «выверен»; т. е.: четыре неударных после ударения произносимы во время, равное трем неударным; три — во время, равное двум; и это значит: если неударный после ударного — 1/4, далекий неударный — 1/8; еще более далекий — 1/12 и т. д.; текст завивается голосовыми трелями; темп зависит от положения неударных; если их нарастание — до ударения, он — один; после — другой. Наоборот: ударный, следующий за ударным, вызывает глубокую паузу: между ними: ухо, ловя темп целого (ямб, анапест), вынуждает голос то к паузе, то к ускорению.
Интонация вписана в прозу Гоголя: она не от литературы, а от живого голоса; и тогда-то выявляются интонационные фигуры, строящие напев; значение паузы в прозе огромно; она падает на межсловесные промежутки, вырезывая каждое слово, как неделимую прозаическую стопу; стихотворная стопа не совпадает с прозаической: последняя богаче; она может быть то односложной (стук), то восьмисложной (непреоборимейшими); стопы в стихах разрезают слова: «разно́|обра́|зные́ жела́|нья»; в прозе приводимое сочетание образует не 4 стопы, а 2: «разнообразные| желанья»; что в метре стиха есть ямб, или  —|
—| —|
—| —|
—| —, то в ритмической прозе двухстопие
—, то в ритмической прозе двухстопие 

 —
—
 |
| —
— ; из сложения слоговых комплексов вылепливаются и аморфные массы звуков, не дающие напева, и определенные, сложные, фигурные ходы, из которых складывается мелодия.
; из сложения слоговых комплексов вылепливаются и аморфные массы звуков, не дающие напева, и определенные, сложные, фигурные ходы, из которых складывается мелодия.
Гоголь фигурен: богат напевами.
Трудно говорить о фигурах его ритма; плаваешь в море недоумений: с чего начать описание этих богатств? Попробую указать в намеках на план учета ритмических элементов прозы; они — многостопия; греки такие многостопия называли «колонами» (членами); в прозе колоны стиха берутся элементами; прозаическая строка
220
образует лейт-мотив; она подобна строфе; прозаическая строфа слагает целый отрывок (от красной строки до красной).
Во избежание путаницы набора буду неударные слоги слова обозначать малыми буквами, ударные большими; паузы — перпендикулярной чертой.
Напевность словесной ткани Гоголя в повторяемости элементов, подобных ходам на терцию, кварту, квинту; но элементов больше, чем стоп; образуемый ими напев — не размер; размеры — малая часть таблицы элементов; размером не определима проза; но каждый, порознь взятый, проходит в ней. Читая Гоголя, говоришь себе: ямб, амфибрахий; размер — элемент напева; встречаешь ямбические колоны: аА|аА|аА|аА; например: «Профе́ссор был отча́сти пра́в» (Н); вот преобладание амфибрахия:
«Просну́лся дово́льно ра́но  —
— |
| —
— |—
|—
И сде́лал губа́ми: «брр» (Н)  —
— |
| —
— |—
|—
Вот киклический хорей: «Со́лнце то́лько что се́ло» (Аа|Ааа|Аа); вот киклический ямб: «она́ приняла́ меня́» и т. д.
Отмечу несколько ходов, к которым постоянно прибегает Гоголь. Назову ходом 1 — сочетание слов с ударением на последнем слоге: «Басаврюк уже́ поджида́л»; закипе́л куренно́й атама́н» (ТБ); «богосло́в помолчал, поглядел»; такой ход всюду, как и ход 2, который — в скоплении слов с ударением на первом слоге: «са́бли стра́шно звукнули» (СМ).
Следующие два хода обычны у Гоголя; ход 3 состоит в контрасте, в столке, в сближении ударов: до столка — слова (или слово), кончающиеся ударением (атама́н, старик); после столка — слова (или слово), начинающиеся с удара; схема этой фигуры: бБ | Бб, или ббБ | Ббб, или бБ | бБ | Бб | Бб; примеры: «Не беси́сь, не беси́сь, || ста́рая черто́вка; здесь: ббБ | ббБ || Ббб | бБб (ВНИК); «расскажи́, расскажи́ || ми́лый» — ббБ | ббБ || Бб (МН); или: «чернобро́вый || па́рубок» || — ббБб || Ббб (МН); или «наградить тебя́, па́рубок» (МН); или: «она́ приняла́ на себя́ || вид уто́пленницы» (МН); или: «бурсако́в почти никого́ || не́ было в го́роде» (В); или: «и проте́р полоте́нцем глаза́: || то́чно нет в го́роде» (Н). Я мог бы привести сотни подобных ходов; они перепестряют прозу Гоголя.
Им противопоставлена фигура отстава ударений; схема ее: Бб | Ббб || ббБ | бБ; вместо столка — скопление неударных; первая половина дактило-хореична; вторая ямбо-анапестична; пример: «ста́л погля́дывать на те́мную старину́, где далеко́, из-за села́, черне́л земляно́й ва́л» — Б | бБбб | бБбб || ббБ | бббБ | бббБ | бБ | ббБ | Б (СМ); или: «да́, сны́ мно́го || говоря́т». Назову этот ход — ходом 4; ходы 3 и 4, сцепляясь, часто дают цепочку ходов: 3+4; или 3+4+3 и т. д. Примеры: «Не хоте́л || вы́пить || за каза́цкую сла́ву» (СМ); здесь: ббБ || Бб || ббБбб | Бб; «не хоте́л || жи́ть в ладу́ || с на́ми»: бБ || Б | бБ || Бб: последний ход являет удвоение хода 3; «да́, сны́ || мно́го || говоря́т || пра́вды» (СМ); здесь ход, составленный из трех ходов; схема его: 3+4+3; «ско́ро, || говоря́т, || бу́дут || кури́ть не дрова́ми, как все́ || че́стные || христиа́не» (МН): Бб | ббБ || Бб || бБ | ббБб |
221
бБ || Ббб | ббБб, т. е. 4+3+4+3+4; приведенная фраза — цепочка из пяти ходов; она — чередование столков с отставами; чередование типично для Гоголя; оно часто; оно образует самодеятельный ход; назовем его ходом 5.
Особенно част ход 61: берется киклический хорей Аа|Ааа, т. е. набор слов, или начинающихся с ударения, или таких, ударение которых падает на первую половину (аАаа); далее вводится слово (или слова) с ударением, падающим на середину слова (аАа, ааАаа); ход кончается набором слов с ударением на конце, или на второй половине слова; суть хода в градации переноса ударений с начала слов на конец их; в правой половине хода — слова типа Аа, Ааа, Аааа, аАаа и т. д.; в середине — слова типа аАа, ааАаа; в конце — аА, ааА, аааА, ааАа и т. д.; простейшая схема хода: Аа|аАа|ааА; пример: «э́то |жили́ще| головы́» (МН); или: «ху́тор |па́на| Дани́лы| между́| двумя́| гора́ми» — Аа|Аа|аАа|аА|аА|аАа (СМ); когда промежуточное колено (аАа) выпадает, то ход 6 сближаем с отставом (4); «де́ду вспа́ло на у́м, что у него́» и т. д. (Аа|Аа|аА|аааА) (Т); «ди́вные |ре́чи| про да́внюю старину́»: Ааа|Аа|аАаа|ааА (СМ); «зи́мняя, я́сная ночь наступи́ла» (НПР); «ве́сь заро́с, борода́ по коле́но» (СМ); «солнце только что село, и дневная теплота» и т. д. Суть его от замедленности — к разгону: точно предмет поднимают на́ гору; и потом — скатывают с горы. Это дает определенную интонацию; интонация хода 6 столь же обычна, как хода 3 (столка ударов). И разумеется, существует и ход 7, противоположный ходу 6; последовательная смена ударяемостей в обратном порядке по схеме: аА| аАа|Аа; ход 7 реже хода 6; первый типичней для Гоголя.
Наконец ход 8 есть уже переход к сложению ходов; я его называю случаем симметрии; приведу примеры симметрий. Вот симметрия типа Аа|аАа||Аа|аАа; правая половина хода наложима на левую: хорей, амфибрахий, хорей, амфибрахий: «То́лько |напра́сно|| ду́мал| бедня́жка» (ВНИК); этот ход с присоединением следующих двух слов дает иллюзию строчки гекзаметра: «Только напрасно думал бедняжка залить свое горе» (ВНИК); вот симметрия другого типа: в середине — неповторное амфибрахическое слово «водилась»; справа и слева от него по сочетанию анапеста с хореем, дающим фигуру столка; правая и левая половина хода симметричны друг другу: ааА|Аа||аАа||ааА|Аа: «в старину |свадьба || водилась || не в сравненье с нашей» (ВНИК); или: «де́тям | на́ смех | танцу́ет | но́чью на улице» (МН); целое звучит, как пентаметр; вот опять ход, подобный пентаметру: «возле коровы лежал гуляка парубок»; в центре — неповторный ямб («лежа́л»): справа и слева по амфибрахию («коро́вы», «гуля́ка»); перед и после амфибрахиев слова, начинающиеся с ударения («во́зле», «па́рубок»); симметрии прозы Гоголя рисуют лестницу восходящих сложностей; вот фраза, состоящая из трех отрезков; каждый имеет свою симметрию; в первом пара отставов, соединенная
222
столком («си́ний| жупа́н, || яркий цветно́й»); во втором — чередование столков с отставами («по́яс,|при боку́ || са́бля | и люлька»); в третьем столк слова с ударением в начале, образующий четырехстопный пеон первый (Аааа): «С ме́дною цепо́чкою по са́мые пяты́»; все — сложная симметрия (сложение симметрии): «Синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля, с медною цепочкою по самые пяты» (ПГ); сложение ходов уже — рудимент мелодии, не адекватный с размером; или: чередование пеонов третьих (ааАа) с одноударными словами: ааАа|Аа|ааАа|А|ааАа: «Написавшись |всласть|, он ложился | спать, | улыбаясь» (Н).
Я привожу элементарные ходы, чтобы намекнуть на то, как из сложения их складывается тема мелодии; темой, данной в вариациях, является, например, фраза из «СМ»: «Пошли, пошли, и зашумели, как волны в непогоду, толки и речи между народом». Можно привести эту фразу к фигуре симметрии; ухо же тут отмечает смутную мелодию, не сводимую ни к какому размеру; и тем не менее, как-то организованную.
Читатель спросит меня: не существуют ли напевные фигуры в каждом прозаическом произведении? В том-то и дело: разбирая словесные комплексы одних авторов, видишь: ха́ос стоп, притягиваемых с натяжкой подчас и к размерам; а они — не звучат напевно (размер не есть ритм прозы); в других встречаешь организацию фигур в более сложные фигуры; читая речь Тараса к казакам в «ТБ», я когда-то полагал, что в ней имеет место дактило-хореический ход, что она — подобна гексаметру; статистика слов не подтвердила догадки; слова отрывка 8-й главы «ТБ» (от слов «Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды» до окончания главы) я подвел под статистику; вот цифры ее: односложных ударных слов — 32; хореев — 118; ямбов — 120 (ни хорей, ни ямб не преобладает); дактилей — 41; анапестов — 50 (ни дактиль, ни анапест не преобладает); амфибрахиев — 117; пеонических слов — 118; слов с ударением на второй половине (от двухсложных до девятисложных) — 269; слов с ударением на первой — 230; ударение падает на середину слова 157 раз.
Статистика эта мертва; она не подает типичной стопы; а слова в прозе и суть стопы; нельзя говорить, что речь Тараса написана киклическим размером (ни киклическим ямбом, ни киклическим хореем); встают гексаметрические строки; но они, как отдельные всплески, как гребни волн, тают в общей напевности; и тем не менее: хочется воскликнуть о ритмах речи Тараса, внимая ритмам: «Пошли, пошли, и зашумели, как волны в непогоду...»
Шумит вся речевая ткань Гоголя переложением и сочетанием столков, отставов, симметрии, градационных переносов ударений и т. д.; ритмику предстоит благодарная, хотя и трудная работа над прозой Гоголя; над всей массой текста поднимается глухонапевный шум; я так называю его: ритмы его полувнятны; они глухо волнуют, томя музыкой; Гоголь преодолевает грань прозы, которая в «Веч» и в «ТБ» — распевочный лад; страницами проза Гоголя — тонко организованная поэзия.
223
«СМ» вся — песня; напев на ударных местах поднимает гребень двустрочием, четырехстрочием:
«Табунов ни у кого таких не́ было,
«Как у Петро;
«Овец и баранов нигде столько не́ было.
«И умер Петро» (СМ).
Гоголь любил, изучал, знал украинские думки; страницами проза «Веч» — переиначивает народные лады; она прострочена звуком заплачек и присказок-двустрочий, то рифмованных, то являющих словесный повтор; характеристика колдуна из «СМ», построенная на «не» и «ни», ведет происхождение от народной песни, в которой ход на «не» широко использован: «Не белы снеги», «Не осенний мелкий дождичек» и т. д.
Вот строки, вынутые из текста:
Руби, казак! | Коли, казак! |
Это же шестистрочная строфа с повторами, заменяющими рифму с внутренними рифмами; третья и шестая строки — контрастируют ямбу, выявляя киклический хорей; в целом шестистрочие — являет ход, выше охарактеризованный как симметрия (повтор фигуры контраста). аА|аА|аА|аА||А|ааАа|Аа|||аА|аА|аА|аА|аА||А|ааА|аА.
Разве не песня приводимые строки из «СМ».
Нет, Катерина, | Им верно |
Часто гребнями на волне напева всплескиваются двустрочия.
«Конь полетел | «Так уж если так, |
Или: «Погубили батько родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу свою» (МН).
Или:
«Наступает отец — подается пан:
Наступает пан — подается отец».
Здесь напевность подчеркнута повторами: одни расположены на́крест (отец-пан — пан-отец); другие — чередование (наступает, подается,
224
наступает, подается) пеона третьего (ааАа); «Гегеге! Да как горит... Гегеге! Да как звенит» (ВНИК); «хороша была молодая жена... Бела была молодая жена» (МН).
Внутренняя рифма заостряет напевность; внутренней рифмой полна проза Гоголя; действует напевно фраза: «И стал казак — старик» (СМ); она действует, во-первых, потому, что она — ямб (аА|аА|аА); во-вторых: она действует потому, что в ней слово «старик» рифмует, чего многие не замечают: «Изо рта выбежал клык... И стал казак — старик» (СМ).
Примеры внутренних рифм, полурифм и конечных созвучий: «Недобрый глаз поглядел на нас» (ВНИК); «ей, отдеру... на... бока́! Не доведут бабы до добра́» (ТБ); «губы... алеют... брови темнеют» (СМ); рифмуют рядом стоящие слова: «здорово, небого» (ОТ), «рюши да трюши» (МД), «конь, как огонь» (ПГ) «котлеты-суплеты» (МД), «пусть их живут, как венки вьют», «сударь ты мой, никто иной» (МД), «с чепраком... с золотым шитьем» (ОТ), рифмуют целые фразы, образуя двухстрочия, трехстрочия, четырехстрочия, восьмистрочия. Двухстрочия: «Нужно вам знать, что память у меня — невозможно сказать» (Шп); «деревья темнее, тень от деревьев чернее» (ОТ); «в кандалы забить, оковать и препроводить» (ОТ); «несколько рябоват... несколько подслеповат» (Ш); «а деньги в кулаке, а кулак-то весь в огне» (Рев); «чрезвычайное происшествие!.. Неожиданное известие!» (Рев); «гости-то несчитанные, кафтаны общипанные» (Ж); «по жиле прохватила — как иглой шило» (Ж), «эдакие канальчонки... протянувши ручонки» (Ж); «прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас» (П); «в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя» (П); «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака» (МД); «все мужики были рыбаки» (МД); «нарядятся в армяки и будут мужики» (МД); «кулич и халат взял, а дочери ничего не дал» (МД); «с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами» (МД); «и вновь леса, уже синевшие... и вновь пески, еще бледней, но все желтевшие» (МД, 2).
Иногда рифмы столпляются в группы: «разворачивалось... блестело, звенело... и заворачивалось» (П); «музыка... замирала, и... визжала, и гремела... она села» (НП); «гляди налет на свой полет... шапка в рубль, а щи без круп» (Ж); «как взглянула направо и налево, как мелькнула... бровями и глазами» (ЗС); «галстук, возбуждающий удивление... усы, повергающие в изумление» (НП). Разве не восьмистишие параллелизм в «Носе»:
«И майор Ковалев с тех пор прогуливался,
Как ни в чем не бывало,
И на Невском проспекте, и в театре,
И везде...
И нос тоже,
Как ни в чем не бывало,
Сидел
На его лице» (Н).
225
Особая группа созвучий образует нечто среднее между аллитерациями и рифмами; созвучия эти подчеркивают напевность: «заглохший пруд, заросший ров» (-охший-осший, ло-ро-ро) (СП); «бога бойтесь, бросьте просьбу» (бо-бой-бро-про, -осьте-осьбу) (СП); «на-варивалось, нас-оливалось, нас-ушивалось» (СП); «бледная Нева и бедные рыбаки в рубашках»: блед-нев-бедн-рыба-руба (НП) и т. д.
У Гоголя всюду проходит прием, тоже музыкальный; я бы назвал его ферматой; его суть в за́держи внимания, в сознательном отяжелении речи вставочными словами между, напр., подлежащим и сказуемым; вместо «зеленые луга» — зеленые вдали луга»; существительное «луга́», задержанное вставочным «вдали», звучит с большим весом; или же: прием осуществлен перевертом слов, нарушающим прозаическую расстановку; он придает прозе песенный лад; можно его назвать ударной ферматой 1) на существительном, 2) на прилагательном, 3) на глаголе, 4) на местоимении; на существительном: «необыкновенного огня глаза» (П), вместо «глаза необыкновенного огня»; переверт в том, что слово «глаза», сохраняемое для конца фразы, ожидается с напряжением; «необыкновенного огня», — что? И — ударная фермата: «глаза»! (А! Вот оно что!) Всюду у Гоголя фермата на существительном; вместо «вдоволь скакунов конного войска» — «вдоволь конного войска скакунов» (Р); или «обычные в трактирах блюда» (МД); «рассматривать бывшие перед ним виды» (МД); «поддерживал под ножку ножку» (МД); и перед «ножку», и после — глубокая пауза; и потому на слове «ножка» усилен интонационный акцент.
Фермата на глаголе: «он тебя погубить хочет» (ОТ); «час шестой был»; «у соседей расспросить» (МД); «жизнь его на мгновение озарилась» (МД) и т. д.; акцент на местоимение особенно част в первой фазе творчества Гоголя; но част и в бытовых повестях. Примеры: «объявила войну царю нашему» (ОТ); «ворон не найдет места вашего» (ОТ); «полдень был запечатлен в них» (П); «размолоть в муку носы наши» (ЗС); «оставляют на нем следы свои» (НП) и т. д.; акцент на прилагательных и наречиях: «накрамсывая хлеба безжалостно» (МД); «насаривая... золы бессовестно» (МД); «в небесах высоких» (МД); «почувствовал отвращение нечеловеческое» (МД) и т. д.
Акцентуация на конце — лишь вид отстава; действительней отстав, когда между друг за другом следующими словами вставлены посторонние для этого места слова; тут нарушен обычный состав фразы; примеры: «блестели золотые вдали главы» (вм. «вдали блестели» и т. д.) (В); «темная у меня будет хата» (вм. «у меня будет темная хата») (ВНИК); «наимилейшая мне дочь» (В); «чудный мне сон снился» (СМ); «лежащая на распластанном на полу ковре» (ОТ); «весь совершенно рынок» (К); «глянет очами в очи» (Р); иногда вклинены два слова: «все, старый собака, знает» (ТБ); «живое в детской юности лицо» (НПР); «цветистый по красному полю платок» (СЯ); «погубившие свою душу девы» (СМ); «чудная в огороде у нас выросла репа» (Шп); «из-за перекинутого через плечо плаща» (Р);
226
«среди широкой, как поле, улицы» (МД); «прислоненный боком к стене шкаф» (МД); вклинены три слова: «садись, где кому нужно, за стол» (ТБ); «алая, как надречная калина, кровь» (ТБ); «в синей, местами уже с заплатами, свитке» (СЯ); «своею... почти плывущею в воздухе верхушкою» (Р); волосы «в тысяче разных образов поднятые на голову» (Р) и т. д. Вклинено более трех слов: «в белых, как убранный ландышами луг, рубашках» (МН); «твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине от моря и до моря песия» (МД); «наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем представитель» (МД) и т. д.
Отстав — прием напевности, которая — выражение содержания имеющего и логику, и грамматику; прием совпадает с особым синтаксическим строением; его силится отгадать профессор Мандельштам, как прием усиления постановкою сказуемого перед подлежащим, дополняемого перед дополнением, определяемого перед определением в тех случаях, когда обычная «речь ставит их в ином порядке» (стр. 150); формула Мандельштама не исчерпывает фигуры отстава; пример: «час шестой был»; здесь сказуемое вопреки Мандельштаму поставлено после подлежащего; смысл не в синтаксисе, а в ритме.
Отстав дает речи медленность темпа; он рельефит эпический лад; и уместен там, где всплывает история; и потому-то фигура эта часта и в «ТБ», и в «СМ»; она контрастирует там с лирическим всплеском заплачек и лирико-драматических диалогов, нервная напевность которых осуществлена и фигурой повтора, играющей роль то рефрена, то вариаций темы; повтор Гоголя часто — контрапунктическая фигура: музыкальный прием, а не только средство изобразительности; повтор неотделим от ритмического хода, как в примере: «наступает отец — подается пан; наступает пан — подается отец» (СМ): четыре пеона третьего (ааАа) чередуются с крест-на-крест расположенными ямбами и одноударными:
ааАа| (аА || ааАа| А
ааАа |А || ааАа| аА
Примером сочетания ритмов с повторами приведу лирический речитатив из «МН», сжимающий в целое ряд приемов ритмической прозы Гоголя; напеву подчинены — образы, краски, синтаксис, даже... сюжет; тенденция первой фазы — ритм.
Вот отрывок: «Парубок, я награжу тебя. Я тебя богато награжу... Я подарю тебе пояс... Парубок, найди мне мою мачеху... Она мучила меня... Посмотри на лицо: она вывела румянец... Погляди на белую шею мою: они не смываются, они не смываются, они никогда не смоются, эти синие пятна от железных когтей... Погляди на белые ноги мои: они — много ходили, не по коврам, — по песку, по земле, по колючему терновнику! А на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез; найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!» (МН).
227
Анализ ритма отрывка занял бы главку; после Гоголя ни русская, ни мировая проза долго не знала таких звуков; они вырвались позднее... из прозы Ницше; лишь лозунги к звукам выбросили... символисты; Гоголь же на деле за несколько десятилетий осуществил их; приведенный отрывок скликается с речитативами бледных «готических» дев Метерлинка и Клоделя; но он звучнее; напев прозы «Веч» упреждает во многом напев 15 песенок Метерлинка.
Гоголь |
| Метерлинк |
«Они не смываются, они не смываются, они никогда не смоются, эти синие пятна от железных когтей» (МН). | «Il faut attendre; il faut attendre, il faut attendre d’autres jours». (15 песенок). | |
«Есть меж горами провал; в провале дна никто не видал» (СМ). | «A la première porte... A la seconde porte... A la troisième porte — la flamme est morte». (15 песенок.) |
Только у Фридриха Ницше ритм прозы звучит с гоголевскою силой: «Einén góldenen Káhn sáb ich blinken... eínen sínkenden, trínkenden, wíeder wínkenden góldenen Schaukel-Kahn» (ínken-ínkenden-ínkenden, wíeder wínkenden) и т. д. Ритм усилен составом звуков, но... как у Гоголя, который до Ницше, — гремит, шепчет и заливается звуками: в первой творческой фазе; даже в заимствовании ритмов из думок — сказалась дерзкая оригинальность молодого Гоголя: вобрать повесть в форму песни в период, когда это казалось уже невозможным и когда вся повествовательная литература рвалась прочь от песни, чтоб стать «только литературой». Эту тенденцию возглавляли с успехом, с блеском и Пушкин-прозаик, и Лермонтов; вопреки им Гоголь подчеркивает — лад, ритм, музыку; и остается непонятым, осуществляя на деле поздний лозунг Верлэна: «Прежде всего музыка, а все прочее — литература» (т. е. условность). Гоголь за полстолетия до Верлэна предугадал: литература, начавшись с песни, ею и кончится: будущее трудовой, хоровой, коллективно распеваемой прозо-поэзии по-новому возвратит трудовую, хоровую, коллективно петую прозо-поэзию пра-пра-прадедов.
Гоголь наперекор веку внял этому; он сломал в прозе «прозу»; а Маяковский в XX веке сорвал с русского стиха «академический стих», превратив «поэзию» в кавычках в «прозо-поэзию», как Гоголь до него превратил прозу в «поэзию-прозу».
ЗВУКОПИСЬ ГОГОЛЯ
Гоголь пишет о воде: ее пыль сыплется, «как из огнива огонь» (СМ); напев прозы Гоголя; как сияние месяца, струится в многообразиях словесных вариаций; ритм между паузами, напрягающими потенциал ударами по звукам высекает, «как из огнива огонь». Изумительна звукопись Гоголя!
Отсвет — отражение света; звуки Гоголя подчинены явлениям,
228
подобным отражению; незвучное «горшок», отражая звук «гор», звучит — в аллитерации: «гор-ы гор-шков» (СЯ): действия на ухо звуковых симметрий не объяснимы при помощи отвлеченной логики, как и многое в физиологии; на этом действии вырастает потребность в рифме; звукопись Гоголя — ткань из рифм и полурифм; рифма связана с ритмом; в ней количество (удара и паузы) окрашено качеством; любое незвучное слово, напр.: «ночи», вывернутое наизнанку («ичон») и соединенное со своим двойником («ночичо́н») дает звукопись: «ночичо́н-ичоно́чи»; перелагайте и сочетайте слоги звукописи, — вы получите звучную заумь; то же слово «Борис» («Сироббори́с») — в модуляциях своей слоговой жизни — разблещивается.
В чем тайна звучности? В преломлении звука.
В факте действия звуковых отражений на ухо и коренится потребность к звукописи.
Гоголь мастер отражать звуки слова в словесной группе; основной звук, на который падает голосовой удар, вследствие закона отражения, начинает фосфоресцировать, как месячное серебро, на гребне ритма; слово «курухтан» от присоединенного эпитета «краснозобый» (крзс-крх) дает звуковой про́сверк; речевая ткань Гоголя — слияние ассонансов, аллитераций, градация переливающихся друг в друга звуковых групп; в основу положен повтор, связывающий напев с изобразительностью, ибо звуковой повтор ведет к повтору слов, или группы их; а фигура повтора, как ниже увидим, лежит в основе других фигур Гоголя.
В звукописи Гоголя — переход от музыкальной жестикуляции к художественной изобразительности; ее обойти нельзя; иначе многого не поймешь (в красках, в сюжете), как не понять оперности поз; без музыки они условны; с ней — реальны.
Звукопись не исследована; лучшие экскурсы в сферу ее принадлежат Осипу Брику и Якубинскому; оба работали, так сказать, на опушке непроходимого леса, куда не ступала еще исследовательская нога; поэтому и мне придется быть кратким: не платформировать, а констатировать, не устанавливать законов звукописи, а приводить факты; обилие их — для того, чтобы отпало возражение: «Собираете какие-то редкости, не типичные вовсе для Гоголя».
Нет, дорогие читатели, собираю лишь то, что сопровождает текст Гоголя — от первой и до последней страницы.
Текст Гоголя пестрит повторами гласного звука и группы гласных на ударных слогах: «горы горшков» (о-о-о) (СЯ), «пра́здничные пла́хты» (и-и) (ПГ), «ли́стья люби́стка» (и-и) (Пред. I), «бранью и ра́ками» (и-и) (СЯ), «подпускали турусы» (у-у-у) (НПР), «шуми́т греми́т конец Киева» (и-и-и) (СМ), све́тло, сне́г бле́щет при ме́сяце» (е-е-е-е-е-е) (НПР), «мра́к ... и мра́чные образа́» (а-а-а) (СМ), «хри́пло всхли́пывали» (и-и) (В), «ра́дуга кра́дется», (а-а) (СП); на лбу гугля» (СП); в последнем примере переверт звуков: ау-уя; «дере́вья оде́лись ре́дкими листьями» (е-е-е) (Шп), «покупа́тели... грязных ма́сленых малева́ний» (а-я-а-а) (П), «ба́бы... подобра́вши пла́тья, влача́...»
229
(а-а-а-а) (МД) и т. д.; многие сотни ассонансов вкраплены в текст; часто имеет место комплекс их: «моя̀ молода́я жена́, моя̀ золота́я» (СМ); о слова «моя» произносится близко к а; имеем: а́я-а́я-а́-а́я-а́я (симметрия); «ца́пнет... цара́пнет са́блей (а-е-а-а-е-а-е) (ТБ); «будет, будет... с седо́ю по грудь бородо́ю» (у-у-о-у-о) (СМ); «це́лая ла́вка ле́нт» (е́-а-я-а́-а-е́) (НПР); «по середине церкви» (е-е-и-е-е-и) (В), «пузатый Пацюк» (у-а-а-ю) (НПР) и т. д.
Ассонанс, сопровождаемый аллитерацией, образует внутреннюю рифму; рифмует — часть слога, слог, несколько слогов: «гор-ы гор-шков» (СЯ), «по сер-едине цер-кви» (сер-цер) (В), «л-исть-я люб-ист-ка» (Пред. I), «мол-одецкая мол-вь» (ПГ), «пере-ссорившиеся пере-купки пере-кидывались б-ра-нью и ра-ками» (пере-пере-пере-ра-ра) (СЯ), «бре-зжит... бре-нчит» (Пред. I); иногда повтор согласной в обстании гласных рождает звуковую мелодию; «П-ри-ехал... б-ра-т... Б-уру-льбаш... с дру-гого б-ере-га Днеп-ра, где п-ро-меж... г-ора-ми... был... хутор» (СМ): ри-ра́-уру-ру-е́ре-ра-ро-ора́-ор; плавное «ер», обросшее гласными, в прозе Гоголя наиболее часто повторяемая мелодия: «Ст-ро́-или... к-ре́-пость... п-ере-ре́-зать д-оро́-гу зап-оро́-жцам»: ро-ре-ерере-оро-оро (СМ); иди: «г-ру-зно... ук-ры-т... к-ре-пкими... в-ерё-вками в пог-ре-бах»: ру-ры-ре-ерё-ре (ТБ); «уп-ра-жнялся в занятиях, с-ро-дных к-ро-ткой и доб-рой душе»: ра-ро-ро-ро (Шп); «ст-рой-ными ря-дами т-ра-вы»: рой-ря-ра (Шп); «ра-зносились с ру-жьем, как д-уре-нь с т-ор-бою»: ра-ру-уре-ор (ОТ); «п-ро-ходя в ды-ру... п-ри-нял ра-дужный цвет, уда-ря-ясь в п-ро-тивостоящую стену»: ро-ру-ри-ра-ря-ро (ОТ); «куч-ера в с-еры-х чекменях и с-еря-ках»: ера-еры-еря (ОТ); «щекотать б-ри-твой... под б-оро-дою... не спод-ру-чно и т-ру-дно б-ри-ть без п-ри-д-ер-жи:» ри-оро-ру ру-ри-ри (Н); «вд-ру-г уп-ер-ся в ра-мку... ру-ками, ... при-поднялся на ру-ках и ... вып-ры-гнул ... из-ра-м»: ру-ер-ра-ру-ри-ру-ры-ра (П) и т. д.
«Ер» рокочет из звуковой ткани Гоголя; он — аллитерационный костяк группы согласных; он смягчается в «ель»; «-ерный» рокот всюду у Гоголя переливается в «ельный» лепет; к р или к л прирастают губные, зубные, гортанные; употребительнейшие аллитерации Гоголя: 1) тр-др (с соответственными смягчениями для д: зж); 2) кр-гр-хр (со смягчениями); 3) пр-бр (со смягчениями: пл-бл-вл). Плавное «ер» с гортанными: «гар-монические гр-ёзы» (СП), «гр-уда гр-язи» (ТБ), «гор-ы гор-шков» (СЯ); «гр-об гр-янулся» (В), «гор-шок гор-ячих гал-ушек» (В), «гр-узно... в по-гр-ебах» (ТБ), «поверг-нул до-рог-ого серебра, чтобы по гор-одам» (ТБ) (рг-рог-гор), «кре-пкими гре-ками» (МД); «кре-п-к-ая, как южная кра-савица... гря-нула ко-пытами в д-ере-вянное крыль-цо»; скопление плавных с группой гортанных (К): «кра-сное кор-алловое монисто» (МН), «в кар-манах кро-ме кре-пких кор-ешков» (кар-кро-кре-кор) (В), «кр-епкими ве-рев-к-ами» (ТБ), «рук-ав кар-мазинного жупана» (СМ) и т. д.; у Гоголя часто к смягчается в ч, а г — в з или в ж; «чер-енок с чер-вонцами» (ТБ), «чер-еши... о-чкур-ов» (ТБ), «кр-епким, как у чере-пахи чер-еп» (П), «ку-чер-а в с-ерых чек-менях и с-еряках» (кчр-рх-чк-х-ркх)
230
(ОТ), «судо-рож-но... п-ожр-ать» (рож-ожр) (П), «озари-лась розо-вым» (озар-роза; зр-рз; оз-оз) (СМ), «пере-рез-ать до-рог-у запо-рож-цам» (рз-рг-рж) (СМ) и т. д.
Всюду сращено «ер» с губным звуком: «о-бр-ывистый бер-ег о-бр-ос бурь-яном» (бр-бр-бр-бр) (ТБ), «бр-езжит огонек..., бре-нчит балалай-ка» (бр-бр-блл) (Пред. I), «бр-ат Бур-ульбашь... с бер-ега» (бр-бр-бр) (СМ), «бр-еет бор-оду» (ОТ), «щекотать бр-итвой под бор-одою» (бр-бр) (Н), «бре-вно... бре-ли... влача... бре-день» (МД), «бри-чка бли-зилась» (МД); чаще всюду «пр» в разбивку с «бр», смягчающим «р» в «л»: «пра-здничные пла-хты» (ПГ), «пере-ссорившиеся пере-кидывались бра-нью» (СЯ), «по красному пол-ю пла-ток» (пл-пл) (СЯ), «бл-ещет при» (бл-пр) (НПР), «Го-робе-ц пр-азднует» (рб-пр) (СМ), «при-ехал бра-т... Бурульб-аш... с бер-ега Дне-пра, где про-меж...» и т. д. (СМ), «до-про-сить пор-ядком» (СМ), «до-бро-го вина... в по-г-ребах» (ТБ), «приро-дная до-бро-та» (ОТ), «про-ходя... пр-инял... цвет, ударяясь в пр-отивоположную» и т. д. (ОТ), «Бо-га бой-тесь! Бро-сьте про-сьбу» (бо-бой-бро-про) (ОТ), «пере-дняя поло-вина... в при-сутствии» (ОТ), «бри́-тъ без при́-держи» (Н), «пр-иподнялся... и вы-пр-ыгнул» (П), «по-пр-авлял бес-пр-естанно пр-отив зеркала...» (П), «пла-менный пол-день был», «пр-еле-стнейшим обр-азом в бело-м с-паль-ном пла-тье» (прл-бр-бл-пл-пл) (К), «боль-но бь-ется про-клятая пал-ка» (ЗС), «белые волоса и голова гладкая, как серебряное блюдо» (бл-вл-лв-л-бр-бл) (НП), «са-бл-я ис-пол-ненного... пр-а-порщика, пр-оводящая... ца-рап-ину» (НП), «ба-кен-бар-ды бар-хатные» (ба-бар-бар) (НП), «бабы... подобравши платье..., влача... бредень, где... были... и блестела попавшаяся плотва; бабы были...» и т. д. (ббпбрплвлбрблблппвплвбббл): фраза построена на сочетании губных с плавными (МД), «пр-инесли пери-ну... и пр-остыню» (пр-пер-пр) (МД), «пр-отащили пер-ину» (пр-пер) (МД) и т. д.
Сочетание плавного «ер» с зубными (тр-др-рт-рд): р смягчается в л; д — в ж и в з: «уп-раж-нялся в за-нятиях, с-род-ных к-рот-кой и добр-ой ду-ше» (рж-з-рд-рт-др-д) (Шп), «дер-евья о-дел-ись ред-кими л-истьями» (Шп), «зе-мля зазеле-не-ла све-жею зеле-нью» (зе-ля-за-зе-ле-ла-же-зе-ле) (Шп), «раз-ного рода тра-в: пе-тро-вых ба-то-гов» (Шп), «с-тр-ойными ряд-ами тр-ав» (Шп), «тр-еск, крик и в-др-уг с-тр-ойный хор» (Шп), «рад-уга к-рад-ется» (СП), «стар-ые древес-ные стволы... за-к-рыты разрос-шимся ку-стар-ником»; здесь «тр-др» дано в сочетаниях с с и с в: стр-дрвс-ствл-з-рт-р рс-стр (СП), «при-род-ная добр-ота» (ОТ); «стар-уха... к-ря-х-тя и таща... стар-инное. се-дл-о с... стре-менами, с и-стер-тыми чехлами»: опять плавно-зубная группа аллитерирует со звуком «ссс»: стр-рт-тщ-стр-длс-стр-с-стрт (ОТ), «проходя в дыру..., принял радуж-ный цвет, удар-яясь» и т. д. (д-ру-радуж-удар) (ОТ), «раз-носились с руж-ьем, как дур-ень с тор-бою» (ОТ), «бо-дро-сть, и он с неко-торо-го род-а ро-бостью», (ОТ), «дре-бе-зжа-нье дрож-ек из-в-озч-ика» (П), «до-воль-но г-орд-ые взг-л-яды на др-угих» (до-оль-орд-лд-др) (П), «ко-тор-ые ка-рт-инно... со... с-тор-он» (тор-рт-тор)
231
(МД), «старо-го... вина, ко-торо-е... у Тарас-а п-ро запас» (старо-торо-Тарас-ро-запас) (ТБ) и т. д.
Плавно-губная, плавно-зубная и плавно-гортанная группы преобладают в прозе Гоголя: кр-гр-пр-бр-тр-др; они рождены рокочущим, как гром, звуком «ррр»; р смягчается в л; д и г в ж — и в з; к — в ч (реже в ц); эти группы сращиваются часто с аллитерациями на в и на с; мало аллитераций на м, н, в в комбинации с л («лмн»); слова: «лимон», «малина», «напоминают», «волна», «воля» не сцепляются вместе; редки нежные, мандолинные звуки, подобные пушкинским «напоминают мне они»; редко пьяниссимо гитары вроде «воль-но и плавно» (СМ); чаще грох барабанов и скрежет трущихся сабельных клинков: «сабли страшно звук-н-ули: железо рубило железо», «цапнет пулей, царапнет саблей» (цац-царап-са), «старого доброго вина, которое... у Тараса про запас... на торжественный случай» (ТБ); железна звукопись Гоголя: «гроб грянулся по середине церкви»: гр-гр-сер-цер (В).
Группа согласных дана либо повтором группы («гр-уда гр-язи»); или повторная гласная разделяет согласные: «мол-одецкая мол-вь»; или же гласные меняются: «по полю платок» (пол-пл), «дре-безжанье дро-жек»; или дается переложение звуков группы: «с ру-жьем, как д-ур-ень» (ру-ур), «воло-са и го-лова» (воло-лова), «сабля пра-пор-щика, про-водящая ца-рап-ину» (пра-рап, пор-про); част случай звукового переверта: кр-рк, гр-рг: «пол-овина Ивана Ни-кифор-ови-ча»: овина-ивана-ни-ови (ОТ), «тьма дам» (ма-ам) (Н), «яркос-тью красок»: яркос-красок (П), «вдруг уперся в рамку... руками..., на руках выпрыгнул»: уг-ку-ук (П), «рукав кармазинного жупана» (рк-кр) (СМ), «хрипло всхлипывали» (ипл-лип) (В) и т. д.
Аллитерации и ассонансы схватываются в орнамент звуков: «плав-но с-лов-но павы» (ВНИК): 1) плав-пав, 2) лав-лов, 3) но-но, 4) лавно-ловно; «ц-елая ла-вка ле-нт» (НПР): 1) ла-ла-ле, 2) ел-ле; «свитки, от которой вспыхнул»: 1) св-вс, 2) кт-ткт, 3) от-ото; «череши у штанных очкуров набивают чистыми цехинами» (ТБ): чрш-шх-чр-чст-цх; «светло снег блещет при месяце» (НПР): 1) е-е-е-е-е-е, 2) све-сне, 3) ещт-есц; «пуза-тый Пацю-к» (НПР): пуза-пацю (переверт сходственных гласных), как и «го-лубо-го полу-табенеку» (СМ) (лу-бо-по-лу) — переверт слогов; «снег свистел под тысячью саней» (НПР): 1) сн-св-с-сн, 2) ист-тыс; «чудится... Даниле, что в светлице блестит месяц» (СМ): 1) иле-ли-ле, 2) дится-свет-ице-естит-есяц; «она здесь... гр-еется на м-есяце» (здесь-еется-есяце (МН); «как клокотанье кипящей смолы» (В): 1) кк-к-к-к, 2) ло-ол; «круглые куполы» (В): 1) кру́-ку́, 2) -у́глые-у́полы; «ни́ва с вы́зревшим жи́том» (В): 1) и́-и́-и́, 2) ив-выз-жи; «мрак... и мрачные образа глядели угрюмей из резных рам» (В): мра-мра-браз-рм-ей-из-рез-рам; «све-тит се-мью цве-тами» (СП): све-се-цве; «множество узелков... клубков... укладены по углам» (СП): у-лков-убков-укла-угла; «юбка покой-ной бабушки» (ОТ): 1) бк-пк-б-к, 2) юб-бу, 3) бка-пкой-б-ки; «среди хаоса колес и козел»: сплошная аллитерация (ОТ); «креп-кими, как у череп-ахи череп» (П): 1) кре-че-че, 2) еп-еп-еп; «где
232
возьму кистей и красок, чтоб изобразить разнообразие» (ОТ): 1) ис-ас-из-ази-аз-ази, 2) рас-раз-раз-раз (ОТ); «синеватое сияние месяца становилось сильнее» (П): 1) си-си-си, 2) сине-си-ние-нее, 3) с-с-ц-ст-с-с, 4) -илось-ильнее; «пламенный полдень был запечатлен в них» (П): 1) пл-пл-бл-п-л, 2) пла-пол-пеле, 3) плдн-птлн; часто звуковой перелив выходит из берегов фразы, разливаясь по ряду фраз; эффект звукописи тогда подобен игре цветного сверка на гранях бриллианта: «плетень между домами... весь усеян висевшими на солнце солдатскими фуражками; серая шинель... непременно где-нибудь на воротах; в переулках... солдатские... с жесткими усами, как сапожные щетки. Усы... во всех местах» и т. д. (К); весь отрывок покрыт звуковыми рефлексами; обилие е: «плете́нь... ве́сь усе́ян висе́вшими... се́рая шине́ль непреме́нно где́-нибудь... во все́х» и т. д.; кроме того: 1) весь-се-висе-со-все-ес, 2) сол-сол-сол (солнце, солдатскими, солдаты), 3) пл-пр-вр-пр-бр, 4) жо-ож-що; или: «в одном углу штаб-ротмистр, подложивший... под бок подушку; с трубкою в зубах рассказывал довольно свободно и плавно любовные... приключения и овладел» и т. д. (К); вся фраза переклик слогов на губные звуки д и к с плавной л и с гласной о: од-аб-подл-под-бок-под-бко-ба-бо; дло-довол-вобод-овлад-обрав-около; «...место не доставят... верного известия, как Невский» (НП): 1) ме-не-ве-ве-нев, 2) ст-ст-ст.
Вся речь Тараса и связанная с нею 8-я глава «ТБ» — симфония, писанная для оркестра: «И повелел Тарас распаковывать» (рас-рас); далее: «сво-им с-лугам один из воз-ов, с-то-яв-ших осо-бняком»: 1) сво-зво, 2) сво-с-зво, 3) озо-осо; далее: «Больше и крепче всех других был он в казацком обозе, двойною, крепкою шиною были обтянуты дебёлые колеса его; грузно он был навьючен, укрыт попонами, крепкими, воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были все баклаги и боченки старого, доброго вина, которое долго лежало в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай» и т. д. (ТБ). Будем внимать звукописи: В обозе... двой-ною ши-ною об-тянуты дебёлые колёса...; ... попо-нами... воловь-ими кожа-ми... увяза-н за-см-оле-нными... В возу... бо-чен-ки... доб-рого» и т. д. 1) ною-ною (двой-ною ши-ною), 2) во-вой-во-вво (в обозе, двойною, воловьими, в возу), 3) во-бо-во-об-бе-по-по-во-во-бо-об, 4) оль-ёлые-олё-олё-оле (больше, дебёлые, колёса, воловьими, засмоленными), 5) гру-укр-кре-ревк-гре: «Грузно укр-ыт... кре-пкими... ве-ревк-ами в по-гре-бах»; тут же: «Старо-го добро-го вина, ко-торое... у Тараса... про запас... на торжественный случай»: 1) ра-ра-оро-ра, 2) тар-тор-тар-торж, 3) стара-тарас-роза-с; далее «услышав полковничьий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки» и т. д.: 1) пл-пр-бр-пл-прр-рп-р, 2) рере-ре-ре, 3) пер-реп; далее: то́лстые воло́вьи ко́жи и попо́ны» (о́-о́-о́-о́-о́-о́); слова Тараса к казакам — густые, грудные звуки с рыком и посвистом: «Камен-истых гор, обр-ывистых выс-ок-их» (и́стых-ывистых-вые-их); или: «мог-учее слово б-удучи подобно гудящей меди» (у́чее-у́дучи-удящей); здесь звуки «гу» и «уд-ду» скликаются с предыдущей
233
фразой: «б-уде-т, б-уде-т бан-дур-ист с... по грудь бородою..., вещий дух-ом... и скажет гу-стое мо-гу-чее слово»: группа звуков «уде-уде-дур-грудь-дух-гу-гу-чее» влита в группу звуков другой фразы: «у́чее-у́дучи-гу-дя́щей».
Я бы мог взять «СМ» или «ТБ» и разбирать звукопись страницу за страницей; полагаю: немногие примеры покажутся многими читателю, еще не вникшему в звукопись Гоголя, который — не только писатель, но и композитор мелодий, великолепно инструментирующий их; проглядев звуковое богатство прозы Гоголя, читатель много теряет; подстилая сюжеты и краски, звукопись придает прозе Гоголя ту упругую выпуклость, которой нет у Толстого, у Пушкина (не говоря о Тургеневе, Достоевском, Салтыкове, Гончарове, Лескове и прочих классиках). Суть звукописи коренится в глубочайшей связи метафоры, мысли с первичными феноменами слуха (физиологической акустикой); связь дана звуковою метафорой, которая по Вундту — первичный этап языка, или — начало речевого творчества; вот почему в «Веч», являющих первую фазу творчества, звуковые повторы особенно часты, особенно ярки; во второй и в третьей фазе ярче их повтор слов, связанный с повтором образов; в первой фазе образ еще — звукообраз; музыка слова ярче запечатлена в нем.
Самые имена и фамилии построены Гоголем по принципу звукового повтора; смешные звуки «чи-чи», «чик-чирик», «ик-ик» слагают Чичик-ов; Чичиков («ов» окончание) — «чичик»; глумливое «по-по-пу» — рождает: По-по-пуз («По-по», «пузо», «пуп»); отсюда: Голо-пуп-енко, Чухо-пуп-енко; или: Голо-пупенко, Голо-пуценко и т. д.; в свою очередь звук «пц-пс» (от «пес», «пса»?) рождают: Пацюк, Голо-пуцек; от «чуха», «чух», «чханье» — Чухо-пупенко, Довго-чхун, Перепер-чиха, «шеп-чиха»; «Перереп-енко», «Переперчиха (репа, перец). Бу-ру-льбаш, Бу-ль-ба; Ко-ку-бен-ко (ко-ку-ко), Ки-зя-ко-лупен-ко (ки-ко-ко), Ма-ко-го-нен-ко (ко-го-ко), француз Ку-ку́; Яв-ту́-х по прозванию Ков-ту́-н: прозвище связано с именем повтором ударных: ту́-ту́; нравится Гоголю звукосочетание Го-ро-бец: в нем соединены две наиболее частые группы аллитераций: «гр» (го-ро) и «рб» (роб); поэтому дважды повторяет его Гоголь, в первом случае отражая окончание «ец» в звуке «ес», во втором связывая «бе» с «бе» и р; получаются: ес-аул Гороб-ец из «СМ» и Ти-бер-ий Го-робе-ц из «В». Аллитерация «тр-др-рж», конечно, проходит в фамилиях: Ганна Пе-тры-щенко, Дер-гач-Дри-шпановский, К-руто-тр-ыщенко, го-род-овой Держ-имо-рд-а и т. д. А Т-япкин-Л-япкин? А знаменитая пара Доб-чи-нский, Боб-чи-нский, или — двуединство, различествующее лишь двумя буквами д и б, и неразличное во всем целом: «-обчинский».
Как пианист, способный извлекать глубокие звуки, порою шалит за роялем, завивая трели, подражающие пенью птиц, так порой Гоголь виртуозит звукоподражаниями; подражание звуку открываемой двери: «за-треща-ла»... и «перед-няя полов-ина Ивана Ники-форовича высадилась в прис-утствие»: трщ-прд-плв-фрвч-прс; здесь
234
и звуки двери (трщ-прд-прс), и трение одежд о дверь (плв-фрвч); вот удары конского копыта о деревянное крыльцо: «крепкая и дикая, как южная красавица... грянула копытами о деревянное крыльцо и вдруг остановилась»: кр-кр-дк-кк-кр-гр-кпт-др-крр-дрг (К) и т. д. Подчеркну: не в звукоподражании — суть звукописи; звукоподражание лишь шалость.
Звукопись, подобная Гоголю, поздней заявила о своих правах в прозе... Ницше: «Zu dir sprang ich: da floh-st du zu-rück von meinem Sprunge; und gegen mich zu ge-lte fliehende, fliegende Zunge» («Also sprach Zarathustra»): 1) zu-zu-zu-zu, 2) sprang-Sprunge, 3) floh-flieh-flie; 4) Spru ge-Zunge, 5) fliehende-fliegende.
В преувеличениях звукописи у русских поэтов и прозаиков уже XX века — преувеличение гоголевщины до... чортиков, как то имеет место в прозе Белого: «Все — деревянное, дря́нное, пересерелое и перепрелое: перераздряпано и расшарапано; серые смеси навесов всех колеров — перепелиных и пепельных — пялятся в пыли и валятся в плевелы, как перепоицы — сизые, сивые, вшивые, — валятся в дизентерии и тифы» («Маски»): 1) -янное-дря́нное, 2) пере-пере-пере-пере-пере, 3) релое-релое, 4) пели́ных, пепельных-пы́ли-плевелы, 5) пялятся-валятся, 6) си́зые-си́вые-вши́вые... в дизентери́и и ти́фы (и́-ы-и́-ы-и́-ы-ии-и́-и-и-и́-ы); наконец, — ассонанс на е в первой половине фразы: «пересерелое и перепрелое: (еееее-ееее)»; «перераздряпано и расшарапано» (а-я-а-а-а-а-а); и далее — опять е: «се́рые сме́си наве́сов все́х колеров — перепелиных и пепельных... пялятся... в плевелы, как перепоицы».
Звукопись — действие раздроба первичного корня ударами ритма; первичный корень — пантомимичен; в «ррр» — звучит мускульное напряжение самого языка; лингвисту Мюллеру слышится в корне «аррр» — выражение действия. Мы видели энергию гоголевского глагола; главная аллитерация Гоголя и есть повтор звука р, звука действия; и звук соответствует «глагольности» Гоголя.
Корни «арб», «бар» поданы индо-европейскими языками, как звуки преодоления препятствия, где р — энергия движения, а п, б — ее связующие оболочки; латинское «ла́бор» от «раб + бор»; от «раб» — раб-ота, раб, арб-айт (работа по-немецки); от «бор» — ла́-бор, борь-ба, хо-робр-ый (храбрый) и т. д. Группа на «бр», «рб» — одна из наиболее частых аллитераций Гоголя; ею залиты страницы «СМ» и «ТБ», живописующих борьбу запорожцев с татарами, ляхами и т. д.; «брат Бурульбаш с... берега Дне-пра», Тарас Бульба — это фигуры, живописующие «размет воли», или скованность ее («бор»-«раб» — «бр»-«рб); аллитерация и здесь непроизвольно ответствует сюжету.
Звукопись — доисторическая жестикуляция языка; в нее вписана печать в ней некогда жившего и не всегда угасшего смысла; в настоящем она — зародышевая стадия производственного процесса в искусстве слова, сливающая со звуком смысл; когда образ выделен, повтор словесного представления покрывает звуковой повтор, свою подпочву, произрастанием изобразительности, связуясь с фигурой
235
параллелизма, рождающей сравнение с вытекающими из него метафорами, метонимиями и синекдохами; повтор — вторичная аллитерация — теряет свою звуковую силу за счет роскоши образов, становясь первичной фигурой речи.
Разгляд повтора мною сознательно предварен разглядом звукописи, изнанки повтора — во второй фазе сюжетного становления; и он — лицо в первой фазе, предопределяющее становление повторов и параллелизмов.
ФИГУРА ПОВТОРА
В народном эпосе сложный эпитет, переходя в повтор, становится спутником слова, к которому он отнесен: «олень — золотые рога»; повтор слова, группы, предложений — прием былин; из древнего эпоса повтор перенесен в формы личной поэзии; памятен рефрен Одиссеи: «э́мос д’э́ригене́йа фанэ́ родода́ктилос э́ос» (когда же явилась розовоперстая заря); эпы сильны звуком: в примере: 1) э́-э́-ей-э́ (ассонанс ударных), 2) ос-ос-ос (э́м-ос, э́-ос, родода́к-тил-ос), 3) эпитет «ро-до-да-ктилос» — звукопись; потребность к повтору определяется звуком; звукопись — в подче́рке: рифмою ритма.
«Литературная» проза Пушкина не знает повтора; повтор у Гоголя — спутник прозы; Гоголь первого периода насыщен звуками думок; в «ТБ» — перенос фраз из былин; в присказках (по типу народных) Гоголь для звука жертвует смыслом.
Романтика и натурализм прозы Гоголя даны в русле общих приемов эпоса, техникой которого он овладел; параллелизм, растущий из повтора, — соль, насытившая раствор прозы; переходя к быту, Гоголь на него перенес приемы усвоенных думок и былин; там эти приемы «всерьез» (всерьез — повтор, гипербола, наращенье, рефрен, сравнение и т. д.); применяя формы, созданные для живописанья событий важных, к темам жизненной пошлости, Гоголь по Переверзеву создает эффект сознательного несоответствия формы с содержанием, как... новую, оригинальную форму; так открытие ноля и операции с отрицательными величинами индусских алгебраистов создали некогда новую эру для математики; Гоголь открывает новую эру приемом несоответствия, заставляя греметь и сверкать звуками... нос майора Ковалева, раздутый в гиперболу: «все, что ни есть, сидело на своем месте» (Н); «все, что ни есть на свете» — рефрен Гоголя (в стиле припева).
Эпический повтор, взятый тезою в первой фазе, становится антитезою во второй; по применение тезы, как антитезы, перелицовывает заново русскую прозу1.
Из переноса народных приемов вытекает задача перелицовки их: Гоголь в прозе омолодил «ветхий денми» повтор Гомера (как поздней Маяковский омолодил риторический троп, выветренный у Гоголя); повтор повтору рознь: повтор слова, группы слов, порядка их повторного появления, — в пределах предложения, в ряде их;
236
повтор-рефрен (в пределах повести), повтор-стереотип (в пределах всего творчества Гоголя), повтор-жест, повтор-параллелизм, повтор простой, повтор, сплетенный с другими фигурами речи, — эти виды гоголевских повторов еще не изучены: можно сказать про юмор Гоголя: он — все; и — везде; стало быть: юмор ли он? Тоже — повтор: он — все, везде; он — нерв стиля Гоголя (вместе с гиперболой); касаясь его, касаешься целого фигур речи.
Гоголь расплавил фигуру повтора, дав ему и махровость, и гибкость; новые комбинации народных форм привились к после-гоголевской литературе как форма троекратного повторения слов в сопровождении прилагательного (часто в превосходной степени): «лужа, удивительная лужа, прекрасная лужа» (ОТ); «не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю» (ЗС); «многие... весьма многие-с, очень многие-с» (Шп); эту форму подхватывает молодой Достоевский; ее утрирует «Петербург» Белого.
Повтор у Гоголя — стилевой фон, данный в росписи других фигур речи; он, как колоннада греческого зодчества, определяет все прочее; если повтор не изучен, то — ничто не изучено; а он — не изучен; Мандельштам, отмечая повтор частиц «не» и «ни», скользит с легкомысленной быстротой над богатством других видов повторов, отчего отметка им повторов на «не» — отметка букашек кунсткамеры с необнаруженными слонами.
Возьму метод Брика, примененный Бриком1 к систематике звуковых повторов; попытаюсь им охарактеризовать типы простого повтора слов. Брик различает повтор звука и группы звуков; последние по виду сочетания звука со звуком, в трехчленной группе «абв», например, — таковы: абв, авб, бва, ваб, вба; Брик разбирает места повтора в стихотворных двустрочиях, устанавливая четыре типа: 1) скреп: строчки двустрочия открываются повторной группой; 2) кольцо: звуковой повтор открывает и заканчивает строку; 3) стык (столк звуков): конец первой строки и начало второй сцеплены повтором; 4) концовка: повтор падает на концы строк; рифма — вид концовки. Буду называть повтор по количеству слов: одночленным, двучленным, трехчленным и т. д.
Тип скрепа (а --- || а ---) част.
Вот ряд примеров одночленного скрепа: «как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии» (СЯ): «так ли вымыто, так ли слажено» (Шп); «что яркости в зелени, что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах!» (МД, 2); повторы «как» и «что» даны в фигуре грамматического параллелизма; в первом примере — двух прилагательных: «как» (а) упоителен (б1), как (а) роскошен (б2) (аб1-аб2); в третьем — три параллельно сложеных фразочки типа: аб1в2 — аб2в2 — аб3в3; к одночленному скрепу относятся два повтора, заимствованные из народной поэзии (в сочетании с параллелизмами); ход на и и ход на «ни»; на и: «и леса, и пруды, и степи» (МН),
237
«и манящее, и несущее, и чудесное» (МД), «и речи, и взгляд» (НПР). В «Веч.» более част этот ход; с опущением и напевно организованная фраза становится перечислением; утрата мелодизма за счет других стилевых особенностей в третьей фазе обусловливает редкость этого вида повтора. Типичнее скреп на «ни»: «ни каменьев... ни... кузницы, ни всего» (НПР); «ни... лист... не шевелится... ни... души в поле» (СП); «не стану описывать... не упомяну ни о мнишках..., ни об утрибке... ни об индейках... ни о том соусе...» и т. д. (ОТ); «ни то, ни се, ни в огороде... ни в поле» (МД); «ни груши, ни слива, ни иная ягода» (МД); «ни бумажки, ни перышка, ни соринки» (МД); «ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок... ни... книг» (МД). Применение последнего хода не случайно у Гоголя; он расширен в сознании до... отказа оформить собственное сознание, что связано и с тенденцией отказа Гоголя от породившего его класса, и с неумением усвоить быт иного класса; отсюда рефрен: «ни то, ни се». Социальное сознание оставляет свой след и на слоговой форме.
Тип кольца (а --- || --- а) част: «не берет, да и не берет» (ЗМ); «железо рубило железо» (СМ); «сила пересилила силу» (ТБ); «пехотный полк... не такого сорта, к каким принадлежат пехотные полки» (Шп); «грустно мне, заранее грустно» (СП); «взгляните на нос, — особенно, если он встанет с кем-нибудь говорить, — взгляните на нос» (ОТ).
Стык ( --- а || а ---) редок: «Осмотрели и суку — сука точно была слепая» (МД): «полезли... чокаться: перечокались и в третий раз» (МД); зато концовка ( --- а || --- а) — наиболее употребляемая Гоголем форма; к ней взывает мелодия гоголевской прозы: «какая вам нежба»?.. Вот вам нежба» (ТБ); «толкнул... в провал; и конь... полетел в провал» (СМ); «тут... будет... кузница... Увидели... кузницу; осмотрели и кузницу» (МД). Проходят комбинации четырех типов; сочетание скрепа с концовкой: «и речи, и взгляд, ну вот так и нежит, так и нежит» (НПР); сцеп кольца со стыком: «дядя Митяй пусть сядет! Садись, дядя Митяй!» (МД); сцеп стыка с концовкой и скрепом: «пошли осматривать крымскую суку, ...которая уже... слепая... Осмотрели и суку — сука точно была слепая» (МД); «осматривали-осмотрели» — скреп; «сука-суку» — стык; «слепая-слепая» — концовочный повтор; между тремя повторами образуется кольцо: «пошли осматривать... суку, которая... слепая... осмотрели».
В изыске комбинаций элементов повтора, неведомых народному эпосу, — роскошь гоголевского повтора, в котором творчески воссоздается разговорная речь; не запись слагает ее, а заново вытворенность; средства — новая клавиатура повторов; немногострунной бандурой выглядит народный повтор; Гоголь организует рояль; и сочиняет на нем композиции — для четырех, шести, восьми рук.
Сложность выярчена в многочлен. Примеры простых многочленов: «Сиди вечно там на коне своем... Ты будешь сидеть там на коне своем» (абвг-абвг) (СМ); «разве я это сюда велел ставить
238
тебе, любезный? Разве я это сюда говорил тебе ставить, подлец?» (МД); группа из восьми повторных или эквивалентных слов в целом сохраняет порядок; симметрия нарушена перевертами шестого и седьмого членов («ставить тебе» и «тебе ставить»); или «Теперь последний глоток и за славу всех христиан, какие живут на свете! И все казаки... выпили... последний глоток за славу всех христиан, какие ни есть на свете» (ТБ); или: «которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням» (ТБ); пример этот — пример уже сложного многочлена; первая фраза — повтор-концовка; вторая фраза началом рифмует с началом, являя скреп; целое двух фраз подано, как в скобках, в кольце «которого куреня — к другим куреням»; повтор осложнен грамматическим параллелизмом, являющим логический контраст: «переходила-приставала», «большая часть — малая часть».
И в народной поэзии, и у Гоголя повтор не отчленим от параллелизма, коренящегося в нем так, как повтор — в звукописи (рифме ритме); звукопись — рудимент образа; фигура повтора сосредоточивает внимание на словесном образе; параллелизм, лежащий зерном в повторе, в свою очередь — зерно будущей смысловой тенденции; она проходит стадии зародышевого развития: сравнения (с переходом к метафоре) и гиперболы, примитивной индукции; в повторе грамматика, ритмика, логика еще имманентны друг другу; в приведенных примерах повтор сращен с параллелизмом; параллелизм в нем — то симметрия грамматических форм, то — повтор представлений, частей некоего искомого целого; пример словесного повтора-параллелизма: «Павел Иванович! Ах... Павел Иванович!.. Любезный Павел Иванович!.. Почтеннейший Павел Иванович. Душа моя, Павел Иванович. Вот вы где, Павел Иванович! Вот он наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович!.. Вот я его поцелую, моего дорогого Павла Ивановича!» (МД). Девятикратный повтор «Павел Иванович» при параллелизме: любезный, почтеннейший, душа моя, наш, и т. д.; вот параллелизм, в котором симметрично расположены числительные и отдельные части некоего иронического совершенства: «один показывает... сюртук... другой... нос, третий несет... бакенбарды, четвертая... шляпку, пятый — перстень, шестая — ножку, седьмой — галстук... осьмой — усы» (НИ); а1б1— а2б2—а3б3 и т. д.; одна часть симметрии — счет: один, другой, третий и т. д.; другая — перечисление: сюртук, нос, бакенбарды, шляпка и т. д.; целое: все, — как сумма благ Невского; параллелизм — преддверие к гиперболе-выводу: Невский есть все, что ни есть на свете; «все, что ни есть на свете» — трафарет, проходящий сквозь все повести Гоголя; в нем — нечто от провинциала, попавшего в Петербург, куда Гоголь, «Никоша», рвался из Нежина; в «НП» народный параллелизм использован для иронии. Петербург насолил Гоголю; провинциал разбил лоб о дверь «салона»; повторы Гоголя второй фазы — сознательные гиперболы; Гоголь берет — шинель, нос, проститутку; нос — раздувается до луны: нос, нос, нос!
239
Шинель с «лапками под аплике» — спутница жизни. В результате же: «Не верьте Невскому!»
В том, как отработалась форма гоголевского повтора, сдвинувшего с места русскую литературу, сказалось наличие таких, а не иных социальных условий, определивших Гоголя; махровость повторов — не результат ли бытового раздерга?
Приведу ряд повторов; иные — с изысками; типа аб-ва-бв: «про мертвые души (а) и губернаторскую дочку (б), про Чичикова (в) и мертвые души (а), про губернаторскую дочку (б) и Чичикова» (в) (МД); типа аб1в — аб2в — аб3в и т. д. (указатели при б — отмечают не прямой повтор, а смену эквивалентных слов): «И наплечник в золоте, и нарукавники в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото» (ТБ); а — повтор союза и; в — повтор слова «золото»; б1—6 — перечисление, ведущее к гиперболическому обобщению; пример типа: а-бв — б-ав: «побежал... к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало» (ЗМ); тип: а-б1в1 — а-б2в2 — а-б3в3 — а-б4в4. «Гм...» — сказал дед... — «Гм...» — произнес нос... — «Гм» — проблеял баран... — «Гум», — заревел медведь» (ЗМ); типа: абв1г — абв2г — абв3г: «А что это у вас, великолепная Солоха? А что это у вас, дрожайшая Солоха? А что это у вас, несравненная Солоха?» (НПР); вот четыре фразочки; они — фигурный кристалл; в первой фразовой паре повторы «широкий», «узенький» расположены крест-на́крест; в другой паре повторы слов «бричка», «повозка» — друг под другом; в четвертой фразе повтору «и» противопоставлен повтор «ни»:
«Одна (а) — зад (б) широкий (в), а (г) перед (д) узенький» (е):
а1 — бв — г — де
«другая (а2) — зад (б) узенький (е), а (г) перед (д) широкий» (в):
а2 — бе — г — дв;
«одна (а1) была и (ж) бричка (з), и (ж) повозка» (и):
а1 — жз — жи;
«другая (а2) ни (к) бричка (з), ни (к) повозка» (и):
а2 — кз — ки.
Вот уже приведенный отрывок из «МН», или — сеть повторов; я его разберу по фразам; для простоты считаю симметричные слова за повторные; а — парубок, парубок, парубок; б — я, меня, мне; в — награжу, награжу, подарю; г — тебя, тебя, тебе; д — найди, посмотри, погляди, погляди, посмотри, найди, найди; е — мою, мою, мои, мои; ж — мачеху, мачеху; к — на лицо, на шею, на ноги, на очи; м — они, они, они, они, они, они; н — по песку, по земле, по коврам, по терновнику; л — не смываются, не смываются, не смываются, не смоются, не глядят и т. д.; отрывок — скрещенье повторов, напоминающее сроенье колоннок, полуколонок; вот формулки фраз: «Парубок, я награжу тебя» (а—бв—г). «Я тебя богато награжу» (бг—в). «Парубок, найди мне мою мачеху» (а—дб—еж). «Она мучила меня» (ж—и—б). «Посмотри на лицо: она вывела румянец» (дк : и). «Посмотри на белую шею мою: они не смываются,
240
они не смываются, они не смываются, они никогда не смоются, эти синие пятна от железных когтей» (дк—е: мл—мл—мл—мл). «Погляди на белые ноги мои: они — много ходили, не по коврам — по песку, по земле, по колючему терновнику» (дк—е: мл—н—н—н—н). «А на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез» (к—е—дк: мл). «Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху» (МН) (д—а—д—б—еж).
Кроме повтора слов — повторы групп; группа «дк—е» повторяется три раза; группа «дк» — повторяется три раза; «еж» — два раза; «мл» — пять раз и т. д.; средь повторов тень асимметрии выпуклит рельеф; это — «ни за что» и углом выходящее «синие пятна от железных когтей».
Повтор-параллелизм — основная фигура «ОТ»; первая глава «ОТ» — сплошной повтор: «какие смушки!.. Какой... дом..! Какие... груши!.. Что у него в саду!.. Чего там нет!» (ОТ); тут же: «прекрасный человек... Иван Иванович. Он... любит дыни... Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает комиссар!.. Богомольный человек Иван Иванович... Очень хороший тоже человек Иван Никифорович» (ОТ); повтор подан и тенями контрастов: «Иван Иванович — Иван Никифорович», — «прекрасный — очень хороший»; и углит намеренно неповторное «тоже».
Чтоб показать махровость повтора начала второй фазы, приведу отрывок из «ОТ»: назову фразу о чашке чая — a; повтор «поклонился и сел» — в, «протянул руку к подносу» — с; а рефрен восклицания — d; отрывок примет вид:
ab = ab — ab — ac — — d — — ab = ab — ab — ac — — d
Правая половина многочлена подобная левой. Привожу отрывок:
— «Чем прикажете потчевать?.. Не прикажете ли чашку чаю? | — a |
— «Нет, весьма благодарен», отвечал Иван Иванович, поклонился и сел» | — b |
— «Сделайте милость, одну чашечку», повторил судья» | — a |
— «Нет, благодарю...», отвечал Иван Иванович, поклонился и сел» | — b |
— «Одну чашку? | — a |
— «Нет, не беспокойтесь...» При этом Иван Иванович поклонился и сел» | — b |
— «Чашечку!» | — a |
— «Разве...», произнес Иван Иванович. И протянул руку к подносу» | — с |
Рефрен: «Господи боже! Какая бездна тонкости бывает у человека...» | — d |
— «Не прикажете ли еще чашечку?» | — a |
— «Покорно благодарствую», отвечал Иван Иванович, ставя... чашку и кланяясь» | — b |
241
— «Сделайте одолжение, Иван Иванович!» | — а |
— «Не могу, весьма благодарен...» Иван Иванович поклонился и сел...» | — в |
— «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку» | — а |
— «Нет, весьма обязан за угощение...» Иван Иванович поклонился и сел...» | — в |
— «Только чашечку, одну чашечку» | — а |
«Иван Иванович протянул руку к подносу» | — с |
Рефрен: «Фу ты, пропасть, как... найдется человек!..» | — d |
Я упростил склик повторов; до первого рефрена фраза судьи укорачивается: шесть, четыре, два, одно слово; после первого — фраза Ивана Ивановича, наоборот, удлиняется: два, четыре, пять слов; второй рефрен — контраст с первым: «боже мой» и «фу ты, пропасть».
Я бы мог без конца разнообразить примеры; то повтор подан в одних родах, падежах, числах, то — в разных: «усы, которым... усы, которые... усы, к которым...» (НП); или: «те же...; тот же...; то же...; словом все то же» (МД); «возле телег, под телегами и подальше от телег» (ТБ); повторные глаголы меняют времена и числа: «Это говорит... Э! говорю я... Э! сказали мы» (Рев). Часто повторы соединены в парные цепи; повторы рифмуют через повтор: аб—аб и т. д.; «да здравствуют гусары! — «Теремтемте!» «Шампанского!» «Теремтемте!.. Да здравствуют гусары!» (Игр); вокруг неповторного «шампанского» — рифмы по схеме: аб—ба; неповторное выпирает углом; сцепка двух пар дает треугольник; вот цепь из трех стыков, напоминающая параллелепипед: «Маниловка... а не Заманиловка... Дорога в Маниловку: а Заманиловки тут... нет... Это тебе Маниловка, а Заманиловки... не было» (МД); в парах част контраст (теза и антитеза); «Браво, гусар!..» — «Гусар лопнул...» — «Браво, гусар!.. Лопнул гусар» (Игр); «браво», «лопнул» — теза и антитеза; или: «Нет, весь...» — «Нет, не весь». — «Нет, весь». — «Не весь». — «Нет, весь» (Игр). Часто Гоголь нарушает одну из симметрий; единственная асимметрия тогда — ось других симметрий: «знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой. — «Давненько я не брал в руки шашек», говорил Чичиков, подвигая... шашку» (МД); пара фраз повторена дважды; следующая пара начинает третично с повтора: «знаем мы вас» и с «давненько... не брал в руки»; ждешь повтора «шашек»; вместо него: «Э, э! Это, брат, что?» (МД); «такие талии, какие» и т. д. — «тоненькие, узенькие»; ждешь — продолжения; вдруг — «а какие дамские рукава» (НП); «отправлялся к частному; ...сказали ...спит; ...пришел в десять..., сказали... спит; пришел в одиннадцать ...сказали...; ждешь — «спит», вместо него — «нет ...дома» (Ш).
Часто: подмена параллелизма сходства параллелизмом контраста: У Ивана Ивановича глаза большие и рот; у Ивана Никифоровича — глаза маленькие и нос; голова у Ивана Ивановича — редька хвостом
242
вниз; голова у Ивана Никифоровича — редька хвостом вверх; Иван Иванович лишь после обеда лежит в рубашке на припеке, а вечером идет гулять; Иван Никифорович весь день лежит без рубашки на припеке, а вечером — никуда не хочет итти; рост контрастов ведет к разрыву параллелизма, но — в скобках параллелизма: Иван Иванович сердится, когда муха попадет в суп; Иван Никифорович любит купаться; скобки — остались: внутри них — несоответствие; но Гоголю и этого мало; дав неповторность, он и ее нарушает; параллелизм въюркивает, так сказать, с черного хода: надо и контраст включить в цепь повторов первой главы «ОТ»: у Ивана Ивановича — «детей... не было»; но зато — «у Гапки есть дети» (ОТ); параллелизм от рикошета «Гапкиных детей» означает, что у Ивана Ивановича детей от себя — не было; от Гапки — были; «тому судьба дала... лошадей, и он равнодушно катается на них...; другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком; ...тот имеет отличного повара, но... маленький рот...; другой имеет рот величиной с арку Главного штаба, но должен довольствоваться обедом из картофеля» (НП); первая пара фраз — сочетание скрепа с концовкой; повтором связаны середины фраз: «лошадей — лошадиною»; вторая пара, являя скреп, напоминает кольцо; грамматическая симметрия: «тому — другой», «лошадей — лошадиною», «тот имеет — другой имеет»; антитетичны: «катается — идет пешком», «имеет повара — есть картофель», «рот маленький — рот с арку».
К повторам-параллелизмам применяет Гоголь приемы композиторов, вводящих в созвучие диссонанс; ходы подобны нон-аккордам, разрешаемым в терциях. Повтор порой — план, как в «НП», открывающем фабулу картиной Невского: «Начнем с раннего утра» (описание утра); далее — повторный возврат к времени: «в двенадцать часов» (дан полдень); «но чем ближе к двум», «с четырех», «как только сумерки упадут»; повторный возврат открывает абзац; когда повтор заключает абзацы, становясь концовкой абзацев, имеем повтор-рефрен.
Пример рефрена — восклицание, сводящее к единству обе половинки сложного повтора в «ОТ»: «боже мой» и «фу ты, пропасть»; рефрен и фраза в «МН», стоящая в начале ткани повторов и ее заканчивающая: «Парубок, найди мне мою мачеху»; здесь рефрен — повтор ткани повторов; чаще он лишь окантовывает абзацы, как в «Н», где три абзаца кончаются сходственно; первый кончается на — «вскрикнул — и проснулся... «Неужели это... был... сон?» Через абзац: «С воплем... отскочил он — и проснулся: «Неужели и это... был... сон?» Через абзац: «И проснулся. И это был... сон». Иногда рефрен перерастает отрывок, концуя главы, принимая вид обобщения и связуясь с содержанием целого; и таков рефрен глав «Н», повествующий о том, что «здесь происшествие покрывается туманом»; в конце «Н» рефрен развивается в рассуждение непонятности темы «Н»; он — ось сюжета; его резюмируя и напоминая музыкальную коду. Другой вид рефрена, относимой ко всему
243
рассказу, — повторная фраза «ЗС»: «Ничего... Ничего... Молчание!» Повторяясь, она оттеняет по-новому содержание, ей предшествующее: звучит иронически, трагически, юмористически; переменяется ее тональность, знаки препинания в ней, но не слова; мелодии ее: разгон, разгон; и — претык: 
 |
|
 |
| |
|
 ... Есть рефрены-стереотипы, общие всем повестям; на них печать миросозерцания; стереотипы становятся категориями; таково «все, что ни есть на свете»; фразу вы встретите: и в «ТБ», и в «СМ», и в «Н», и в «МД»; здесь предел обобщения типа повторов; другой стереотип, — обобщающий другой тип, — ход на «ни...ни...»: «ни толстый, ни тонкий», «ни старый, ни молодой»; он — умозаключение, которого большая посылка есть «все», малая — «ничего», а вывод — «ни то, ни сё»; об этих стереотипах я буду говорить ниже.
... Есть рефрены-стереотипы, общие всем повестям; на них печать миросозерцания; стереотипы становятся категориями; таково «все, что ни есть на свете»; фразу вы встретите: и в «ТБ», и в «СМ», и в «Н», и в «МД»; здесь предел обобщения типа повторов; другой стереотип, — обобщающий другой тип, — ход на «ни...ни...»: «ни толстый, ни тонкий», «ни старый, ни молодой»; он — умозаключение, которого большая посылка есть «все», малая — «ничего», а вывод — «ни то, ни сё»; об этих стереотипах я буду говорить ниже.
Между ритмом, звукописью, повтором, параллелизмом, взывающим к натуре изобразительности, и содержанием этой изобразительности у Гоголя разрыва — нет; слоговые ходы надо брать в цепи их; целое коренится в стиле, еще до слоговых оформлений: в звучащем ритме; оно продолжается в способ видеть жест образа; приходится для уразумения ограничить сферу разгляда приема; потом — горизонт разгляда раздвинуть; и показать, как прием переходит в прием: той же сферы, иль смежной; говоря о повторе, сознательно соскальзываешь то на параллелизм представлений, то на повтор звуков; звукопись, повтор, параллелизм суть: подпочва, почва и растительность почвы в участке разгляда, где ритм, стиль, слог, образ и смысловая тенденция гармонично увязаны.
Гоголь — параллелист — дает соответствия: его словесность ответствует ритмике; слоговая рисовка предметов — ответствует гимнастике его глазных мускулов: умению произвольно менять перспективы и подавать предметы то в сдвиге осей, то в раздвиге их, т. е. в принципах Сферической перспективы, о чем скажу ниже. Слова — вот к чему: рефрен Гоголя связан с жестом, определяясь им; многие гоголевские рефрены сопровождают повтор жеста его героев: рождаясь, как музыка, повтор в жестовом рефрене становится средством характеристики, во многом сохраняя связь с ритмом; в приведенном выше примере пять раз повторяется: «поклонился и сел»; повтор рисует всю фальшь галантности Ивана Ивановича; повтор — рефрен жеста: психологическая характеристика.
Говоря о рефрене, надо сказать: он — средство; цель — психологическая характеристика; повторы-стереотипы Гоголя чаще — логические характеристики.
Жестовой рефрен сопровождает многих «героев» Гоголя; он подается повторною фразой; Афанасия Ивановича сопровождают два жеста; до смерти Пульхерии Ивановны он «улыбался, сидя в своем стуле» (СП), «смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле» (СП), «слушал с тою же улыбкой» (СП), «сидел, согнувшись, и... улыбался» (СП) и т. д.; жестовой рефрен — почти словесный рефрен; после смерти Пульхерии Ивановны Афанасий Иванович «мутными
244
глазами глядел» (СП), «посмотрел смутно» (СП), «взгляд... был... бесчувственен» (СП) и т. д. Рефрен судьи в (ОТ): «нос его мог нюхать табак» с губы (ОТ), нос «потянул с верхней губы... табак» (ОТ), «потянувши от верхней губы... табак» (ОТ); назвав пляшущую ногу городничего «пехотою», Гоголь не унимается: «чем быстрее действовал... пехотою, тем менее... подвигалась вперед» (ОТ), «ссорился со своею пехотою», «не мог управиться с ...пехотою» (ОТ); а боковой ход Чичикова? «Вошел боком» (МД), «раскланивался... набок» (МД), «покося... глазом вбок» (МД), садился «в кресле не по средине, но наискось» (МД), «наклонением головы набок... (МД); обворожил даму «набок», «боком», «вбок» — жестовой рефрен Чичикова: в конце поэмы — вывод из жеста: «косой дорогой больше напрямик» (МД); другой лейт-мотив Чичикова: «потянувши... воздух на свежий нос поутру» (МД), «выщипнул... из носа две волосинки» (МД), «вытянул вперед нос» (МД), «подымал только нос... да нюхал», «потянул... в самый нос, что заставило его чихнуть», «чихнул... громко» (МД); из рефренов «нос» и «боком» строится вывод: сбоку нос Чичикова — Наполеонов нос; тема носа «МД» связана с носологией Гоголя; о ней толкует Виноградов; «нос» — один из стереотипов творчества Гоголя: он — символ величия ничтожеств; в рассказе «Н»: нос — «все, что ни есть». «Величие» Чичикова открыли капиталисты: Муразов и Костанжогло; «носология» Гоголя — гипербола-миф о грядущем капиталисте, неясном Гоголю.
Я бы мог утроить примеры жестового рефрена (чубук Манилова, жест Собакевича, подмиг Башмачкина и т. д.); он и словесный рефрен: оба рождены ритмом; и оба связаны и с изобразительностью, и с простым повтором; повтор у Гоголя — сама почва рождения слоговых ходов, корнями уходящих в него; систематика фигур вне сплетения их с повтором порою бесплодна; Гоголь не поддается чистой морфологии; она дана вместе с эмбриологией.
В ближайшей главке попытаюсь охарактеризовать несколько типичных ходов, данных в фигуре повтора.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОВТОРЫ
(Вводное предложение, восклицание, обрыв, круг, спираль)
Перетворя повтором живое слово, Гоголь выступает рассказчиком; отсюда и спайка повторов с рядом вводных предложений, образующих целое, которое подобно колоннам, поддерживающим арочную дугу: «для ее — ай! ой! — для ее превосходительства» (ЗС). «каких коней — если бы ты знала — каких коней!» (СМ); «что ж вы — так бы и этак поколотил чорт вашего батьку — что ж вы делаете?..» (ТБ); «снилось мне — чудно право, и так живо, будто наяву — снилось мне» (СМ); примеры мог бы удесятерить; в первой фазе вводное предложение вырывается к отдельному бытию; и звучит, как фигура отстава: «добрый — враг бы взял его — вояка» (ТБ): «да я — хоть оно и непристойно сказать — ходил к булочнице»
245
(В); «дед был... — пусть ему легко икнется на том свете — довольно крепок» (ЗМ); «дед мой (царство ему небесное! Чтоб ему на белом свете елись одни буханцы...) — умел... рассказывать» (ВНИК); «чорт — нечего бы и поминать нечистого сына — ... всхлипывал жалобно» (ВНИК); вводная фраза повтором себя вводит в фабулу, так сказать, фабулу второго порядка; фабула над фабулой, или — рассказчик-дед, или словечко его: «тетка моего покойного деда в «ВНИК».
В одном направлении вводное предложение развивается в фигуру обрыва, периодически вбивая в повествование собственный сюжет; сюжет вводного предложения «Веч» — «чорт», подобный роже, влепленной медальоном над арочной дугой колонок; повтору колонок ответствует повтор медальонов: с рожей посреди; вводное предложение в первой фазе — повтор в повторах; оно — «барокко» гоголевского повтора.
Со второй фазы большинство вводных предложений, становясь повторами, вцепляются в основной текст, как словечки лейт-мотива; теряются «тирэ», отделяющие их от текста; «тетка моего покойного деда», сующая нос в текст «ВНИК», — яркая краска, впестрядь с яркой краской ткани рассказа; она — комический элемент в трагедии, описанной в «ВНИК». Со второго периода повторы словечек даны в тон рассказа; стаи из «можно сказать», «в некотором роде», «что называется», — и рудименты вводных предложений, и повторы; в них обнажен генезис самого вводного предложения Гоголя в повторе Гоголя; сумма их — крап: точно — вуаль с мушками на тексте, поданном в намеренной неяркости, неопределенности, безличии, косноязычии; подставной рассказчик в «Веч» не лезет за ядреным словечком в карман; подставной рассказчик со второй фазы — если не разглагольствующий герой (Хлестаков, Подколесин, Ноздрев, Башмачкин, Поприщин) с дырой в голове, козыряющий с «того-этого», с «сударь мой», то подсиживатель: он представляет героя в тусклых оборотах, бросающих тень и создающих сумеречный туман над текстом; текст подан не в красных, золотых, зеленых, синих и черных, резко отделенных друг от друга пятнах, а в бесцветно-белых, сероватых, буровато-коричневых колоритах; «во всех отношениях» на смену отчетливо гиперболическому «все, что ни есть», «почтенный во всех отношениях», «во всех отношениях справедливо», «приятная во всех отношениях» — частит по тексту: «Какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелить душу... так сказать, паренье этакое» (МД); «этакой, какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом» (МД), «как ты там себе ни» (Ж), «этакий розанчик» (Ж), «оно, конечно, не всякий... имеет, примерно сказать, речь то есть дар слова... Натурально, бывает... что, как обыкновенно говорят..., или прочие подобные случаи, что впрочем» и т. д. (Лак); Виноградов и Мандельштам согласно отмечают нарочное косноязычие повторных словечек; они — результат интерференции пустых стереотипов «все», «ничего», — в «того-этого», с которого ходит Башмачкин;
246
стилевой прием третьей фазы — преформация фигуры повтора: он — синтез повтора с вводным предложением.
Повтор словечек переплетает, как железами, мускулатуру рассказа: мускулистость его в первой фазе сменяется жировым отложением соединительно-тканных образований; в «Ш»: «теперь уже», «говорят», «нельзя сказать, чтобы очень», «несколько даже», «впрочем нельзя сказать, чтобы», «вот только», «немного того», «что называется», «как известно», опять «как известно», и опять «как известно» — все это рефрены «Ш»; и — частое «как-то»: «как-то особенно», «как-то чрезвычайно», «как-то», «какой-то», опять «какой-то»; «как-то» скачет по «Н» вместе с «как-нибудь», «сколько-нибудь», «куда-нибудь; «нибудь» («как-нибудь», «сколько-нибудь») специфично для «Н», «К» и «МД»; в последних «как-то» преформируется в «как»: «как говорится», «как известно»; оговорные словечки ползают, как клопы по простыням, по страницам бытовых рассказов: «впрочем», «не чей иной как», «не говоря... о том», «не в том смысле говорю...; ...но...», «а однакоже при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, можно даже... — а все однакоже, как поразмыслить», и т. д. (Н).
На протяжении небольшой главы «МД» выражение «дама приятная во всех отношениях» повторено 12 раз; повесть о капитане Копейкине — стилистический перл, выточенный из повторных, вводных словечек; смысл рассказа не в «что сказано», а в «как сказано»; и «как» — оригинальное, до Гоголя небывалое применение вводного предложения, как повтора; суть повествования в том, что оно — ни с места вопреки галопу повторов и их чехарде: «говорю», «говорю», «сударь ты мой», «этакая какая-нибудь», «в некотором роде» разбрызгивают струю текста в водометную пыль никчемностей, где «так сказать, семга» уже не семга: чорт знает что! «Так сказать, в некотором роде терпение» — не «терпение» вовсе; на протяжении пяти страничек издания Маркса я подсчитал до 137 повторных фразочек (около трети текста): «сударь ты мой» повторено 10 раз; вставочное «говорит» — 25 раз; «понимаете», «можете представить» (вообразить) — 38 раз; а рефрен неопределенности («в некотором роде», «относительно сказать», «этакая какая-нибудь») — 64 раза: «Прижался, — чтобы не толкнуть..., можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию раззолоченную, относительно сказать, фарфоровую вазу этакую» (МД); «каких-нибудь этаких распоряжений насчет, относительно, так сказать, ...пансиона, что ли, понимаете». Как первый отрывок «ОТ» — шедёвр повторных восклицаний, становящихся осью рассказа, так повесть о капитане Копейкине — единственный в мировой литературе шедёвр, сплетенный из повторных, вводных предложений; каждое — ничто; но сопровождая любое слово, оно испаряет его в неопределенный туман; и все меняет очертания: и — «так сказать, семга», и — «так сказать..., терпение»; бег фраз, синтаксические отношения слов друг к другу, перерождаются в курьезы «китайских теней».
Всюду текст Гоголя изукрашен гирляндой лепных восклицаний:
247
«ух», «ух, сабли звенят», «ух, их можно испугаться» (СМ); «ух, страшно» (ВНИК), «ух, страшно» (МД); «у, какая образина» (ВНИК), «у, у! Нос...» (ЗМ), «у! какая... даль» (МД); или: «боже мой, — его знает весь Миргород» (ОТ), «боже мой! Стук, гром, блеск!», «боже ты мой, — сколько панства» (НПР), «боже ты мой, — на человека не похожи», «боже мой, Николай чудотворец, угодник божий» (ВНИК); или: «экая долгота!» (ВНИК), «экие дела!» (ОТ), «экие свитки» (ТБ), «эка машина!» (ЗС), «Эк!» (НПР), «э, да тут!» (СМ); или: «о, мой муж», «о, время, время!» (СМ), «О, вы не знаете» (МН), «о, коварное существо» (НП), «о, эта бестия» (ЗС); «ах», «вишь», «что за», «чорт возьми» — повторные всклики.
Повтор членит восклицания: «Кто ж он, что ж он, каких качеств, каких свойств...?» (МД), «что яркости...! Что свежести...! Что — крику...!» (МД, 2); есть и восклицающие рефрены: «Ничего, ничего... Молчание!» Эта фраза в «ЗС» меняет при каждом повторе и интонацию, и знаки препинания; «ЗС» — крап междометий: «гм», «нет», «фу», «ну», «эка»; они — порхают над текстом. «ОТ» — шествие восклицательных знаков: «Какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки!.. Бархат! Серебро! Огонь!.. Господи, боже мой...!» (ОТ). Их повтор — ось рассказа; характеристика Ивана Ивановича обставлена восклицаниями, как улица фонарями; взрыв барабанов над... тусклой пошлятиной! Писк флейт, выдувающих из лягушки вола! Но последнее восклицание, обрывая рассказ, обрывает все прочие: «Грустно на этом свете, господа!» От ликующих восклицаний к конечному сквозь строй повторов — таков путь фабулы, выращивающей ужасного «гусака», начинающего двоиться, троиться и четвериться: в кошмаре Шпоньки.
Фигура повтора всюду Гоголем сращена с фигурой обрыва; она необходима ему, как оскульптуривающая повтор ретушь; и обрыв переходит в повтор, а повтор — в обрыв.
«Рев» построен на обрывах, введенных в повтор, и становящихся повтором: в повторе обрывов; хотя бы рассказ Бобчинского в перебивку с Добчинским: «Б.: «Приходим в гостиницу...» Добчинский перебивает повтором: «Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу». Далее: «Забегал...»; и — обрыв: «уж позвольте, не перебивайте, Петр Иванович!» и т. д.; тема перепрыгивает через обрыв к повтору: «Изволите видеть, забегал..., встретился с Петром Ивановичем», чтоб вторично оборваться: «Возле будки, где продаются пироги...»; но обрыв в перебиве слов обернут повтором: «Возле будки, где продаются пироги»; скачок к основному повтору обрывает повтор обрыва: «Да, встретился с Петром Ивановичем». Диалог построен на этом принципе.
Вырежьте полоску бумаги; переверните ее, чтобы на середине полоски был перегиб: от изнанки к лицу; склейте концы: лицо с изнанкой; будет поверхность, у которой не различишь изнанку от лица; нечто подобное практикует Гоголь с системой повторных обрывов, введенных в ткань сложного повтора. И эту фигуру он применяет ко всему: в тексте комедий; каждый отдельно взятый обрыв
248
— диссонирует; в повторе ж своем он вводит ее в ткани гармонии; многоголосая фуга второй фазы творчества получается там, где в первой господствует — одноголосый напев народной мелодии; многоголосою этою фугою перерождаются: и русская литературная речь, становясь впервые народною речью, и крепкий народный жаргон, становясь впервые художественным; мелодия изорвана в контрапункт лейт-мотивчиков; поданная музыка текста есть все же музыка, но такая, интервалы которой неестественно удлинены и расчленены ритмической трескотней деревянных палочек; сперва слышится: гром, треск, хлоп: не бандура — шип часов, лай сиплый спящего; и карканье «во все воронье горло» (МД) словечек; это — эффекты новой инструментовки, как... игра на гребенках, щелкушки и медные тазы, введенные после войны в музыку.
Гоголь второй фазы так повернут к Гоголю первой фазы, как Скрябин второго периода повернут... к Шуману, — как Шуман... к Моцарту: он — футуристичен.
Обрыв оттеняет повтор; углубляя контраст, вылепляет сходство; повторы обычные — штрих параллелей на гладкой поверхности; между обрывом — рельеф легко волнуемый текст «Веч» — в «ОТ», в «Н», в «ЗС», в «НП» выглядит уже морщинистым текстом; в «МД» морщины — разъеды обрыва, ползущего уже по страницам; они подняты цепями гор; и как солнцем зажженные, смотрят вершины повторов.
Пример: во 2-й главе «МД» Манилов ведет в комнату Чичикова; повествование оборвано вдруг появившимся автором; он рассуждает о времени; но и он оттеснен характеристикой Манилова, дома Манилова, оборванной фразой: «пора возвратиться к нашим героям»; обрывы сбрасывают с темы, которая от этого выглядит верхом до обратного всхода: к повтору темы; сходы и всходы к повтору подобны полуокружностям; уступчатыми обрывами остраннен текст «МД»; вся вторая глава — фигура обрыва; обрыв повторяется и в повестях второй фазы, становясь конечной концовкою главы, переходящею в рефрен; «ОТ» открывается восклицанием: «Славная бекеша у Ивана Ивановича!»; конец третьей главы — обрыв: Иван Иванович подает прошение в суд: «В чем оно состояло, об этом узнаем из следующей главы»; четвертая глава повторяет восклицание первой: «Славный город Миргород» (сравни: «славная бекеша»): рефрен кончает ее; он — повторный обрыв: «Произошло объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы» (ОТ). В «К» — тоже повтор обрывов; в одном случае обрыв на фразе: «впрочем, об этом можно спросить»; в другом — он обрыв характеристики Чартокуцкого: «впрочем, об этом можно спросить» (К); в «Ш» — после слов «в департаменте» — обрыв; за ним — обрыв обрыва: в повторе: «Итак, в одном департаменте» (Ш); тоже — в «Н», склик повторных обрывов («все закрывается туманом») концует концы двух главок.
Вот фигура, которую называю условно фигурой круга; в ней обрывы сплетают с повторами темы замкнутое кольцо: Чичиков решил
249
нанести визиты помещикам; к этому его влекло «дело... серьезное, близкое к сердцу»; тут — перебив: появление автора, желающего читателю передать план повести: «об этом читатель узнает постепенно»; и новый перескок: крепостные Чичикова (Селифан, Петрушка); но их оттесняет характеристика русского человека, прерванная рассуждением о высших чиновниках и генералах, крепостных рабах условности (в пользу крепостных); но и это рассуждение перебито вторичным явлением автора: «нужно возвратиться к герою»; и — повествование возвращено к оси: к отъезду Чичикова. От Чичикова к Чичикову — градация обрывающих друг друга обрывов, дающих семичлен: 1) Чичиков, 2) автор, 3) слуги, 4) русский человек, 5) слуги пошлости (генералы и чиновники), 6) автор, 7) Чичиков.
Первый и седьмой члены — повтор: Чичиков — Чичиков; второй и шестой — повтор: автор — автор; третий и пятый — повтор: слуги в подлинном смысле (Селифан, Петрушка) и слуги в переносном смысле: хамы (генералы и чиновники); в центре — неповторимое, четвертое звено, противопоставленное, как надир зениту, Чичикову: русский человек, уличаемый... в хамстве; но он — хам в хамском сознании (Чичикова).
Вот графически эта фигура:
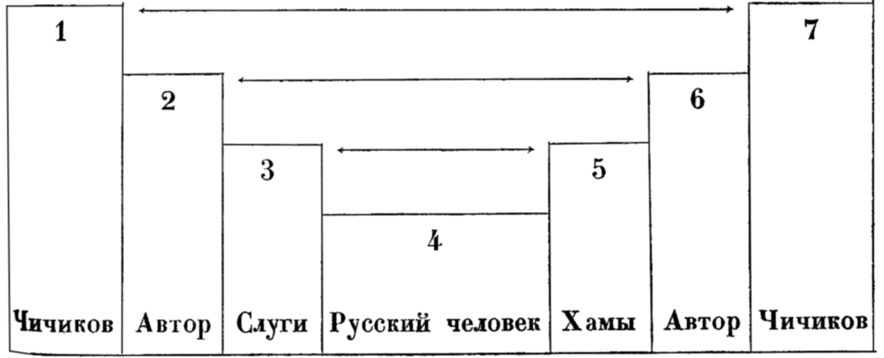
Замкните «1» звено с «7», вся фигура примет вид круга, построенного обрывами, где обрыв повторен, а повтор включен в обрыв.
Есть фигуры ступенчатых перевертов внимания, образующих как бы полный оборот повествования вокруг оси, чтобы тотчас же начать следующий оборот; круг — не вполне замкнут; я называю такую фигуру фигурой спирали.
Остановлюсь на одном примере, чтобы стало ясно, о чем идет речь.
«ОТ» открывается шествием восклицательных знаков, или характеристикой Ивана Ивановича. Ощупаем чередование фраз; разберем первые три абзаца; схема — восклицательный повтор: «Славная бекеша...! Прекрасный человек...! Прекрасный человек...!» и т. д.
250
Внутри повтора — повторы, подчиненные главному: «Какие смушки! Какие... Что за объядение..! Какой дом!.. Какие... яблоки и груши!.. Что у него в саду!.. Чего там нет?» и т. д. Повторами вымощены ступенчатые сверты представлений меж частями главного повтора: 1) у Ивана Ивановича славная бекеша; 2) отчего у Гоголя такой нет? 3) сам Иван Иванович прекрасен; 4) много у него в саду яблонь; 5) вторично: прекрасен Иван Иванович и т. д. Между повторами — по два сверта; каждый третий сверт — крутой всход к повтору, но не до конца, а под углом, так сказать: круг не замкнут; следующий за почти повтором поворот оси внимания подчинен закону развертывания спирали.
«Славная бекеша». И — сверт (покатый обрыв) к части ее: к смушкам: «Какие смушки!..» Описание их, заставляющее забыть бекешу: «Сизые с морозом», «огонь», «серебро» и т. д.: «Что за объядение!», или — новый сверт: обращение к странным гастрическим свойствам жителей Миргорода (не то смушки, не то галушки); ждешь разъяснения этих свойств; вместо же них крутой всход к главной теме: «бекеше», как принадлежности Ивана Ивановича; и жалоба Гоголя: «Отчего у меня нет такой бекеши!» Бекеша-смушки — объядение-бекеша; дан первый поворот, он он не замыкает круга; «бекеша» в первом случае, как предмет гордости Ивана Ивановича; во втором, как предмет зависти: автора; и тут же сверт (не крутой, а покатый обрыв) к Агафье Федосеевне: Иван Иванович сшил бекешу, когда Агафья Федосеевна поехала в Киев. «Вы не знаете Агафьи Федосеевны?» Ждешь узнать что-либо о последней, но узнаешь такое, что выбивает самое желание что-либо другое узнать, кроме странного случая с ней: «Откусила ухо у председателя»; опять странное «едальное» свойство жителей Миргорода: в Миргороде объедаются смушками; в Миргороде закусывают ушами председателей; после этого и интерес к биографии Агафьи Федосеевны иссякает; ждешь объяснения инцидента с председательским ухом; не тут-то было: крутой всход к повтору, или конец второго спирального поворота: «Прекрасный человек!» (склик со «славной бекешей») второе звено — бекеша Ивана Ивановича, Агафья Федосеевна, председатель с откушенным ухом, сам Иван Иванович; далее — два сверта: к дому, к навесу; и возврат к Ивану Ивановичу; наконец-то добрались до него; не тут-то было: от него — новый сверт к яблоням сада: «Какие у него яблони... Какой у него сад!» Но вместо сада — выныривают гастрономические роскоши сада; и повтор желудочных интересов, после которого пятый возврат к Ивану Ивановичу, — к саду Ивана Ивановича: «Какие у него яблони...» Четвертое звено: яблони Ивана Ивановича, сад в целом, гастрономия сада, Иван Иванович. Пятое звено спирали построено опять-таки на трех свертах: Иван Иванович, дыни его, едение дынь и т. д.; спираль осложняется введением в нее все новых побочных фигур, еще с бо́льшим трудом поддающихся схематизации, чтобы ввести новую тему: «Очень хороший тоже человек Иван Никифорович!» Характеристика удваивается: в характеристики.
251
Вот схема начала сложной фигуры; римскими цифрами обозначены главные повторы; арабскими — сверты.
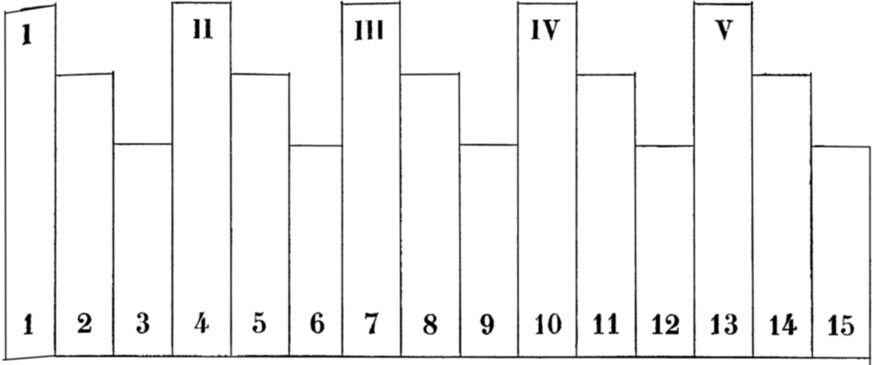
I) Бекеша Ивана Ивановича, II) бекеша Ивана Ивановича, III) дом Ивана Ивановича, IV) яблони Ивана Ивановича, V) Иван Иванович; средь 15 свертов 5 повторов основной темы: характеристики Ивана Ивановича собственностью Ивана Ивановича; между повторами по два некрутых обрыва: 2—3, 5—6, 8—9, 11—12, 14—15; любопытно, что внутри обрывов проходит повтор: 3—6—12—15 обращены к гастрономии; им аналогичный сверт «9», лежащий на третьем, неповторном повороте спирали, — не повторен; повторы: закусывание смушками (сверт «3»), откусывание уха (сверт «6»), апеллирование к стручьям и дыням (сверт «12»), едение дынь (сверт «15»).
Вся фигура — спираль; в моем реестре есть несколько примеров таких спиралей; иногда спираль быстро скручивается причудливым завитком, в котором быстрота свертов стирает повторы; пример такого завитка — предисловие к «Шп»: «Если кто желает... знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит попросить Степана Ивановича...» Сверт № 1: «он живет... возле каменной церкви...»; сверт № 2: «тут есть переулок»; сверт № 3: «как поворотите, то будут ворота»; сверт № 4; «да вот лучше: когда увидите на дворе... шест с перепелом и выйдет толстая баба в зеленой юбке...»; сверт № 5, поданный в скобках: «(он, не мешает сказать, ведет жизнь хорошую)»; сверт № 6: «то это его двор»; и тут — возвращение, повтор, но не к теме («о чем говорится далее в этой повести»), а к сверту № 4; далее — неучитываемые завитки, напоминающие скручивающийся в точку росчерк: «вы можете встретить его на базаре», «у него нет ничего кроме панталон», «еще покойный заседатель говорил»; на глупости заседателя обрывается обещание дать продолжение повести, дать внятный адрес Степана Ивановича, реабилитировать Степана Ивановича ввиду появления бабы в зеленой юбке: вылезают панталоны, вылезает заседатель, вылезает из него его глупость; и линия обещания закручивается свертами в точку: остается прием, как таковой; и этим приемом впоследствии пишется рассказ «Н».
252
Слоговой прием второй фазы порой до того перерастает сюжет, что Гоголь в ужасе открещивается от этой манеры: в третьей фазе своего творчества.
Фигуры обрыва, круга, спирали и завитка генетически связаны; но связующий их всех корень — рассложненный повтор.
В другом направлении фигура повтора является подступом к фигуре гиперболы.
ГИПЕРБОЛИЗМ
В просторечии гиперболизм — тенденция преувеличивать: во все стороны, во всех смыслах; преувеличенное умаление — тоже гиперболично; гиперболы: и «человек-гора», и «человек-муха» (а он — не муха). От гиперболы в общем смысле следует отличать фигуру гиперболы, вид синекдохи. Потебня так определяет синекдоху, метонимию и метафору: если «А» — первичное значение слова, а «Х» — новообразование, возможны три случая: 1) «А» заключено в «Х» и обратно: «человек», «люди»; это случай синекдохи; 2) «А» отчасти заключено в «Х»; «лес» и «птицы» — в «лесные птицы»; и такова метонимия; 3) «А» и «Х», не совпадая друг в друге, сочетаемы в «Б», представление об «А» в «Б» — метафора. Потебня дает два рода синекдох: представление о части вместо целого дает пять видов: 1) единственное вместо многого («раб» вместо «рабы»), 2) собирательное «чудь» вместо состава племени, 3) часть вместо целого («хозяйский глаз»), 4) определенное вместо неопределенного («сто раз говорил»), 5) вид вместо рода; во-вторых дается целое вместо части: 1) единство, как множество: сел в «сани» — для наглядности; множество для возвеличенья: это и есть гипербола в тесном смысле; 2) дается род вместо вида, 3) целое вместо части.
«Гиперболизм», как тенденция, — скорее синекдоха; гипербола-собственно — ее вид; Буслаев видит в синекдохе количественный перенос признаков: от целого к части, от части к целому; Потебня допускает в синекдохе нюансы качественности; принимая эту поправку Потебни, я под гиперболой буду иметь в виду не гиперболу в тесном смысле, а тенденцию к усилению представлений и в сторону преуменьшения; буду разуметь — скорее синекдоху; верней, крайности ее логики (для простоты).
Группа повторов — прием усиления: перечисляются части искомого целого: «а» — то, «б» — то, «в» — то; значит: «г» и «д» — то; вывод — гипербола; вывод из вывода: весь ряд от «а» до «ижицы» — то; «ижица» упразднена; вывод — пуст; гипербола здесь — неправильное расширение за предел наблюденного; где обобщение верно, оно — художественно.
В повторе — генезис гиперболы Гоголя: «и наплечник в золоте, и нарукавники в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото» (ТБ); гипербола почти имманентна повтору; с «по поясу» начинается явно гиперболический рост: «везде», «все» (усы — не золото, кудри — не золото); но поскольку взято целое впечатления вместо части, в верности впечатления от
253
наряда — художественность гиперболы. Обычная для Гоголя цепь существительных — повтор с опущением повторного «и» — для гиперболы вывода: «в золоте — наплечники, нарукавники, шапка; и — так далее;» вывод: «в золоте все»; сюда: «волы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники»; вывод: «все ярко» (СЯ).
В другой группе повторов дано качественное напряжение впечатления вместо количественного обобщения: «а — ба — гг», где «б» и «г» — рост напряжения: из-за горы... хоромы... за ними еще гора, а... там..., а там» и т. д. (СМ); и — вывод: на сто верст не встретишь человека! Вот повтор, напрягающий качество: «добрый табак. Славный табак! Крепкий табак!» (ТБ); вот повтор, напрягающий взрыв, данный в разговоре кошевого с Тарасом: «Пора бы погулять...» — «Негде погулять». — «Как негде? Можно пойти на Туречину...» — «Не можно...» — «Как не можно?..» — «Не можно». — «Как не можно?..» — «А войне... таки не бывать». — «Так не бывать войне?» — «Нет». — «Так уж и думать об этом нечего?» — «И думать... нечего!» — Гиперболический вывод: «Клади палицу! Клади, чортов сын, ...палицу!» (ТБ). Сюда же ход на еще: «в старину любили... поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться»: а — бва — гбва (СМ); «странное... чувство овладело бы зрителем... Но еще страннее, еще... неразгаданней чувство» и т. д. (СЯ); «дивились..., но еще больше дивились» (СМ); «буду... моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу; еще ярче стану дарить» (МН); «еще более, еще лучше...; еще ослепительней» (МН) и т. д.
Словесный повтор, определяемый ростом силы повторного образа, называю я фигурой нарастания; она — гиперболическая синекдоха; она проходит по позе Гоголя.
В «СЯ»: чорт-свинья ищет красный лоскут, — «во всех окнах свиные рыла» (СЯ); и — вслед: «схватила... красный обшлаг свитки! ...Глянул — кусок красного рукава свитки... полез... в карман... и... вытащил кусок... свитки» (СЯ); в «СМ» — размножаются мертвецы: «Поднялся... мертвец... И опять вышел мертвец... Поднялся третий мертвец»; «увидел поднявшихся мертвецов от Киева. И от земли Галичской, и от Карпат»; во времени они размножаются; в пространстве растет их образ до... мертвеца мертвецов, трясущего страны; растут их ногти, растут их руки, растут их бороды: борода до пояса... Борода по колени... Борода по самые пяты» (СМ); рост повтора — повтор образов. «Шп»: размножается жена: «на стуле... жена... Гусиное лицо... Видит другую жену, тоже с гусиным лицом... В шляпе сидит жена... И в кармане жена»; и из уха — жена; и материя — жена: «возьмите жены» — предлагает приказчик. «ОТ»: из словечка «гусак» вылезает привидение; и оно — «гусак»; ползет сплошной «гусак» по жизни. «Н» — повторы — на слово «нос»: «вытащил — нос!.. Нос, точно, нос»; «видит он: нос! Хвать рукою — нос!.. Взглянул в зеркало — нос... И долго глядел на нос»; «к зеркалу — есть нос... В зеркало — есть нос» и т. д.; отсюда гипербола: «все, что ни есть», или нос — «сидит на
254
своем месте» (Н); в «ЗС» продолжается умножение носов, так что им отводится планета луна; «нос» Чичикова, оставшийся на земле гигантски вырос в Наполеона! В «НП» и в «К» — умножение усов дано в повторах: «усы, прекрасные, усы... чудные, ...усы... на которых» и т. д.; в «К» — вывод-гипербола: «усы... во всех местах»; в «МД» — «усы... на лбу». В «П» — размножение глаз, портретов, комнаты с портретами: «портрет двоился, четверился» и т. д. — до бесконечности (П); фигура наращения принимает вид ракеты образов: от данного — к «все, что ни есть»; таков монолог Хлестакова: «Я... захожу... сказать... а чиновник пером... — тр, тр... Раз меня приняли за главнокомандующего»; и наконец: «Я везде, везде». Весь «Рев» — фигура наращения: растет Хлестаков до... «расхлопа»; и растет ужас чиновников до пантомимного оцепенения: это сценически поданная гипербола. Позднейшие рассуждения Гоголя о «Рев» — фигура гиперболы, строимая над... гиперболой: «гипербола едет на гиперболе» в объяснении, что события в маленьком «городке — символы мирового домостроительства».
«МД» полны этой фигурой: «с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить иначе, нежели с тем, у которого триста, а с тем, у которого триста, будут говорить... не так, как с тем, у которого их пятьсот; а с тем, у которого их пятьсот, опять-таки не так, как с тем, у которого их восемьсот; и — вывод гипербола: «словом, хоть доходи до миллиона»: «будут говорить», «будут говорить», «у которого», «у которого», «у которого», «у которого», «у которого»; и — двести, триста, пятьсот, восемьсот... миллион!
Повтор жестов, рисующих косолапость, переходит в косолапость инвентаря Собакевича; вывод: «все, что ни есть» у Собакевича — вылитые «Собакевичи». Или: разрост грез Манилова о дружбе; наконец: все персонажи «МД» разращивают то или иное свойство.
И отменяя повторы, является всеобщий для прозы Гоголя повтор: гиперболический штамп-стереотип: «все»: «все опоясывались», «все вооружались» (ТБ), «все, как груши, повалятся» (НПР), все неслось и танцовало», «все... всплыло» (ТБ), «все исчезло..., все застыло», «все должно... померкнуть», «все кипит», «все живо» (Р), «весь город хотел... писаться» (П), «по всему свету исходи» (Рев); и — производное: «сколько ни есть», «все, сколь ни было их», «все, сколько ни есть, берите все, что у кого есть» (ТБ); «все, что ни было, садилось на коня», «все, что ни есть» — «продам», «отдам», «погублю» (ТБ), «сидит на месте» (Н), «в Петербурге», «встретите», «исполнено приличия» (НП), «требуй» (Рев), «мокро», «порывается кверху», «обратилось навстречу», «летит мимо» (МД) и т. д.; «все, сколь ни есть басурманов... сделались христианами», «все, что ни народится, заговорит о них», «на все, что ни случится, смотрят, ковыряя в носу» (ТБ); «менять все, что ни есть, на все, что ни есть» (МД) и т. д.
Примеры — горсточка от куч, которые образовались бы, если прополоть текст Гоголя; со второй фазы учащен ход «во всех отношениях»: «во всех отношениях» — «рассердился» (ТР), «существо»
255
(П), «модный» (П), «почтенный» (Н), «приятная дама» (МД) и т. д. Повтор-штамп переходит в привычку: мыслить пустой категорией и отштамповывать ею пустые места на тонком стилевом рисунке текста; с увеличением этих серых пятен просоряется яркое слово Гоголя.
Из «все» выводятся — «везде», «всегда», «всякий»; «всякий» — «проезжающий», «вздор», «как баран» (МД), «изыск» (Р); «всякого рода меха» (Ш), «всякое движение разрасталось» (Р); тоже — с «везде»: «везде» — «пустыри», «мостовая», «фестончики», «то же» (МД); «он везде между нами» (МД) и т. д.; тоже с «всегда».
На этих ходах обрывается фигура наращения; индукция переходит в неплодотворнейшую дедукцию не наполненных художественным содержанием категорий, сгрызающих, как мыши зерновые клади, словесность Гоголя; и отсюда — ликвидация хода: в обратном умалении преувеличений до размера предмета; и от него... до... нуля (обратное преувеличение представлений).
Вот несколько примеров этих синекдох; «кривившие, полукривившие и вовсе не кривившие»; «вы не знаете, кто... Копейкин?.. Никак не знают, кто... Копейкин»; «которые честны, сделаются бесчестными, и... которые удостоены..., обманут» (МД); был дом, «но он его продал», на вырученные деньги «купил тройку... лошадей и... бричку»; лошадей «променял на скрипку и дворовую девку», скрипку продал, а девку обменял «на сафьянный с золотом кисет»; вместо дома — кисет (ОТ); «чувства мелели..., каждый день что-нибудь утрачивалось... уходили... главные части... мелкий взгляд обращался к бумажкам; кла́ди... обращались в навоз» (МД); или: «в первую минуту не можешь не сказать: «какой приятный...» В следующую... ничего не скажешь, а в третью... скажешь: «Чорт знает что такое» (МД); или: «Прометей! высматривает орлом, выступает плавно..., как только приближается к комнате начальника, куропаткой такой спешит.., муха, меньше... мухи — уничтожился в песчинку» (Прометей, орел, куропатка, муха, меньше мухи, песчинка) (МД); земля Товстогубов приносила громадное количество продуктов, привозили в амбары лишь половину муки; «и эту половину привозили... подмоченную», обкрадывал приказчик, «жрали все»; свиньи истребляли огромное количество фруктов, клевали их воробьи, таскала дворня; сколько попадало в шинок; крали — гости; и все же было довольство: в остатке; но и он превратился в остаток остатка: по смерти Товстогубихи; по смерти «самого» остаток остатка реформировал родственник; остатком остатков был: рубль с имения; на него покупался кремешок (СП). Лейт-мотивы фигуры: «Пропало все..., как волдырь на воде», «просвещение... — фук!»; человек неприметен, «как муха»; и — мерли, «как мухи» (МД); «ничего не было... туман ошеломил» (Рев).
Вырастают антиподы стереотипов на «все»; и тоже — стереотипы: «никогда», «никак», «никакой», «нигде», «ничто»: «никогда» — «со мной не было» (Н), «талии... не было» (К), «не видывал», «не взглядывал»; «жалость не овладевала» (НП), «никогда не слыхали
256
уши», «никогда не ездил» (МД) и т, д.; «никак нельзя было дать», «никак не искали», (Ш) «никак не слушается язык», «никак не могут жить» (ЗС), «никак не хотел выходить из колеи» (МД). Гвоздит: «никакой»: «никакие... чувства» (СП), «никаким образом... не находил» (Шп), «никакого ответа» (П), «никакого уважения», «никакого внимания» (Ш), «никакого вида», «никакое перо не опишет» (ЗС), «никакого искусства», «никакою кистью не изобразимые» (НП), «никакого... слова», «никакого приготовления» (МД) и т. д.; или: «нигде не видывал» (ОТ), «арбузы, ...каких нигде не найдешь» (ОТ), «нигде никого» (СП), «нигде не останавливалось» (П) и т. д.
Не стану удручать перечнем «ничто»; стереотипы этого рода с силой выныривают во второй фазе творчества Гоголя (в первой — доминирует «все»). Между «все» и «ничто» бег ограничительных, уступительных, разделительных штампов; «все» — гипербола утверждения; «ничто» — гипербола отрицания; в третьей фазе часты стереотипы — ограничения «ничто» категорией «все»; и обратно: «несколько», «ничто», «в некотором роде»; они дают фикцию равновесия между гиперболическими тенденциями положительного и отрицательного рельефа; этот род трафаретов редок в «Веч»; он — чаще в бытовых повестях; «МД» им переполнено.
«Несколько рябоват... несколько подслеповат», кажется «несколько странным» (Ш), «несколько печальный вид», «с руками несколько похожими» (К), «несколько похожи» (НП), несколько на «с»; «несколько вольнодумен», «несколько пожилых лет» (Рев); «МД»: «несколько трудно», «несколько книжные», «несколько набок», «несколько неуклюжий», «несколько замасленный», «несколько потасканный», «несколько зарапортовался», «несколько поднял бровь», «несколько туг на ухо», «показался... несколько знакомым», «несколько обидно» и т. д. Фигурирует и «довольно»: «довольно жалкий», «довольно густым басом» (К), «довольно... важные», «довольно странное явление», «довольно интересное созданьице» (НП), довольно быстр» (Рев), «довольно красивая» (МД) и т. д.; часты ограничения: «повидимому», «кажется», «не без», «разве что», «нельзя сказать, чтобы» и т. д.: «не слишком гневно и не слишком благосклонно» (ЗС), «не слишком умно, не слишком смешно»; ограничение крайностей (преумаления и превознесения) без указания степени ограничения создает недоумения: в чем же пересекается пара ограничений? Фигура неопределенности под формой позитивного знания того, что есть предмет неузнания, — тоже повторный ход; называю его фигурой фикции; он создает фикцию отрицательной реальности; опровержением двух гипербол без данного между ними предмета гипербол; фигура фикции — третий тип замаскированной гиперболы.
Вот примеры фигуры фикции: «могущество силы, или могущество слабости», «большое искусство, или, лучше сказать, никакого искусства» (НП); «ни громко, ни тихо, ни много, ни мало» (Рев), «не слишком светлые и не слишком темные» (Н), «с одной стороны может влезать малорослый, а с другой... великорослый» (Шп), «птица не птица, гражданин не гражданин» (Н), «ни бури, ни
257
солнца» (П), «ни слишком толст, ни слишком тонок» (МД), «не так чтобы слишком толстые, однакоже и не тонкие» (МД), «как-то не то, чтобы совершенно не поняла...; но просто» и т. д. (МД); «у некоторых: это не то, что у всех» (МД); вместо зарисовки — «больше ничего, как что-то вроде» (МД).
Будто бы найденный меж «все» и «ничто» позитив — «больше ничего, как что-то вроде»; вселенная, в нем данная, — «больше ничего, как что-то вроде»; таких «действительностей» нет в действительности; и стереотипы фигуры фикции — гиперболы навыворот; уравновешенные ими тенденции раздувания лягушки в вола («все, что ни есть») и распыления прометеева огня в «ничто» песчинки вырываются вдруг наружу: и люди, описанные «не без приятности» и «довольно» умеренные («ни слишком толстые, ни слишком тонкие») весьма странно выявляют себя: Поприщин лезет в испанские короли, Хлестаков лопается в туман, Башмачкин становится призраком, майор Ковалев — носом; из Чичикова вылезает «червь»; все — вздор; все... бред; жизнь — фантасмагория уносящейся в никуда страшной тройки.
Если наполнить содержанием категории «все», «ничто», «что-то вроде чего-то», то в первой фазе «все» Гоголя окажется мелкопоместной Украиной (народностью, родом, прослойкой класса); «ничто» окажется окружением этой «вселенной с горошинку»; во второй фазе «все» расширено до «Российской империи»: наоборот, народность, род, класс в ней — дыра, за что Гоголя свергали в дыру позднейшие украинофилы; в третьей же фазе «все» — ни Украина, ни Россия, а душа человека, живущего в Риме, Австралии, в Москве, на Соломоновых островах; Россия же — провал, «ничто», который страшит Гоголя, которого он не знает; и жалуется на незнание, и приглашает «проездиться» по России.
В другом разрезе, в безличной «вседушевности», при попытке оконкретить ее, открывается «дыра», «ничто» в самом Гоголе, куда ухнуло творчество Гоголя; за ним — жизнь Гоголя. Мелкопоместный быт, внутри которого и галушки казались такими, «каких нет на свете», в диалектике социального сознания оказался лишь довгочхуновым чревом; он лопнул, не дав сознанию положительного эквивалента; крестьянство было неведомо Гоголю; «знать» не принимала его; смысл капиталистической культуры виделся дьяволовым наваждением: «Чортовым паром курят немцы» (МН); рабочий класс для Гоголя — мнимая величина; оставалось: пусто ограничивать фикцию другой фикцией; они оказались яркими, поскольку они выявляли: трагедию социального сознания «оторванца» от народа, рода и класса. Нуль, изобразимый нулем, — нуль; а «плюс» нечто «минус» оно же, — основа трагедии Гоголя, — создало единственный, неповторимый литературный прием, которым и написаны «МД».
Недоосознана тенденция гипербол-повторов: уничтожить класс, Гоголя породивший (поздней она осознана криво в попытке «возродить» класс) при помощи «красного словца»; поздней Гоголь ужаснулся тенденции, и бросился уничтожать «красные словечки», пародируя
258
жизнью собственный прием; верней: в приеме отражая действительность своего сознания; если бы тенденция «красного словца» в пучащемся, как облако, рое гипербол открылась ранее Гоголю, — не было б «художника» Гоголя: был бы Гоголь публицист, обладавший силой Белинского; он бичевал бы в своих статьях то, что со смаком показывал в повестях; осознав тенденцию, но не художественным сознанием, а сознанием «мещанина во дворянстве», Гоголь испугался тенденции; и другою тенденцией, присущей не ему, а классу, от которого уже оторвался он, стал уничтожать свою истинную тенденцию в публицистических опытах над живым творчеством, из которого выдалбливались теперь нудные тавтологии.
Мандельштам отмечает обилие синонимов, соединенных в пары; иные сносны и даже ярки: «чувствовал... чувство» (П), «запировал пир» (СМ), «червонели красные реки» (ТБ), «с этой историей случилась история», «пробегала мысль, пробегающая в голове» (П), «сила пересилила силу» (ТБ), «огнистое пламя» (ТБ); Мандельштам правильно замечает: иные синонимы — для извлечения из слова нового оттенка: «запировал пир», т. е. в самом «пире» взорвалось нечто столь пиршественное, что обычное представление о пире оказалось тусклым; «огнистое пламя», т. е. исключительно яркое; говорят: «чувствовал мысль»; что значит «чувствовал чувство»? Переживать его непосредственно и одновременно, не отдаваясь ему до конца, переживать оттенок именно данного чувства в отличие от другого; синонимы здесь, будучи разновидностями повтора, одновременно и гиперболизируют переживание, ярче его вычерчивая.
Позднее стирается всякая яркость в синонимических и тавтологических представлениях Гоголя; они — тщетное тщение; тенденция к гиперболизму оказывается топтанием на месте, потому что гипербола, достигши своих пределов в категориях «все» и «ничто», становится лишь логической категорией, применяемой пусто; вместе с нею гипербола, оторванная от почвы, теряет меру, ибо преувеличивать предмет можно пропорционально его размеру; пропорция нарушена, и — гипербола теряет свой смысл с того момента, когда становится логическим, всеобщим понятием; она — «сентенция», применяемая от ложной тенденциозности; дурная тенденциозность растет у Гоголя там, где учащаются до-нельзя его ходы от категорий; в первом томе «МД» — зловещие признаки перерождения гиперболизма в аллегорический сентенционизм; и с первого же тома «МД» — появление праздно толпящихся тавтологий; хорошо, когда Ноздрев отделан «со всех боков и сторон» (МД); плохо, когда вяло нагромождается «младенчество младенца», или «подробные подробности».
Второй том «МД» ужасает количеством пустых тавтологий; вот тавтологии, собранные мной с первых лишь страниц второго тома «МД»: «умудренные мудростью возымели влияния», «трехсотлетние дубы трем человекам в обхват» (по столетию на обхват — что ли?), «случилось... часто случающееся», «в траве дергает дергун», «прокуренный... куряка»; «Переписка», «Исповедь», позднейшая письменность Гоголя являют безобразия; заимствую примеры из книги
259
Мандельштама1: «бодрением и свежением», «он ободрил и освежил», «не торопитесь, не спешите», «бурлило и кипело», «оглянитесь и осмотритесь», «и криком... закричит настоящее», «воззови... в виде воззвания», «завопи воплем, ...чтобы... побежало все бегом» и т. д.
Тавтология последней фазы — от тщения разорвать предел гиперболизма, кончающегося возведением бесконечности в бесконечную степень, равную бесконечности, или дедукцией абстракций (лягушку дуют, а она не лопается); отсюда — реторика.
И реторика в руках художника — средство к воздействию; у молодого Гоголя ряд изумительных реторических достижений, как «Чуден Днепр»; здесь реторика — или преодолеваемый остаток литературного наследства, «высокий штиль», или реторический троп здесь есть парус, поставленный на ритме; он — мчит музыкально; Полевой не прав, видя в реторике Гоголя «высокобеспонятное летание»; когда же угашен ритм, и ветра нет — не спущенный парус обнаруживает лишь дряблость складок парусины; вихлянием переполнены отрывки 2-го тома «МД»: «было что-то ободряющее, что-то говорившее: вперед»; или: «пребывать в гордом покое невозмущенной души», «преподаватели с новыми взглядами, углами и точками зрения»; «ввели... в великолепный зал, ...походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства, трактовавшие о судьбах..., и увидел... легионы красивых и пишущих господ, шумевших перьями» (всерьез!); «под шумок самовара... читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил бог свою Россию, и... возвышенно пылко трепещет... сердце юноши»; «приподняв голову... к пространствам небесным, предоставлял обонянию впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного, певучего населения»; это не Марлинский (зачем его обижать?): это — в сто раз хуже Марлинского; это уже сам Кузьма Прутков: «По берегам... ходил красноносый мартын», — и чтобы не вышло недоразумений, что не «Мартын Карпов» с красным от пьянства носом, — прибавлено: «разумеется — птица, а не человек»; и — далее: «белел другой мартын, еще не поймавший рыбы». Просто идиллия с двумя «мартынами», поймавшим и не поймавшим рыбу (точно дядя Митяй и дядя Миняй); и уже хватаешься за бока, когда рассуждение о двух «мартынах» концовано восклицанием: «Творец, как еще прекрасен твой мир!»
Великолепно звучащую во втором периоде творчества иронию «Славная бекеша у Ивана Ивановича» превращает реторика третьего периода в сентиментальные вздохи о двух «славных» и «красноногих» мартынах — птицах, а не людях: «Творец, как еще прекрасен твой мир!»
Жалкие плоды оторванной от почвы гиперболы.
Первая фаза творчества Гоголя характеризуема ритмом и звукописью, кристаллизующимися в рябь повторов; вторая фаза являет картину расширенной клавиатуры повторов, комбинированных с другими
260
фигурами, повтором рожденными; в ней эмансипируется из повтора гипербола, найдя свое художественное выражение в гротеске; в третьей фазе редеет густая заросль повторов, размытых ширящимися обрывами, над которыми встает туман ограничительных слов, слагающих фигуру фикции; гипербола в этой фазе, перерождаясь в сентенцию, ищет себя осознать, как тенденцию смысла; сентенция оказывается не адэкватной тенденции спроса; предложенье, выглядящее пустою реторикой, отвергнуто спросом. Ритм Гоголя — основа стиля; повтор — основа слоговых особенностей; гипербола, повтором рожденная, — основа осознания Гоголем своего языка.
Гипербола у Гоголя — двойственна: как тенденция известного типа повторов, она — фигура речи, при помощи которой Гоголь достигает многого; как миросозерцательная тенденция, она — начало, разрушающее ряд достижений гоголевского мастерства.
В этой главке я пытался вскрыть тенденцию к гиперболе, как к фигуре, вырастающей из повтора, и заранее указать на опасности, лежащие в гиперболе, ставшей средством к тенденции. Тут и там гипербола гетерономна.
Теперь займемся особенностями гоголевских гипербол, как фигур, безотносительно к их генезису и к их судьбам.
ФИГУРА ГИПЕРБОЛЫ
Гиперболы Гоголя можно делить на количественные, качественные, изобразимые, не изобразимые, дифирамбы, гротески, содержательные и пустые; последние — итог ошибочного применения категорий мысли там, где действуют законы компановки.
В количественных гиперболах преувеличивается размер явления: если река, так уж «ширина» (СМ); сюда: «тучная ширина», «обширное лицо» (Шп), «гущина труб» (Р), «горы горшков», «горы дынь» (СЯ), «горы туч» (СМ), волосы поднялись «горою» (ВНИК), «масса листьев» (СЯ), «народу... куча» (СЯ), «наедут кучами» (ВНИК), «куча происшествий» (Р), «кучи денег» (П), «кучи достоинств», «кучи недостатков» (МД), «кучи яиц» (Р), «черные кучи запорожцев» (ТБ), нечистые тоже «кучами падают в пекло» (МН); «огромны» — размах (Р), усы (Ш), груди (МД); усы даже — «преогромные» (Ш); «громаден» — смычок (Р), «арбуз-громадище» (МД); исполины — «сапог» (МД), «замок» (МД), «барабан» (Р); и — «страшилищной величины скрипка» (Р).
Эти гиперболы пытается Гоголь представить в числах, увеличивая размер явления вдвое, втрое, вдесятеро, всотеро. Примеры: «выпивал... треть ведра», «чуб с пол-аршина» (Т), завертывал два раза за ухо оселедец (МН), «хата вдвое старее штанов волостного писаря», смех, как будто «два быка... замычали разом» (В), рыба такой величины, что «два человека с трудом вытаскивали» (МД), «цветы... утрояли запах» (К), свеча в «три пуда» воску (Рев), «усы в три яруса» (ТВ), трехсотлетние дубы «трем человекам
261
в обхват» (МД, 2), «портрет... четверился» (П), «на-четверо изрубленный» (ТВ), упрятывал в живот «фунта четыре сала» (В), «ел за шестерых косарей» (НПР); чернослив «по семи лет лежит в бочке» (Рев), «семерых изрубил, девятерых копьем исколол» (ТБ), «съедал девять пирожков, а десятый клал в карман» (ОТ); жиру в индюшке больше, «чем в десятке таких» (Шп), «поднял... пыль, как... пятнадцать хлопцев» (Т), «шестнадцать самоваров выдуешь в день» (Рев); Ноздрев клянется, что выдует семнадцать бутылок шампанского (МД); возле забора «навалено на сорок телег всякого сору» (Рев); «сто молотов застучало в лесу» (Т); «тысяча сортов шляп» (НП); «свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами» (СМ); снег свистит «тысячью саней» (НПР); «набег на пяти тысячах коней» (ТБ); «тридцать пять тысяч... одних курьеров» (Рев); пестрел «миллион афиш» (Р), «миллион народу... вздрогнул» (ТБ); «миллион казацких шапок высыпал на площадь» (ТБ).
Исчерпав численный ряд до миллиона, Гоголь прибегает и к бесконечности: «день... потерял конец свой», «бал,... потерявший конец свой» (ТБ), «глаз бесконечное государство» (МД), «комната расширялась... бесконечно» (Н); и прибегает к категории «все, что ни есть»; взяв приступом превосходную степень, силится опревосходить ее: «рассупэ́» (МД), «прекомедия» (Пред. 1), «наимилейшая... дочь» (В); и упирается в отказ от определения: неизмеримый, необъяснимый:1 «неизмеримая брика», «храп неслыханной густоты» (МД). Гипербола из категории количества переводится в рубрику неизобразимости; рубрика почтенна: «Какие смушки! Фу ты, пропасть..! Описать нельзя!» (ОТ), «путешествие, которое... никакое перо не опишет» (ЗС); «Нет!.. Не могу! Давайте мне другое перо!» (ОТ); «усы... никаким пером... неизобразимые» (НП); «где я возьму, кистей и красок... изобразить» (ОТ); «показало... кулак, какого ... не найдешь» (Ш); «кареты, какие никому не снились» (К); «рай, какого в небесах нет» (ЗС); супный пар, «которому подобного нельзя отыскать в природе» (Рев) (в природе нет супных паров); красота «невиданных землей плеч» (Р); «дела, которых солнце не видывало» (МД); «от самого создания, света не было употреблено столько времени на туалет» (МД); «сапог... размера, какому вряд ли найти... ногу» (МД); «силища, какой нет у лошади» (МД).
От отказа дать определение — к качественной окраске его: «ведьм... гибель» (Т); «гибель» — не «масса»; а «море» — не «гибель»: в нем бесконечность капелек; «море» — одно; «гибель» — другое, а «бездна» — третье.
Эту группу гипербол назвал бы я качественно-количественными; количество в них неопределенно; качество показано образом: «весь колебался и двигался живой берег» (ТБ), «туча дам» (НП), «красные реки» крови (ТБ), «море мотыльков» (НП), дам «водопад» (Н), «красное море запорожцев»; еще больше — океан: «океан благоуханий» (В); «океан блаженства»; потоп — океан, выступающий из берегов:
262
таков «потоп лучей» (Набр.), «потоп радости» (В); «потоп перьев» (МД), «потоп блеска» (Р), «вихрь журналов» (Р); «город... гром и треск» (НП); «гром... оркестра» (Р), «вопль музыки» (Р); не лошадь дышит, а дует — «ветер в щеку» (Ш); «Париж — жерло, водомет мод» (Р); и оп — «бездна бутылок» (К), «бездна... галстуков» (П); другое: «полки монахов» (Р), «эскадроны... мух» (МД), «легионы... господ» (МД, 2), «курени ломали бока друг другу» (ТБ); Василиса Кашпаровна Цупчевьска, вытянутая с колокольню: «не тетушка, а — колокольня» (Шп); совсем другое, когда размером с башню... «клистирная трубка» (Р).
Образность побеждает в качественной гиперболе, она — раздвоена на гротеск и дифирамб.
Гротеск силен, образен, даже... футуристичен: спал «весь день от обеда до вечера и от вечера до обеда» (К); «вареники величиною с шляпу» (НПР); сапог, «под тяжестью которого трескается гранит» (НП); ноздри — «по ведру... влей» (ЗМ); не губа, а — «пузырь» (В), не губы, а — «колоды» (Шп); рот «величиной с арку главного штаба», очки — «колеса... от комиссаровой брички» (МН); трубка — печная труба (МН); когда с ней идут — дым валит, как из трубы парохода (МН); о теле: «перина легла на перину» (Шп); штаны — шириною «с кадь» (НПР); «заняли собою половину двора» (ОТ); и наконец: раздувшись стали шириной «с Черное море» (ТБ); стол — «длиною от Конотопа до Батурина»; в карманы можно «целого быка поместить» (К); «поместилась бы лавка» (В); брюхо так наполняется, что забирают «для обеда весь рынок» (К); в нем — точно трубит полк (Рев); во рту ночевал «эскадрон» (МД).
Обутая и одетая гипербола — Петр Петрович Петух, Пацюк, Яичница, Довгочхун.
Гиперболизируется и довгочхунова прекрасная половина; она закусывает ушами заседателей (ОТ); у нее юбка — «с карманами, в которые можно было бы положить по арбузу»; у нее громадные груди; а талию нельзя прощупать (ОТ); она схватывает мужчин за носы, как за ручки кофейников (ОТ), и т. д.
Таково же и окружение: на дворе, где «лес бурьяну» (В); кибитка похожа на «хлебный овин» (В); в ней... «ездил Адам»; для нее «в Ноевом ковчеге был особый сарай» (Шп); парочка обменивается поцелуями «громче, чем удар макогона» (ВНИК); он — «такой длинный..., что в продолжение его было бы легко выкурить... сигаретку» (МД); за окошко и из миргородского садика раздается «гром соловья» (СЯ); где-то — «топот, похожий на гудение... грома» (МН): прохожие; «стук ножей» во флигельке Чартокуцкого «слышен с заставы» (К); в присутствии — скрип перьев: «как будто... несколько телег с хворостом проезжало лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями» (МД); это — «донос сел верхом на доносе» (МД).
Брюсов указывает: у Гоголя «гипербола села верхом на гиперболу»1; она выступает из берегов повтора, в котором она рождена, и
263
местами заполняет весь текст; если ритм — огонь Гоголя; звукопись — лава; повтор — она же, застывшая плодоносящими шлаками, то гипербола испарение всего стилевого ландшафта; из сплетенных гипербол растет изображаемый быт; и он то ужасен, а то — поэтичен в зависимости от рода гипербол, его строящих; «Рим» — результат деятельности гиперболических дифирамбов; «Нос» — результат гротеска; «П» и «НП» слажены противопоставлением двух гипербол: в «П» — два этапа в жизни художника, поданные в дифирамбе и в гиперболе пошлости; поданы и два артиста: Чартков и тот, о ком повествуется в конце; в «НП» — раздвои: Пирогов и Пискарев, проститутка и «Прекрасная дама»; два Невских: райский и адский.
Обе цепи гипербол проходят сквозь три фазы творчества; цепь дифирамбов смаляется во второй, становясь лишь средством к иронии; день гротесков поставлена во весь рост — здесь именно: в первой фазе она подчинена дифирамбу, или утаена под месячным романтическим блеском: «вместо месяца там светило какое-то солнце» (В).
Но и в первом периоде гротеск всюду рвет ткань из блесков — чортовым пальцем, указующим не на «благовонный пар галушек», а на то, что улица, где все валится и дряхлеет (ТБ), — как «вывороченная внутренность заднего двора» (ТБ), с хатой «вдвое более старых штанов волостного писаря», у которой окошко похоже «на подбитый глаз» (В), с шинком, повалившимся «на одну сторону, словно баба... с веселых крестин» (ПГ); и торчит в небе «шест... с привязанным... колесом» (ТБ).
Гротеск плетет быт Украины, показанной «героически» рядом с бытом романтики; он выныривает сквозь павший на него блеск, когда казак «залезает отдыхать... на печь» (ТБ); и кормит жирным телом мух (ТБ): с печи смотрит «на все, что ни случится, ковыряя пальцем в носу» (ТБ), «открывает рот» (В), «храпит на весь Киев» (СМ): от храпа «воробьи... подымались на воздух» (ЗМ); он выйдет на улицу обливать «людей на морозе» (МН) и «по привычке» утянет «старую подошву» (В): «свои... обдирают своих»; на войне путь его подвигов означат «избитые младенцы, обрезанные груди у женщин» (ТБ): «еще милость, когда сварят живьем» (ТБ).
Надоест дрыхнуть: «горелки побольше ..! Чтобы играла и шипела, как бешеная» (ТБ); «не мало поставили ведер» (СМ); «что скину, то пропью» (ТБ); «хватил полведра» (СМ); выпивал... разом по целому ведру» (НПР); от штанов разит спиртом (В); «выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц... танцует в небе» (НПР).
Отношение к женщине? За девками гоняются «гуртом» (НПР); «коли человек влюбится, он..., что подошва» (ТБ); «мало нужды до красоты» (НПР); «что это у вас, великолепная Солоха?» (НПР); «вздумал... ее пощупать» (В); «когда скину с тебя исподницу, то нехорошо будет» (В): «обабился..., сделался чорт знает что, тьфу!» (В); «когда стара баба, то и ведьма» (В); что лежит? «Как будто
264
два человека: один наверху, другой внизу...» — «А кто наверху?» — «Баба». — «Ну, вот это и есть чорт» (СЯ) и т. д.
«Облизывался, воображая, как он разговеется колбасою» (НПР), «съел один большого поросенка» (В); «понаедались так, что дивлюсь, как... никто не лопнул» (ТБ); «переели виноград» и «оставили целые кучи навозу» (ТБ), и кажется, что «в поле скверно, как в... брюхе» (В).
Как разрешает казак национальный вопрос? Еврей: «рассобачий жид» (ТБ), с преогромной губою, «свиное ухо» (ТБ), прячется «в пустых горелочных бочках» (ТБ), заползает «под юбки своих жидовок» (ТБ), «поднимая фалды полукафтанья» (ТБ) и показывая «прескверные» свои панталоны: «Перевешать всю жидову..!» (ТБ). «Ляхи»: «сволочь», «поганые католики» (СМ): «кинут в пламя твоего сына» (СМ); турки и крымцы: «сами знаете, что за человек татарин» (ТБ): кусается сзади «в пятки» (ТБ); цыган — «снюхался с чортом» («СЯ» и «ПГ»); украл «Ивася» (ВНИК); «москаль»: «дурень»; надо стеречь добро, «чтобы москали... не подцепили» (СЯ): «когда чорт да москаль украдут, то поминай, как звали» (ПГ): немцы — «проклятые немцы» (МН); чорт — «спереди совершенно немец» (МН).
Соберите эти штрихи; и быт станет ухающей гиперболой; собственная образина пугает казака: «принимал собственную свитку... за свернувшегося чорта» (ВНИК).
На эту гиперболу брошен сверху блеск дифирамба: как жар сияют алые штаны седочупрынного «батьки», прыщущего золотом, осыпающего врага искрами, бьющими из клинка дамасской сабли, произносящего речь о любви, какой «не было на свете», и умирающего за христиан, «какие ни есть на свете»; показывается: «беспечность забубенных веков» (Набр.)
Гиперболой-дифирамбом — усеян текст Гоголя.
Примеры: показывается «ослепительного блеска чело» (СЯ), на котором «молнии предприятий и замыслов» (СЯ); «попробуй взглянуть на молнию, когда... нестерпимо затрепещет она... потопом блеска: таковы очи» (Р); пальцы — «блистающие пальцы» (ТБ); «ослепителен гром соловья» (СЯ); «ослепительны стремительные удары солнечных лучей» (СЯ); ослепительны «изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых» (СЯ); ослепительны «эфирные ленты» у женщин (НП); ослепительны «ряды фруктовых деревьев... потопленных... багрянцем вишен... яхонтовым морем слив» (СП); блистательно «река, как цельное стекло», «обнажала серебряную грудь» (СЯ), и в нее «все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами» (СЯ): голубая, прекрасная бездна» (СЯ); а около — «темная, как ночь, тень, по которой... при... ветре... прыщет золото» (СЯ); «арбузы» кажутся «вылитыми... из золота» (СЯ); «золотые снопы хлеба» (СЯ); и — «золотые галушки» (НПР); «ослепительны» тоже «верхи шатров» и стекляшки, которые кажутся «огненными» (СЯ); горшки — «глиняные щеголи» (СЯ); смушки — «бархат!.. Серебро!.. Огонь!» (ОТ); мед — сияющий, «как слезы» (Пред. I); фрак — «наваринского
265
дыма с пламенем» (МД), и даже лужа — «прекрасная лужа» (ОТ).
Таков — день!
Он — ослепителен: он «потерял где-нибудь конец свой» (ОТ).
Ночь — «божественная ночь», «очаровательная ночь» (МН); Днепр — «без меры в ширину, без конца в длину», вспыхивает «будто полоса дамасской сабли»: «нет ему равной реки в мире!» (СМ); бог отрясает ризу: с нее сыплются звезды (СМ), «играя в жмурки» (НПР); и ведьма набрала их уже с «полный рукав» (НПР); вместо месяца светит «там какое-то солнце» (В); чорт о него обжегся и пососал палец (НПР); все спит «будто с открытыми глазами» (НПР), в «сладкой тишине» (МН); тени от кустов, как черные кометы (В); чернеет лес, «обсыпаясь... на оконечности... тонкой серебряной пылью» (МН); и «греются... на месяце» (МН); травы кажутся «дном какого-то светлого моря» (В); «те леса — не леса...; луга — не луга» (СМ); земля — не земля: середина земли «будто из хрусталя вылита» (ВНИК); дева светится сквозь воду как «сквозь стеклянную рубашку» (СМ); и на воде «как из огнива огонь» (СМ); из воды она выходит в убранной, «как ландышами луг», рубашке (СМ), с телом, свеянным «из месячного сияния» и «облаков» (СМ, В), бледна, «как блеск месяца» (МН) и шумит, «как приречный тростник»; перси ее, «как фарфор, непокрытый глазурью», просвечивают по краям; усмехается «потопом радости», «океаном блаженства»; уста-рубины «прикипают к сердцу» (В).
Такова ночь: «Небесно-ухающая, чудесная ночь!»
Такова песня: и ее бы «облить... сверкающим потопом... лучей; и да исполнится она нестерпимого блеска» (Набр.).
Таково все!
Таковы — «сказочная Шехеразада»... там, знаете, какая-нибудь Гороховая... мосты... висят этаким чортом,... без всякого прикосновения — словом, Семирамида, сударь» (МД); «ковры — Персия целиком: ногой, так сказать, попираешь капиталы... Драгоценные мраморы, металлические галантереи... Швейцар смотрит генералиссимусом, вызолоченная булава, графская физиономия, как... жирный мопс...» (МД); стоят Америки или Индии раззолоченные (МД), «рай», какого «в небесах нет» (ЗС); в нем одеваются: «от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет» (МД); «посмотреть бы на ту скамеечку, на которую она становит... ножку, как надевается на эту ножку «белый, как снег, чулочек» (ЗС) и показывается красота «невиданных землей плеч» (Р): «Амбра! Совершенная амбра!» (НП).
«Цветочный водопад» (Н) дам, примазанных «редчайшими сортами помад» (МД), показывается в платьях, «больше похожих на воздух, чем на платья» (ЗС), «более эфирных, чем воздух» (НП), и носится в этих платьях, «сотканных из воздуха», в белых, «как дым», башмачках, с улыбкой такой, «что... почувствуешь себя выше адмиралтейского шпица» (НП); дам таких, «готовых подняться на воздух» (НП), «так же легко и приятно поднять на воздух, как
266
подносимый ко рту бокал шампанского» (НП); «ах, — какая прелесть!» (НП); «как арфа голос» (НП); «ленты легче пирожного, известного под именем поцелуя» и «сеточки... под именем скромностей» (МД); тут и «невиданный землею чепец», и «павлинье перо»; и — трэн: трэн занимает половину церкви (МД).
За трэном — француз Куку (МД), и мсье Ноль (П).
Дама на рукавах, похожих «на два воздухоплавательных шара», несется в «сирене-серебряное небо» (Р), в воздух, блистающий «непостижимою голубизною» (Р), где «неслась аркада», «толпы играющих дворцов», где «арки водопроводов казались... как бы приклеенными на блистающем, серебряном небе», горы казались «фосфорными», где все «невыразимого цвета» (Р).
Вдруг снизу небо и воздух прокалывает не «петропавловский шпиц», а шпиц клистирной трубки «величиною с башню» (Р); «Ах, какой реприманд!» — восклицает падающая с небес дама, развея юбки; из карманов ее падают два арбуза (юбка «с карманами, в которые можно было бы положить по арбузу»); у нее обнаруживаются такие огромные груди, каких читатель не видывал; и обнаруживается «одна нога... больше всего туловища» (МД).
Клистирною трубкой впрыскивается гипербола осмеяния в неизобразимые воздухи, в «ах, — какая прелесть!» (МД).
Все — навыворот: «усы казались на лбу» (МД).
Обе цепи гипербол пересекают друг друга, отражаясь друг в друге; дифирамб из второй фазы выглядит, как гротеск издевательства.
Земли — нигде: зенит, надир; а то, что их строит, — отсутствует.
Два типа гипербол — кристаллизаторы двух стилей; как два магнита притягивают опилки железа, так и они определяют селекции черт: бредового ужаса и бредовой восторженности; повтор — квадрат основания стилистической пирамиды; гипербола — ее острие.
Но — две гиперболы, два острия двух друг друга прокалывающих пирамид, в квадрате романтики — точка гротеска, «чорт», или — левый глаз Гоголя, скошенный «не туда», когда правый — в сияние «нестерпимого» блеска; а в центре гротеска — сверк романтики: и тоска по «идеалу»; правый глаз скошен уже на прекрасное небо Италии; левый видит: провал «Ревизора»; где найти ось скрещения двух пирамид? Она выщупана — в третьем периоде: в гиперболах фикции, в преувеличеньи пошлятины: в «ни то — ни сё». Но — двоится и эта гипербола в показе серых фикций «МД» и в сентенции: над ними; и мы подходим к четвертому виду деленья гипербол: на содержательные и на формально пустые; пусты гиперболические сентенции категорий от «все», «ничто», «что-то»; ошибки — в миросозерцании Гоголя; отметка же стилевого влияния этого рода гипербол на текст — в предыдущей главке.
Замечательны гиперболы фикции; сфера их применения — «МД». Но Гоголь положил перо, отказавшись от продолженья «МД».
Острие гиперболической пирамиды вошло в сердце Гоголя: смерть Гоголя — самоубийство.
267
Со второй фазы кричит особенность зрения Гоголя: один глаз — дальнозорок; другой — близорук; один — отдаляет; другой — приближает; один — телескоп; другой — микроскоп. Нормальны лишь усилия интерферировать ненормальность: телескоп заставлял дам одевать платья звездного блеска; микроскоп — видеть зловонными ямами поры кожи; есть миры блеска; и поры кожи — пропасти в микромире; есть действительность обоих видов гипербол; только их нет в нам данной действительности; она в нас нормальна, когда она — нормальна в себе, когда мы нормально сключены с нею: это — наша сключенность с породившим нас классом; классовая прослойка, к которой принадлежал Гоголь, была мертва: раз; Гоголь оторвался от его породившего быта: два; усиливаясь с ним сключиться, он видел в нем дыры; и скашивался на далекие перспективы иных бытов, переживая их блеском; в усилиях же приблизиться к ним открывал: пятна на блеске; тоскуя о быте, тогда строил над дырами свою «прекрасную старину», которая не была прекрасна.
Двоякий гиперболизм — скрещение двух ножей: в месте сердца.
Пушкин был ближе к его родившему кругу, — коли не в сознании, то — в быту; и во-вторых: крупнопоместное дворянство не переживало еще такого смещения себя с центра; род же мелких помещиков обрекался на разорение, вдавливался в мещанство, или становился разночинцами: в крупных городских центрах; кроме всего: сознание Пушкина вооружено.
Все это в процессе осознания тенденции позволяло Пушкину обойтись без сильно действующих средств: гипербола — сильно действующее средство; неумеренное потребление ее и целебное действие превращает в яд.
Гоголь отравился гиперболами.
СРАВНЕНИЕ
Гипербола Гоголя — род обобщенного повтора с расширением представлений за пределы повторяющихся частей целого: к искомому целому; сравнение — переход от параллелизма, сопутствующего повтору, к установке аналогии: параллелизм до осознания коренящейся в нем аналогии — таков: «блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и беспокойна» (СМ). В повторе форм, строящих фразы, и знаков препинания — строжайший параллелизм: пары фраз начинаются с глагола и существительного; далее — запятая; и — союз «но» с прилагательным; две точки и — слова, раскрывающие фразы: «блеснул» — «проснулась», «день» — «Катерина»; день — «не солнечный»; Катерина — «не радостна»; «дождь сеялся» — «очи заплаканы»; сеялся — «на поля, на леса», на все; «вся она» — неспокойна; в параллелизм вкоренен ряд сравненьиц: блеснул, как проснулась; «нерадостна, как бессолнечность»; «слезы, как дождь» и т. д.; вынося «как — так» за скобки, можем сказать: «как блеснувший,
268
не солнечный день, когда небо хмурится и тонкий дождь сеется на поля и леса, — так нерадостна проснулась пани Катерина с заплаканными глазами, исполненная смутного беспокойства»; фразочки параллелизма стали сравнением.
Сравнение — результирует параллелизм, но в другом отношении, чем гипербола; гипербола обобщает до абстракции; сравнение имеет дело с конкретными образами, связывая ряд предметов в многопредметный образ; признак, общий ряду предметов, становится главным в образе сравнения; в предметах, строящих этот образ и взятых порознь, признак побочен; сравнение изменяет рельеф предметов; данный огонь — красен, ярок, трескуч, горяч, рассыпается искрами, летуч, быстр и т. д.; данный конь — черен, тускл, звонкокопытен, горяч, покрыт пеной, нервен, быстр и т. д.; строю сравнение: «конь, как огонь»; в данном огне и в данном коне подчеркиваются и связываются не цвет, степень яркости, звук, а горячность и быстрота; у коня эти свойства — выражение нервности; у огня — летучести; сравнение, включая ряд признаков, связывает предметы в других; аналогия для огня — «нервность» коня; для коня — «огненная летучесть»: обменявшись признаками, и огонь, и конь выглядят по-новому; можно сказать: «нервный огонь»; о коне можно сказать: «огненный летун». Если огонь — тускло рыжий, дымный, конь — буро-красный, покрытый серыми пятнами, то про огонь можно сказать, что он в «подпалинах», а про коня, что он в «дыму».
В других случаях берется не предмет, а каждый отдельный признак его сопоставляется с отдельным предметом; предмет, схватясь с рядом предметов, остранняется во всех своих признаках: каждый становится как бы отдельным предметом; в первом же случае все предметы становятся, признаками неданного, конструируемого: в новом качестве; «кудри, как зелень», «зелень, как кудри»; в итоге же — новое, неданное качество: «зеленокудрые»; и это — метафора.
Метафора подымает вопрос: есть ли аналогия — гомология? Есть ли сходство в расположении — результат общности происхождения; глаз моллюска аналогичен глазу человека; но глаз моллюска развивается из эпителия; глаз человека — отросток мозга; метафора — след древнего мышления, заключавшего: от аналогии — к гомологии; она таит пережиток мифа; взяв ее, как новое качество химизма восприятий, переосознаем ее смысл: она становится символом новой продукции; сравнение — промежуточная ступень: от параллелизма к метафоре, от аналогии к гомологии; в замене признаков по количеству рождаются синекдохи (с гиперболами); замена признаков по отношению рождает метонимию (время заменяется пространством, пространство временем, свет звуком, энергия другой энергией); научное мышление во многом развилось из уточнения вида метонимий; на аналогию меж метонимией и причинностью указывал Потебня1.
269
И метафора, и метонимия проходит стадию сравнения; сравнение — источник фигур изобразительности — коренится в параллелизме; тут необходимо наблюдение, описание и эксперимент; гипербола довольствуется наблюдением и описанием; она — вывод: без эксперимента; и оттого — она часто грешит, неправильно ширя образ; эксперимент сравнения — в метафорическом сплаве признаков в качественно новые; и в метонимической их обработке, рождающей художественную причинность.
Сравнение концентрирует ряд образов в образе сравнения; сравнение — мощное средство художественной лапидарности; оно — раккурс ряда силлогизмов; повтор лежит в основе архитектоники; сравнение — основа изобразительности; первый — раскрытие уха; второе — глаза.
Сравнения Гоголя вводят нас в мир глаза Гоголя.
В сравнениях Гоголя интересно, что̀ с чем сравнивается; или — один предмет сравнивается с рядом; или — ряд сравнивается с предметом. Пример первого случая: глаза, «как вечереющее солнце» (МН), «как огонь» (МН, СМ); «как молния» (Р), «как звездочки» (МН), «как искры» (ВНИК), «как выстрелы» (СЯ), «как клещи» (СМ), «репой» (МД), «как у вола» (ВНИК) и т. д.; каждое сравнение извлекает то или иное свойство; клавиатура описания глаза расширена рядом привлеченных предметов: солнце, молния, огонь, звездочки, искры, выстрелы, клещи, репа, вол и т. д.; в свою очередь «корова», «вол» становятся источником сравнения с рядом предметов: «экий здоровый бык» (В), говорят у Гоголя про мужика; «очи, как у вола» (ВНИК), «губы, как у вола» (ТЕО); смех, «как будто два быка... замычали разом» (В), «упрятывает галушки, как корова сено» (МН), шел, «тяжело дыша, как будто взвалил на себя дохлую корову» (СЯ); круг предметов и явлений (мужик, глаза, губы, смех, дыханье, обжорство) выявлен в коровьих свойствах; еще примеры: нос, «как пятачок» (НПР), «как топор» (Р), «как слива» (ОТ), «как пробка» (Н), «как пуговица» (Н); или: «конь, как огонь» (ПГ), рукав красной свитки, «как огонь» (СЯ), глаза в ряде повторяющихся сравнений, «как огонь» (у Левко, у колдуна из «СМ», у бабы, глядящей на пани Катерину, у ростовщика из «П», у ведьмы из «ВНИК» и т. д.), цветок, «как огонь» (ВНИК), отблески от весел, «как огонь» (СМ).
В сравнениях от предмета к предмету протягивается ряд нитей; предмет оплетается тканью пересечений; мир сравнений — организм; я бы его назвал организмом нервов; в то время, как сеть повторов образует мускулатуру слога, связуясь с ритмом движения слов в ухе, организация сравнений — нервная ткань, открывающая художественное зрение; в повторах параллелизма открывается способ расположения слов; в сравнениях — способ организации самих словесных представлений: в образы.
Гоголевские сравнения многосторонни; архитектонически их можно делить на сравнения, обнимающие период речи (фразу, ряд фраз), и на краткие, данные в придаточных предложениях на «как»,
270
«как будто», «словно», «точно», творительным падежом: «горами», «волнами» и т. д.; они даны, как метафоры («зеленокудрые»), метонимии («звезды отдаются в Днепре», «горячая, пуля»); ряд сравнений дан и в эпитетной форме: крапива — «змееподобный» злак; они даны существительным: «горшки» — «глиняные щеголи»; старость — «парикмахер»; даны и посредством слов: «сравнимы», «сравнительно» и т. д.
Другой род разгляда: сравнения, смыкающие (круг предметов с предметом) и размыкающие круг признаков одного предмета в признаки ряда предметов; когда этот ряд — целое, сравнения — гиперболичны; появляется космический фон предмета: «посинел, как Черное море» (СМ), штаны, «как Черное море» (ТБ), «красное море запорожцев» (СМ), толки, «как море в непогоду» (СМ), «море слив» (вм. «слив, что капель в море») (СП), водка льется, «как вода» (ВНИК), пот валится, «как дождевая вода с крыши» (ВНИК), кофточка, «как льющаяся вода» (К); образ моря берется как преувеличивающее обобщение; радость пани Катерины — солнечный день; глаза — небо; губы бледно алеют утреннею зарей, жалоба — как ветер «в тихий час вечера»; пляска ее сравнима с желаньем вылететь из целого мира; ее слезы — дождь; этот род сравнений слагает цельный образ; и он космичен; сумма сравнений особенно стилизует пани; так же космически стилизован образ Данилы, уподобленный синему Днепру; Днепр сопровождает Данилу; ему «все не мило», Даниле — тоже; синий Днепр, как жупан Данилы; золотые звезды отдаются в Днепре; отблещивает золотом синий жупан; Данило умер и посинел, «как Черное море»; в Черное море бежит синий, ропщущий, как Данило, Днепр; тут и подается картина Днепра: «Чуден Днепр»; колдун в подборе эпитетов и сравнений — красный; борьба его с Данилой подобна смешению огня с водой; но это — источник вулканических взрывов; ученые люди говорят: земля трясется: где-то около моря — вулканическая гора; старики знают лучше: под землей трясется нечестивый Петро; колдун — потомок его; Данило — рода «Ивася», которого Петро убил; тяжба родов воспроизводит легенду о Каине и Авеле; система сравнений ширит фабулу «СМ»; дан космический фон: борьба воды с огнем в подземных недрах; но недра эти — родовые недра.
Таковы ширящие сравнения Гоголя; они часто — мифы; в них гиперболизм телескопичен.
Другой род сравнений суживает предмет подчерком признака, превращенного в основной: для нужных Гоголю целей; микроскопическая зоркость вступает в силу: и целое лица — в одном случае «яйцо», в другом — «лопата», в третьем — «редька», в четвертом — «репа»; окно — «глаз», шинок — «баба» и т. д.; предмет неодушевленный сравнивается с одушевленным; или сложная организация сравнивается с простой: человек — с животным, с орудием. Таких сравнений больше всего; они — точны, измерены, взвешены; назовем их «техническими». (См. схему № 12.)
Можно дать иной род разгляда: 1) предмет сравнивается с
271
предметом («губы, как у вола»); 2) предмет сравнивается с восприятием (смушки — объядение); 3) восприятие сравнивается с предметом или действием его (темно, хоть в глаза выстрели); 4) восприятие сравнивается с восприятием (слышимая тишина).
Можно классифицировать сравнения и с точки зрения намерения: обезобразить, или облагородить: 1) грязь на босых ногах, «как сапоги» (МД); 2) башмачок, «как снег» (НП); назовем эти два рода: сравнение-гротеск, сравнение дифирамб («поэтическое»).
Можно еще делить сравнения на изысканные и простые.
У Гоголя преобладают сравнения, ограничивающие предмет концентрацией одного его признака; здесь два рода: сравнение с человеком, его действиями; или обратно: сравнение человека с животными, орудиями, с овощами. Бросим взгляд на этого рода сравнения.
Предмет сравнения — человек (антропоцентризм): миска «выказывалась хвастливо» (СЯ); горшки — «глиняные щеголи» (СЯ); «снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снежной куче» (ВНИК); «в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в казацких лапах» (ПГ); «скирды хлеба, словно казацкие головы» (ВНИК); «деревья, как охмелевшие казацкие головы» (ПГ); отсюда их «пьяная молвь», «деревья загремели зыбучею бранью», т. е. казацкою (ВНИК); кулак величиною с чиновничью голову (Ш); окно дома, «похожее на поднявшийся глаз» (В); «шинок, повалившийся..., словно баба с веселых крестин» (ПГ); «из трубы делался ректор» (В); из жареной бараньей головы делалась голова Басаврюка (ВНИК); повозка — «похожая на толстую купчиху» (ОТ), «на растрепанного жида» (ОТ); старость — пудрящий сединой парикмахер (СЯ); вода вздрагивает, «будто дитя в люльке» (МН); пруд, «как дряхлый старец» (МН); кусок, «точно городничий» (МД); все предметы в доме у Собакевича — «Собакевичи» («как Собакевичи») (МД); лысый Пимен держал кабак по прозванью «Акулька» (МД); колода карт — «Аделаида Ивановна» (Игр.); лошадь — «Аграфена Ивановна» (К); «играющая толпа стен, террас, куполов» (Р) и т. д.
Сравнения с животными, предметами обихода, продуктами сада переполняют страницы Гоголя; Переверзев их отмечает; он заключает из рода сравнений: Гоголь — выразитель мелкопоместного быта; отбором сравнений он выявил-де социальную сущность свою; преобладают предметы комнатного обихода помещика и его усадебного инвентаря (конюшни, птичника, огорода); такое заключение не всегда правильно; оно правильно отчасти: наиболее меткие определения даны сравнениями с наиболее знакомым кругом предметов; и если они — помещичий инвентарь, из этого-де вытекает: социальная сущность Гоголя; но Гоголь плохо знал историческое казачество; между тем: ударная масса сравнений «казацких» повестей дает ряд, не объяснимый инвентарем усадьбы; последний появляется там, где появляется сам помещик; где действует казак, там — ударны сравнения, которые не мог бы сделать
272
помещик: «турецкий игумен», отблеск, как полоса «дамасской сабли», вздрагивает, как «шляхтич в казацких лапах»; кровь — «драгоценное вино», «надречная калина», «конь, как огонь», кони, «как змеи»; это — казацкие сравнения; Гоголь смотрит на мир из глаз героев; кони, «как змеи, перелетели через обрыв» (ТБ): образ подан глазами Тараса, следящего, как под ногами его кони с невидными ногами, вытянутыми мордами и хвостами, слетают в воду: образ точно увиден; помещик так видеть коня — не мог; пьяная продавщица бубликов пишет ногами «подобие своего... товара», на свитке более дыр, «чем злотых в кармане»; Гоголь глядит глазами казака; ряд тонких сравнений проф. Мандельштам называет абстрактными; «профессор», сидя в кабинете, реально не изучал природы; деревьев не обхватывал он; и — показалось: дубы «трем человекам в обхват» — сказано не поэтично; у Гоголя прекрасны не одни сравнения с помещичьим инвентарем; но когда появляется Довгочхун, появляется и инвентарь помещика.
Все же доля правды есть в утверждении Переверзева; сравнивалось с тем, что запало в глаза с детства, которое протекало в усадьбе; лежит на дворе колесо; и очки — колеса «комиссаровой брички» (МН); урч — «будто кто колесами стал ездить» (В); мужики — смотрят на колесо: «доедет, или не доедет» (МД); за колесом — сама повозка, или — веер сравнений: всю жизнь «колесил», сидя в ней, Гоголь: вот похожая на «хлебный овин» (В), вот такая, что еще в «Ноевом ковчеге» ей отведено было место, вот «и бричка, и повозка вместе» (ОТ), вот «ни бричка, ни повозка» (ОТ), «зад широкий, а перед узенький» (ОТ), «зад узенький, а перед широкий» (ОТ), «похожа на ... копну сена» (ОТ), на «толстуху купчиху» (ОТ), «на растрепанного жида», «на скелет», «в профиле совершенная трубка с чубуком», «ни на что не похожа» (ОТ); вот коляска — «орех раскушенный», вот экипаж, похожий на «толстощекий, выпуклый арбуз», наполненный ситцевыми подушками и будящий будочника визгом «железных скобок и ржавых винтов» (МД); вот — «неизмеримая брика»; вот дрожки, которых «каждый гвоздик и железный винтик звенели», так что «были слышны и флейты, и бубны, и барабан» (СП); на этой — «следы желтой краски» (МД); та — «голубая карета», (Н); та — «пурпурного цвета» (Р); и ряд сравнений с этим необходимым предметом усадебного инвентаря: голова сидела в воротнике, «точно в бричке» (Шп) и т. д.
Изучен храп: «храпели, как коты» (МН), храп, «похожий на фабрику» (В), «храпел, как певческий контрабас» (МД), «свистели носами, как волторны» (ПГ), «храпит на весь Киев» (СМ), храп, как «кузнечный мех» (МД); стал «издавать через... носовые продухи такие звуки, какие» не приходят и композитору: «какой-то отрывистый гул, похожий на собачий лай» (МД).
Сделаем обзор служебных сравнений Гоголя; для краткости опустим «как», «словно»; для краткости не станем приводить цитат.
Вот один ряд: харя — «вывороченный кошелек» (МН); повозка — «трубка» (ОТ); «сам» — «кисет» с вытрясенным табаком (Ж), отблеск,
273
«как из огнива огонь» (СМ); чиновник — «кувшинное рыло» (МД); перси — «фарфор» (В); старушка — «кофейник в чепчике» (Шп); лицо — «аптекарский пузырек» (ЗС); поверхность пруда — «дно медного таза» (МД, 2); голова — «серебряное блюдо» (НП); лицо — «самовар» (МД); брюхо — «самовар» (МД); лужа — «ванна» (К); кушанье — «сапоги» (МД); грязь на босых ногах — «сапоги» (МД); усы — «сапожная щетка» (К); брови — «шнурочки» (СЯ); озаренные пожаром гуси — «красные платки» (ТБ); лунные пятна — «белые платки» (ОТ); бакенбарды — «черные платки», которыми лицо обвязано (ЗС); румянец — «алая лента» (СЯ); вареники — «в шляпу» (В); пыль — «фуфайка» на графинчике (МД); хвост — «фалда» (НПР) и «веретено» (ВНИК); волосы — «охлопья» (СЯ); брови — «траурный бархат» (ТБ); пыль мостовой — «мягкая подушка» (К); тело — «перина» (Шп); петушьи крылья — «рогожки» (МД) и т. д. Сумма предметов сравнений — помещичья комната; вот — рояль, фагот, валторна; чубук хрипит, «как фагот» (МД); свистят носами, «как валторны» (МД); бревна мостовой — «клавиши» (МД).
Много в усадьбах ели (и — Гоголь): как блин, — «погонщик» (В), «тюфяк» (МД); сгибал подковы, «как блины» (НПР); сени, пристройки, крыша на крыше — тарелка с блинами (ОТ); тюфяк — «лепешка» (МД); лицо — «яйцо» (ТБ), «свеженькое яичко» (МД); чорт жарит грешников, «как колбасу» (НПР); висит, как колбаса (ТБ); ручка, зубы — «сахар» (ТБ); таракан — «чернослив» (МД); коляска — «орех раскушенный» (Лак); мыльная пена — «крем» на купеческих именинах (Н); смушки — «объядение» (ОТ); дама — «бокал шампанского» (НП).
В комнатах много мух; и — «мухи»: гости на балу (МД), летающие пальцы (СМ), человек (МД), кафэйный лакей (НП), Акакий Акакиевич (Ш), чиновник (Рев), вообще «люди» (СМ); и жеребец скор, «как муха» (ТБ); и Вакула летит, «как муха», под месяцем (НПР).
Много сравнений с мухами!
Лицо — «огурец» (МД), «молдаванская тыква» (МД), «цыбуля» (СЯ), «буряк» (СЯ); нос — «спелой сливой» (ОТ); глаза — «репой» (МД); голова «редькой вверх», голова «редькой вниз» (ОТ); невеста — «крепкая репа» (Ж); «картофель, похожий на репу» (Шп); человек (МД), руки, похожие на «картофель» (К), экипаж (МД) — «арбузы»; сельдерей и петрушка, остается спросить, — не Селифан ли с Петрушкой?
Часты сравнения огородные.
И — целое животноводство!
Бараньи — «нечисть» (ПГ), «басаврюжьина рожа» (ВНИК); бычиные — мужик (В), очи (ВНИК), губы (ТБО); смех, — как мык «двух быков» (В); «упрятывает галушки, как корова сено» (МН), дышит, будто взвалил «дохлую корову» (СЯ); свиные свойства: Чичиков — «боров» (МД), чорт — свиноморд» (НПР), свинья (СЯ); «настоящий толстый кабан» (В); и наконец: «брат Копрян» (ка́прос — вепрь) (СМ); «петушиные рыла» (ПГ); человек — «мокрый петух» (Н); фламандский
274
мужик — «индейский петух в манжетах» (П); наконец — «Петр Петрович Петух» (МД); табак — «курица не чихнет» (НПР); Хивря управляет мужем, как он «кобылой» (СЯ); рыла — «лошадиные» (ПГ); храпели, «как коты» (МН); черные кучи запорожцев, «как шмели» (ТБ); ветви деревьев — как «лапы голубей» (СП) и т. д. Не стану перечислять всех животных усадьбы; сравнения с ними — идут в первую очередь.
Но есть ряд сравнений с другими животными: похож на «аиста» (ЗС); начальник отделения — «цапля» (ЗС); здание — «цапля» (ТБ); казаки — «орлы» (ТБ); Остап — «ястреб» (ТБ); Ганна — «рыбка» (МН); волосы — «как крылья ворона» (МН); «каркнет... во все воронье прозвище» (МД); «птицы» — ладьи (ТБ); «мошки» — города (ТБ); нос — «как снегирь» (ПГ); ведьма — «как волк» (ПГ); у Днепра — «волчья шерсть» (СМ); «змеи» — ко́сы (МН) и кони (ТБ); часы шипят, «как змеи» (МД); злак — «змееподобен» (СЯ); человек — «черепаха в мешке» (ЗС) и т. д.
Металлы, металлическое изделия, орудия производства фигурируют часто в сравнениях: голос звенит, «как медь» (Р); лицо — «каленая медь» (МД); речка — «вороненая сталь» (ПГ); железные — «когти» (МН), «лицо» (В); из золота — что угодно: тыквы, дыни (СЯ) и т. д.; серебряны — месячный свет, девичьи голоса, ячанья лебедей и т. д.; сердце — «ступа» (СЯ); поцелуй громок, как удар песта-«макогона» (СЯ); «тону..., как ключ» (МН); песий лай, «как звонок» (МД), поляк звенит злотыми, «как звонок» (ВНИК); нос с подбородком — «клещи» (ВНИК); из глаз — «клещи» (СМ); «сто мельниц стучит» (ПГ); храп — «кузнечный мех» (МД); свист — «мельница» (ОТ); шум голосов — «шестерни», «колеса», «ступы» мельницы (ОТ).
Двор с орудиями, зданиями, плетнями — фигурирует постоянно в сравнениях: повозка — «копна сена» (ОТ), «хлебный овин» (В); помещики — «живописные домики» (помещичьи же) (СП); дно горшка гладко, как «панский помост» (МН); горелка щипет, «как крапива» (ВНИК); штаны — «с половину двора» (ОТ); трубка дымит, как «печная труба» (МН); очко — «как колесо» (МН); «бочка» — человек (МД); рычит, «как из бочки» (Рев); «кадь» — штаны (НПР); лицо — «лопата», нос — «топор» (Р); жаркое — «топор» (Рев).
Усадьба — объект сравнений.
Сравнения полиграфические: рот «ижицей» (ОТ); писал ногами «покой-он-по»; Акакий Акакиевич ужимками передразнивает буквы и находит себя на улице, а «не на середине строки» (Ш) и т. д.; сравнения архитектурные: рот — «с арку Главного Штаба» (Н); красавицы — «палаццо» (Р); ноздри — «подъезды» (Рев); клистирная трубка — «башня» (Р); тетушка — «колокольня» (Шп) и т. д.
Я бы мог список утроить: довольно.
Сравнения этого рода — точны, выверены; сравнение голландца с индюком в манжетах, повозки с трубкой — раккурсы страниц: в строчки; сравнение в художественной литературе то, что диаграмма в научной статье.
275
Приведенный ряд можно брать под углами: 1) гротеска, 2) дифирамба, 3) изыска.
Очко-колесо, рот — арка Штаба, — гротески, соединимые с группой сравнений-гротесков: «дымил, как пароход» (МН); стал длиною «от Конотопа до Батурина»; штаны «с Черное море» (СМ); ноздри — «ведро воды влей» (ЗМ); в карман поместима лавка (В); я не привожу этого рода сравнений; в отметке гипербол-гротесков я, в сущности, очертил и их.
«Поэтичны» (дифирамбичны) иные из технических сравнений: «черный, как уголь, лес»; суть сравнения — в том, что «черный, как уголь, лес» пересыпается по краям серебряной пылью; один из видов точных сравнений лежит в группе дифирамбических; они сильны лишь в контексте — не сами по себе; привожу выдержки из отрывка «В»: «Сияние, как сквозное покрывало,... дымилось...; в ночной свежести было что-то влажно-теплое; тени от... кустов, как кометы, острыми клинами падали... Трава... казалось, росла глубоко и далеко... и казалась дном... прозрачного до самой глубины моря...» В этой картине русалка дана с облачными персями, матовыми, «как фарфор, не покрытый глазурью»; и они — просвечивают; и вода покрывает их, как бисером, пузырьками; в целом сила каждого сравненьица; тут есть и технические: «как фарфор, непокрытый глазурью»; и метонимии (раккурсы сравнений): вместо «как дым», — «сияние... дымилось»; сравненьица схватились в одно: «все..., как будто спало с открытыми глазами», и — «такова была ночь»; в отдельностях нет поэтичности «самой в себе»; прекрасен стиль целого.
Великолепны огненные сравнения Гоголя: «конь, как огонь» (ПГ), отблеск, «как из огнива огонь» (СМ), цыгане из трубок «осветили себя молниями» (СЯ); казаки обсыпали себя, «будто искрами», из сабель (СМ), «цветок развернул свое пламя» (ВНИК), смушки — «огонь» (ОТ), фрак брусничный «с пламенем» (МД); и он же — «дыма с пламенем» (МД) и т. д.
Ярки все звуковые сравнения: «девушки зашумели, как приречный тростник» (МН), «вопли едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики» (В); жалоба: «будто ветер в тихий час вечера наыгрывал по водному зеркалу, нагибая еще ниже серебряные ивы» (СМ); стон органа переходил в поющие звуки, напоминавшие девичьи голоса (ТБ); «яркое, как серебро, ячанье лебедей» (ТБ); слова хрипло всхлипывали, «как клокотанье кипящей смолы» (В); «звонкий дискант грамматика попадал... в звон стекла...» (В); или: «вам, верно, случалось слушать где-то валящийся, отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаос... неясных звуков вихрем носится перед вами... Не те ли самые чувства... обхватят вас в вихре... ярмарки» (СЯ) и т. д. В первой фазе преобладает мелодия звуков; и это соответствует культу музыки в Гоголе: музыка, как спаситель мира; и даже — «музыка пуль и мечей» (ТБ); Гоголь созвучен с романтиками; вспомним Тика, для которого и цветочные ароматы суть звуки, и «всякий изгиб...
276
членов — аккорд»; вспомним Шлегеля, по которому и письма Люцинды — «не письма, а пение»; вспомним Новалиса: «природа — эолова арфа», «метод... ритм», болезнь и выздоровление — «музыкальная проблема» и «музыкальное разрешение» и т. д. Звуковые сравнения «МД» и бытовых повестей — прекрасны, точны, изысканны: в звуках повозки «были слышны и флейты, и бубны, и барабан» (СП); «храпел, как певческий контрабас» (МД); а звуки дверей, издаваемые в домике Товстогубов? А звук носа Чичикова? «Труба, которая, когда хватит, покажется, что крякнуло в ухе... Точно такой же звук раздался» (МД); а бой часов Коробочки? «Шум походил на то, как будто вся комната наполнилась змеями... Тотчас последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку» (МД) и т. д.
Иные из, так сказать, «поэтических» сравнений необычайно точны и ярки: сравнение снегиря на снегу с щеголеватым польским шляхтичем (ПГ) оценит тот, кто наблюдал контраст между снежным ландшафтом и пурпурногрудой птичкой; сюда же: «черный монастырь, как... картезианский монах» (ТБ); гуси в зареве: «казалось, что красные платки летели по небу» (ТБ); над огнем вились... птицы, «казавшиеся кучею... мелких крестиков» (ТБ); «Днепр серебрился, как волчья шерсть» (СМ); дева светит сквозь воду, «как сквозь стеклянную рубашку» (СМ); «в белых, как убранный ландышами луг, рубашках» (МН); белая кофточка на теле, «как льющаяся вода» (К) и т. д.
Иногда сравнение просто и кажется даже бледным; «бледная... «как... блеск месяца» (В); сила — не в нем: в целом текста; бледная краска ярка контрастом с яркостью; или ее подчеркивает ритм, созвучный с целым, чего не понимает почтенный Мандельштам, относя ритмический лейт-мотив «СМ» к бледным сравнениям (?!?): «пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом» (СМ); сравнение великолепно, когда его берешь в связи с предшествующим ему абзацем. Таков ряд сравнений типа народных, от очень простых до очень сложных: «моя калиночка» (МН); «красная, как надречная калина, кровь» (ТБ); «пусть их живут, как венки вьют» (ВНИК); вода колеблется, «как дитя в люльке», и вздрагивает, «как польский шляхтич в казацких лапах» (ПГ); или: «где прошли незамайковцы, — так там и улица, где повернули,— так там и переулок» (ТБ); вот сложное сравненье по типу силлогизма (теза, антитеза, вывод): «Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина... Те леса, что стоят на холмах, — не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда... Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший... круглое небо» (СМ); изыск и точность спаяны с красотой.
Сильнее изыска простые сравненьица; как пролет в небо они: из хмури рельефов, подобно вспученным облакам; «дама, как весенний цветочек» (Н), «белый, как снег, чулочек» (НП), «платье... белое,
277
как лебедь» (НП). В хмури «Н» и в мороке «НП» — сравненьица — радующие глаз весенние цветки.
Дифирамбическим сравнением, как в литавры, бьет Гоголь на протяжении всей первой фазы; и свистит им, как в вышелущенные кости — поздней; «МД» переполнены хозяйственными, деловыми сравнениями; техницизм их бьет в глаза из самых «поэтических» страниц: даже губернаторской дочке посвящены сравнения ее с игрушкой «из слоновой кости» и со «свеженьким яичком» (МД).
Не стану утомлять читателя перечислением сравнений-изысков (за исключением двух-трех); они — всюду; изыск образа: ландшафт напоминает «картины Герардо» (ТБ); дороги расползаются во все стороны, «как пойманные раки» (МД); изыск восприятия: стулья, похожие на те, «на которые садятся архиереи» (СП); удовольствие, «как будто... жена... родила, или министр поцеловал» (ТЕО), так яге трудно отыскать, как «увидеть без зеркала свой нос» (ОТ); удовольствие от красноречия сравнимо с чесанием пяток (ОТ); собака, «накрыв лапою кость, заливалась..., как бы приговаривая: «Посмотрите..., какой я молодой человек!» (Шп); старушка, «совершенный кофейник в чепчике», смотрит с таким видом, «как будто собирается спросить: «Сколько вы на зиму насаливаете огурцов?» (Шп) и т. д.
Следует отметить ряд пространных сравнений, разрастающихся как бы для того, чтоб отвлечь внимание; но то — паузы, дающие вниманию отдых, чтобы с новой силой сосредоточиться; они подобны внезапному, бурному развитию аккомпанемента, во время которого голос молчит, чтобы вновь вступить: «Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкасских коней; но задумались они — как орлы, севшие на вершинах каменистых гор, обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными топкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя все поле и чернеющуюся судьбу свою» (ТБ).
К распространенным сравнениям следует отнести ряд лучших страниц прозы Гоголя. Весь отрывок «Чуден Днепр» — сравнение, сплетенное из сравнений; он кончается — пространным сравнением проводов матерью казака; в «МД» сравнение гостей на балу с мухами занимает около страницы.
Сравнение — лаборатория метафор: и — переход к миру глаза, к науке видеть; я бы мог продолжать описание стилистики Гоголя разглядом его метонимий, метафор, особенностей синекдохического переноса признаков и т. д.; полагаю: сказанного достаточно для очерка словесного мастерства; Гоголь многообразно фигурен; сила фигур — не в количестве их, а в слаженности целого, которого цель: концентрировать внимание наименьшей затратой слов при
278
максимальном их действии; и Гоголь врезывает свой текст в сознание наше, как резцом в доску; он — неизгладим; суть неизгладимости в том, что прием, вырастая из другого, им подкреплен; и удвоена сила действия; речь Гоголя — организм, показанный во всех фазах своего зародышевого развития: одновременно; ритм повторным ударом, как молотом, высекает блеск звукописи, как в «ра́дуга кра́дется»; из звукового повтора рождается словесный повтор; он им подкреплен; повтор членится в клавиатуру повторов; она двояко подкреплена: звуком и ритмом; повтор, как стебель, выкидывает из себя с ним сплетенные формы: параллелизм, контраст, обрыв, рефрен, кольцо, спираль и т. д., уже трояко подкрепленные: ритмом, звуком, простым повтором; гипербола Гоголя — есть вывод из сложного повтора, как его заострение; крепость ее остроты в том, что она — острие пирамиды, которой повтор — основание; осознание этого основания как аналогии (в параллелизме) рождает сравнение, лабораторию метафор и метонимий; сравнение же определяет и стили изобразительности, или мир глаза Гоголя, подкрепленные слухом; последнему я посвящаю следующую главу. Фигуры речи у Гоголя, как члены тела, — сплетенные из тех же основных тканей; они исполняют, каждая, свою функцию; но они связаны в целое ритмом и тонусом общего кровообращения.
Во всех повестях Гоголя те же элементы его слоговых ходов; но целое в каждом — своеобразно. Произведения «романтические» являют собой различие в конфигурации; «МН» и «НПР» — произведения, более всего связанные с литературным стилем, предшествующим Гоголю (высокий «штиль», сентиментализм и т. д.); «ПГ» и «ВНИК» выявляют уже всю силу особенностей гоголевского мастерства; основной прием здесь — сложение повторов и гипербол с вводным предложением (фигура «рассказчика»); стилистически они зрелее; «СЯ» занимает среднее место между первой и второй парой; в «В» и «ТБ» владение мастерством; великолепен организм гипербол и сравнений в «В»; в «ТБ» кроме того неподражаемы: жест и звукопись; но синтез приемов (повтор, гипербола, сравнение) в звукописи и последней в единстве ритма являет собой «СМ», этот перл первой фазы.
Так же своеобразны в подборе приемов последующие произведения. В «ОТ» сумма слоговых ходов индивидуализирована отбором отставов, повторов, сравнений, гипербол и превосходных степеней; но в рубрике гипербол «НП», «Рев» оспаривают «ОТ»; в рубрике превосходной степени оспаривают «ОТ» и «Р» и «НП»; но в комбинации сложного повтора с фигурой восклицания «ОТ» единственно; комбинация эта — стилевая ось. Такою осью в «Рев» является своеобразное сочетание целого словечек, фигурности глагольных форм и внутренних рифм с фигурами гиперболы и сравнения; «Р» — сгущение гиперболизма эпитетных форм, переходящих в реторику; для «Ш» типичны: высокопарица, фигура косноязычия, странности языка и ходы на «ничто», «никто»; «П» — засилие прилагательных, эпитетов на «не», эпитета «странный»; в нем часто
279
нагромождение существительных. «МД» — своеобразное целое, сплетенное из обилия нагромождения существительных, тавтологий, повторов, соединенных с фигурой обрыва и умаления; часты повторы фигуры фикции и хода на «несколько», «не то» и т. д.; между прочим: в «МД» растут грамматические неточности; в «ЗС» — особое сочетание высокопарицы, афоризмов с фигурою фикции. В «НП» иное сочетание гиперболы с повтором, чем в «ОТ»; и иное применение превосходной степени, обильной и в «Р», где она — всерьез; в «НП» — дифирамбическая форма — фигура несоответствия; в «Р» — ее цель: соответствовать содержанию.
В особом сочетании слоговых ходов рационализирован стиль каждого произведения Гоголя, познаваемый в целом не в анализе этих ходов, а в анализе науки видеть, или глаза Гоголя.
Следует отметить один... дефект Гоголя, едва ли оказывающий влияние на впечатления от стиля его прозы; Гоголь не владел «грамматикой» русского языка; он владел языком, как никто, постоянно провираяся в формальной грамматике; примерами его провиров, обильных, но почти незаметных в тропической роскоши языковых форм, закончу я эту часть моего обследования.
НЕТОЧНОСТИ ЯЗЫКА
У Гоголя ряд неправильных выражений; Гоголь сам признавался: в Риме он забыл русский язык; значит: грамматически никогда я не знал его; это подчеркивает его талант: и без грамматики совершать в языке революции.
Неправильны падежи: родительный вместо винительного: «не играл в... тесн-ой баб-ы» (вм. тесн-ую баб-у) (Шп); «хотите послушать бел-ой голов-ы» (ТБ), «беречь его, как глаз-а сво-его» (СП); неправильно: «четыре пламенн-ые года» (вм. «пламенн-ых года») (Р), «четыре чудн-ые вида» (Р); «сорок пуд сбрасывает» («пудов») (Рев), «несет так-ая капуст-а» («так-ой капуст-ой) (Рев); куль, что ли, несет капуста? «Не едал... суп-у» (вм. «суп-а») (Рев); «следить... этак-ую наук-у («за этак-ой) (МД); два «сахарн-ые зуба» («-ых») (ТБ); «закабалил себя кропател-ем... бумаг» (вм. «в кропател-и») (МД); «шесть огромных томищ-ей» (вм. «томищ») (МД); «заметн-о был-о потемнев-ших двуглав-ых орл-ов» (вм. «заметн-ы был-и потемневш-ие двуглав-ые орл-ы») (МД); «такое, которое нельзя... разобрать» (вм. «какое») (МД); ужас: «Солнц-ы» (МД); ужас — француз не скажет: «та-ща на плечах медвед-и,... крыт-ых; сукном» (МД); «таща» — сомнительно: «таск-ая», «потащ-ив»; не говорят же «тащ-ащий»; и — стало быть: не может быть «таща».
С глаголами — плохо; серия невозможных причастий: «чит-аемые события» («прочитываемые») (Р); «в голове, захлопотанной посевами» (К); говорят: «наполненной хлопотами о посевах»; ужасно: «был... узрет» (МД); ужасно: «были хлопнуты» (МД); ужасно: «был испущен» («выпущен») (МД); «были укладены» (вм. «уложены») (СП); «хвосты, зовомые у собачеев» (МД) — вопиющий скандал;
280
«не прилгнувши, не говорится никакая речь» (Рев); «прилгнувши, речь говорится» — кем? Кто — «прилгнувши»? Речь — «прилгнувши»? Бессмысленно во всех смыслах.
Ужасны деепричастия: «сообраз-я все обстоятельства» («сообраз-ив») (Н); «спиш-ась с ним» («списав-шись») (Ш); «ход-я по улице» (вм. «идучи») (Ш); «яв-я в лице» (вм. «яв-ив») (МД), «брос-я» (МД), «впер-я» (МД); «предло-жа» (МД). Гоголю неизвестно: не все деепричастия имеют сокращенные формы; и что за форма: «будет поле..., обмывшись... кровью и покрывшись... саблями» (ТБ)? Можно: «будет... омытое и покрытое»; можно: «будет — поле»; «омывшись» — но́нсенс.
Путаница в видах, в залогах; «Пробовал... укорять» (вм. укорить») (МД); «не спори-вал» (вм. «спорил») (МД); «острил-ись над ним» («острили») (Ш); «над ним» могли «остриться» — горы, или... карандаши; «белил-ись кухни» (МД), — известкой? а Гоголь разумеет: «белели»; «клевал-ся носом» — не петух, а человек (ОТ); действительный залог вместо страдательного: «свихну-ть с ума» («-ться») (Рев).
Ряд уродств и несогласований: «сердце... знало, куда приехало» (МД): сердца не едут на пароходе; едут люди, у которых сердца сидят в околосердечной сумке, не предпринимая никаких шагов к путешествию («дайте два билета: мне и моему сердцу!»). «Сделал привычку» (МД); ее — «приобретают» («делают» — пироги с капустой); «привел рот в прежнее положение» (приводят в конюшню коня) (МД); «приобретал» не деньги, а — представьте: «шишку на затылок», а не тюбетейку (МД); «болтал-ось четыре полы» («-ись»); «земская полиция... значительное лицо... чуть не умер» (Ш); некто — «полиция», названная «лицом»; стало быть: род либо женский (полиция), либо средний (лицо); что некто мужчина, только подразумевается, но без прав грамматического гражданства; нелепо: «разбудивши в нем нервы» (МД); «желчное расположение осенило» (МД, 2), «случая, сделавшего влияние», которое «оказывают» (МД); «всякий дразнит начальника» — означает: перечит; «корчит» — значит: нелепо подражает; соединить в одно «дразнит и корчит» — нельзя; в «Ш» именно так стоит; «не любит говорить, и молча глуп» (Рев); в каком смысле «молча»: «мо́лча» (наречие), или «молча́» — деепричастие; в первом случае — неграмотно; во втором — тоже неграмотно: без запятых; да и: «молча́» — не говорят; «виделся про́чь — далеко на небе» (ЗМ). Прочь — от чего? От глаза? Значит, и вовсе не виделся.
«Запропастить себя в деревню»: во-первых — «в дерев-не»; во-вторых — «запропаститься»; в-третьих — не для чего «себя» (МД); «визжал по поводу... кипятка» (из-за) (МД); «следя глазами пропадавшую в небе галку» («за... галкой») (Шп), «приглядывался на баб»: «к бабам» (МД).
Частое употребление «выключая» (вм. «кроме») напоминает мне латинистов, ломавших язык малышам, и учивших переводить «способный относительно пения»; «Никого не было, выключая только
281
мешки» (ВНИК); «выключая только мальчишек» (НП), «выключая разве» и т. д. Выключателями пестрит текст.
Не ладно с глаголами!
Не ладно с союзами; союз пропускается, создавая невнятицу: «делается, что... родились, еще не видывали» (ВНИК), вместо «а еще» и т. д.
Всюду «предложный» спотык, как с «бабами»: «на баб» вместо «к бабам»; «не об этом дело» («не в этом») (Шп); «смотри мне» (вм. «у меня») (СП); «стосковалась за человеком» («по») (СП); «при боку» («на») (К); «дотащился... в пятнадцатую линию» («до... линии») (П); «глядит... к нему во внутрь» («ему во внутрь») (П); «устремлялись каждому внутрь»: «во внутрь»; «вступившие на полдень» (вм. «в полдень») (К); «опасаться насчет припадка» («припадка») (Ш); «надумал он в себе» (МД), и «подумал... сам в себе» (ЗС); сидеть — самому в тюрьме — хотя неприятно, но можно; сидящий же «сам в себе» подобен Мюнхгаузену, самого себя поднимающему за косицу; если бы каждый находил жилищную площадь в себе, разрешился бы квартирный вопрос; «кланяется перед директором» (ЗС) — кому? Идущему перед директором? «ударила зубами в зубы» (вм. «по зубам») (В); не себе, другим «дают в зубы»; «все, что ни есть на тебе» («в тебе») (В); совесть не стол, и не вешалка, как это можно заключить по Гоголю: «чист на своей совести» (а «под» совестью — не чист?) (МД); «ростом в теленка» («с теленка» (МД).
Косолапы наречия: всюду «так», «как», «никак», где по-русски говорится «такой», «какой», «никакой»: «никак, не имел духа» («никакого») (Шп); «сделались так редкими» (СП); «появление... так показалось» (ОТ); сон представлялся «так... жив» (П); «лица не так заметные» (МД) и т. д.
Галлицизмы, полонизмы, украинизмы можно бы собрать в мухоловки: они, как мухи, жужжат из текста; по-русски ли: экипаж... «дорожное произведение»; по-русски ли: «тонее» («тоньше»), «ни с того ни с другого» (вм. «с сего»), «ни на что не имело подобия» (МД); «мальчик... полузадумчивого свойства» (МД); сказать: «преподаватели... с углами и точками зрения» (МД, 2) все равно, что сказать: «преподаватели с параллелепипедом зрения». Досадует обилие форм «возник-нуло», «проник-нуло (МД) (вм. «проникло»); «украинизм: «тут не можно пропустить» (Шп); галлицизм: «видели... в хорошем юморе») («en bonne humeur») (Н); не по-русски: «лет пяток» (К), «отлично хорошо», «нежели если бы» (НП); после этого можно: «тем не менее, однакоже»; «в гневном положении»; существительное «положение» характеризует страдательность; гнев — «состояние»; неловко сказать: «бедственное состояние»; надо сказать: «положение»; наоборот: гнев — «состояние», а не «положение».
Ряд уже просто нерасплетаемой чепухи; потрудитесь разобрать, что значит «набежит на лбу гугля» (СП); если «гугля» род женский, то — что значило бы правильное «набежит на лоб»? По комнатам, что ли, бегает «гугля», набегая на стены, стулья и лбы? А надо
282
сказать: «набежит на лоб», потому что «набежит на лбу» — означает: на лбу бегает «гугля»; но «гугля» — родительный падеж от слова «гуголь» (по типу «фреск», «дрязг», «средний век»); и тогда фраза бессмысленна: кто — «набежит на лбу гугля»; и как это у себя на лбу себе ж набегать «гугля»? Бегать, что ли, по собственному лбу и натирать на пятке трением о лоб «гугля»? И в этом случае падеж был бы неправилен. Я — отказываюсь объяснить мистическое происшествие с «гуглем»; спросите у Товстогубихи, лечащей «гугли» настойками.
Или — «по коридорам несет такая капуста»; что такое она «несет»? Прислуга Маланья может нести и суп, и штаны; капуста — лишь собственный запах; и надо сказать: «несет капустой»; вот фраза: «несет такая капуста..., что берешь нос» (Рев); и хочется спросить: не нос ли ему принесла капуста эта? «Берешь-ся за нос»; в одной фразе — два языковых ужаса; и — не в набросках, а... в отработанном «Ревизоре». Стиль Гоголя — мимо грамматики: до и после; грамматика — некто в сером: стоит и уличает; а Гоголь и без нее — великий стилист; стиль не обусловлен грамматикой; грамматика — сводка правил: от сих пор — до сих пор; она — временна; во времена Гоголя не говорили «лет пяток», а в наши дни говорят «пара дней» (точно «пара гнедых»); грамматика грамматикой, а стиль стилем, или выражаясь словами Гоголя: «хлеб — дело печеное, а нос совсем не то» (Н).
283
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГОГОЛЬ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ И В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
ГОГОЛЬ И НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА
Чернышевский определил реформу, произведенную Гоголем, как реформу самого языка; язык прозы явил в нем не только новые формы, но и возможность к формировке талантов, от Гоголя независимых; такая характеристика роли Гоголя разрешает противоречие: Гоголь — отец послегоголевской литературы, т. е. Тургенева, Григоровича, Толстого, Достоевского, Островского, Салтыкова, Лескова и прочих; и они же, взятые, как независимые друг от друга и Гоголя.
Черышевский объединил эту группу, как «натуральную школу»; анализ стиля писателей этой группы дает право сказать: общее между всеми не Гоголь, а отход от него: сдача натурализмом, растянувшимся длинной фалангою от Толстого до Писемского, гиперболических позиций и отход от превосходной степени к положительной.
В обе стороны преувеличили мысль Чернышевского, которой нерв — антиномия: 1) зависимость от Гоголя; 2) оригинальность, т. е. независимость; тщетно тщились вывести по прямому проводу из стиля Гоголя, Толстого, Тургенева, позднего Достоевского, далеких по стилю от него; потом впали в обратную крайность: отрицали и внутреннюю зависимость «натуральной школы» от Гоголя; он-де гиперболист; гиперболизм-де натурализму чужд (Брюсов, Венгеров). Но Чернышевский указывал лишь на использование гоголевских языковых средств так, что из них литературный талант мог извлекать новые, ему нужные качества; из пушкинского языка не извлечешь этих качеств; он — результат усилий XVIII столетия создать «литературный» язык; язык Гоголя открывает эру новых возможностей, влагая в литературный язык народный язык.
Язык Гоголя стал прорастающим в колос зерном в противовес усатому пустоцвету тенденции третьей фазы. Чернышевский прав в оценке Гоголя, в языке которого не только выявилась возможность к разноокрашенным талантам, но и к разноокрашенным школам; язык Гоголя толкал натуралистов, романтиков, реалистов, импрессионистов и символистов, скликался с урбанистами и футуристами вчерашнего дня.
Парадоксально: протест против эпигонов «натуральной школы», всем обязанной Гоголю, шел во многом и не всегда сознательно под
284
знаменем того же Гоголя; символисты в поэзии любили себя выводить из Тютчева; в прозе же иные из них отправлялись от Гоголя; многообразие возможного понимания образов Гоголя протянуло их во все школы. Для иных Толстой, Достоевский значительней Гоголя; но оба замкнуты в рамки «Собрания сочинений»; вне его влияние обоих ограниченнее; школы обоих, иссякши в начале XX века уступили место разливу «гоголизма».
Отметив огромность влияния Гоголя на всю нашу литературу, и перейдя к отметке влияния в тесном смысле, — видишь: Гоголь, мало влияя на Тургенева, — таки влиял в прямом смысле: тургеневская разработка пейзажа — не что иное, как перекраска до фотографии общих линий его, прочерченных в «МД» (плюшкинский сад, ландшафт имения Тентетникова и т. д.); иные из типов Тургенева — трудолюбивая докраска мутных контуров «простокваши» второго тома «МД» (Хлобуев, Платонов, Тентетников); из контруа Улиньки выпорхнула тургеневская героиня; тургеневская романтика (описание разметавшейся полупрозрачной Эллис из «Призраков») — прямое и обезвкушенное заимствование из «В» и «МН»; в фабуле «Песни торжествующей любви» явный след фабулы «СМ».
Несомненно: повтор жестов, заостренных, сухо-четких, героев Гоголя, как прием, был подхвачен Толстым; и в хорошем смысле онатурален, согрет; Толстой придал гибкость повторному жесту Гоголя; у Толстого же жестовой повтор — могущественное средство художественного воздействия; во всем прочем (в типах, в природе, в изображении хозяйств) — ничего общего. От Гоголя заимствовал Салтыков концепцию своего гиперболизма, но облек ее в плоть посредством других слоговых ходов; и применил ее к зарисовке своих «помпадуров» и «помпадурш», которых он видел зорче Гоголя. В каком-то смысле Лесков уронил гоголевский культ словечек, пропитав их вульгарностью.
«Натуральная школа» дала новую ориентацию многим гоголевским приемам; но в целом стащила язык Гоголя с позиций превосходной степени на позиции положительной; позиция процвела здорово, наполнившись реализмом не без непроизвольного символизма в одном Льве Толстом; в целом «натурализм» продешевил себя в статике ненужного фотографизма и в нереальной олеографии, — продукте кабинетного писания с натуры; к 80-м годам совершенно выдохся он в романах Писемского и в сенсационной бездарице Боборыкина.
Лишь ранние произведения Достоевского насквозь «гоголичны» в организации слога, стиля, сюжета; их трафарет — вторая фаза творчества Гоголя: петербургские повести и главным образом неповторимая картина гоголевского Петербурга; Достоевский дорисовал ее в одной лишь черте: в тумане мороков; принято думать: оригинален-де Петербург Достоевского; оригинальность же его не в том, что Достоевский прибавил к гоголевской картине свое, а в том, что из гоголевского Петербурга убрал он лучшие страницы, ему посвященные Гоголем. Где у Достоевского блеск описания зданий, перекликающийся
285
в манере с будущими футуристами? Достоевский его утопил в тумане своем; но и этот туман взят из «Н», «Ш», «НП»; про Петербург Достоевского можно сказать: в нем одна сторона гоголевского Петербурга, выступив из берегов, затопила целое картины; и в этом затопе выявила себя, как оригинальную. Можно сказать: молодой Достоевский выюркнул всецело из Гоголя.
Этому выюрку посвящаю я главку —
ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
Словесная ткань Гоголя расплетаема на элементы (ходы): сюжетные, жестовые, словесные. Во второй фазе всюду у Гоголя появляется с одной стороны безродный, бездетный, безбытный чудак, вброшенный в марево петербургских туманов и развивающий в уединении дичь: мономан Башмачкин, юный Чартков, сумасшедший Поприщин, опиоман Пискарев; с другой стороны юркает безлично-серый проныра и плутоватый пошляк (Ковалев, Пирогов); среди этой компании бродят отчетливо демонические фигуры: неумолимый доктор, украшенный смолистыми бакенбардами и дающий «большим пальцем щелчка» (Н), и подозрительный ростовщик.
Эту тему подхватывает молодой Достоевский, которого «Двойник» напоминает лоскутное одеяло, сшитое из сюжетных, жестовых и слоговых ходов Гоголя: те ж бакенбарды, ливреи, лакеи, кареты в дующем с четырех сторон сквозняке; «не останавливающий на себе... ничьего внимания»1 чудак Голядкин подобен незначительному, «как муха», Башмачкину; тот — довольно плешив; этот — «довольно оплешивевшая фигура»; тот — подмигивает, подхихикивает, потирает руками; этот «улыбался и потирал... руки» (141); «судорожно потер... руки и залился тихим, неслышным смехом»; «трусил... мелким, частым шажком». Башмачкин, выживи он и рехнись, как Поприщин, влюбленный в дочь «его превосходительства», стал бы Голядкиным, влюбленным в Клару Олсуфьевну; как Поприщин, ворвавшийся в комнату «предмета», Голядкин ворвался на бал и пытался с возлюбленной отхватить польку; Голядкин договорился до иезуитов; Поприщин — до испанских дел; Башмачкин косноязычит: «того-этого»; Голядкин косноязычит: «ничего себе», «стою себе»; тема ж бреда Голядкина взята из «Н» с тем различием, что нос Ковалева стал статским советником другого ведомства; двойник же Голядкина, вынырнувший из подсознанья патрона, явился на место службы его, чтобы выгнать со службы; там ужас, что нос убежал; здесь, — что двойник прибежал; картина встречи Голядкина старшего с младшим — взята из «Ш»: та ж метель, но с дождем; «ночь... дождливая, снежливая, чреватая... жабами» (162), которую и схватил Башмачкин: Голядкину надуло не жабу, а... двойника, привидением, на него напавшим; Башмачкин же обернулся сам нападающим привидением.
286
Доктор Рутеншприц, лечащий Голядкина, «весьма здоровый..., одаренный густыми... бакенбардами» — доктор из «Н» («смолистые бакенбарды», «здоровая докторша»); его сверкающие глаза, имеющие «необычайную силу», — «необыкновенно живые» глаза ростовщика из «П»; он — рок, умчавший своего пациента в карете, подобной порищинской тройке: «Несите меня с этого света» (ЗС).
Бал у Берендеева, дамы, скандал — сколки с бала у губернатора и скандала с Ноздревым из «МД»: «Как... изобразить... эти игры и смехи... чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам... с... лилейно-розовыми плечами» (152), — сколок с гоголевской дамы в платье, более похожем на воздух; «обед отзывался чем-то вавилонским»: это — «Персии и Индии раззолоченные» (МД); тот же гиперболизм, те же повторы: «Такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут даваться... в таких домах, как дом... Берендеева: я даже могу сомневаться, чтобы... могли даваться такие балы» (140); ни одного своего слова: Гоголь! Гоголевский Петрушка остался Петрушкой (служитель Голядкина), сохранив равнодушие и словесную задержь Петрушки Чичикова.
Те ж бакенбарды, цвета, что у Гоголя во второй фазе: там при обилии красных тонов рост серых и желтых, дающих в смешеньи коричневый тон; в «Двойнике»: «грязноватые, закоптелые, пыльные стены..., диван красноватого цвета с зелененькими цветочками... день, мутный и грязный» (125); в «Хозяйке»: «желтые и серые заборы,... здания почерневшие, красные»; смешайте эти цвета; и получите — коричнево-бурый, типичный для второй фазы Гоголя. И та ж костюмерия: «зеленая, ... подержанная... ливрея с золотыми... галунами и с зелеными перьями, а при бедре... лакейский меч в кожаных ножнах» — выписка из «НП»; а штрих: «для полноты картины, Петрушка, ... был... босиком» довершает сходство с Гоголем.
Еще более общности в слоговых ходах; по Гоголю: 1) нагроможденье глаголов: «все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, — ...замолкло, ... столпилось» (156); «струи.., прыскали..., и кололи, и секли»; повтор союза: «и того, и сего... — и пошел, и размазался»; 2) скопление существительных: ночь, чреватая «флюсами, насморками, лихорадками, жабами» (162); 3) повтором злоупотребляет молодой Достоевский без умения Гоголя разнообразить повтор: «Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович,... смирный человек,... но... Крестьян Иванович, я не мастер... говорить... я говорю... Крестьян Иванович» и т. д.. (134); «я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю: я вас совершенно понимаю»; этот гоголевский ход тройного повтора форсирован Достоевским. Первая фраза первой повести Достоевского («Бедные люди») — Гоголь: «вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, до-нельзя счастлив»; «Дв» переполнен тройным повтором: «до времени, до другого времени..., до более удобного времени» (137); «с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством» и т. д.; 4) гоголевские формы превосходной степени пестрят текст Достоевского; гоголевское «весьма» превращается у
287
Достоевского в «крайне»: «крайне неприятно» (143); «крайне бестолковое» (148), «в крайнем волнении»; 5) тот же ход на «все»: «все, что ходило..., замолкло» (156); «все, что ни было в зале, заволновалось»; «все, что ни есть, ... смотрит... на него»; 6) частит по Гоголю слово «странный»: «довольно странная сцена» (136); «странное, весьма неприятное ощущение» (141) (точно фраза из «П»); «произошла какая-то странная перемена... глаза как-то странно блеснули» (136) и т. д.; 7) обилие словечек «что-то», «как-то», «несколько», «в некотором роде», подобных фигуре фикции Гоголя: «довольно сухо, но впрочем учтиво, объявил, что-то вроде того, что он как-то не совсем понимает..., что, впрочем... готов..., но что...»; 8) то же чувство неведомого: «бичуемый каким-то неведомым чувством»; «в неведомом... томлении» (338); «поразила... неведомым впечатлением» (337); 9) те ж внутренние рифмы: «дождливая, снежливая, чреватая флюсами... всех родов и сортов»; «все стояло, все выжидало, немного подальше зашептало; немного поближе захохотало»; «истощающая... и не выделяющая» и т. д.; 10) то ж употребление аллитераций: «прор-ываемые ве-тр-ом с-тр-уи... пр-ыскали»; «тр-усил по тр-о-т-уа-р-у»; 11) те ж гротески фамилий, имен и отчеств; «Клара Олсуфьевна», «Шписс» с дочерью «Тинхен», доктор «Рутеншприц», княжна «Чевчеханова» и т. д.; 12) то ж наращение впечатлений с раздробом жеста на атомы: вместо «запнулся и обмер» — вот что: «запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом — и обмер» (156); в такой до скуки утрировке роняется жест Гоголя; 13) тот же прием усиления через «еще»: «снег валил еще сильнее..., фонари скрипели еще пронзительней: ...ветер... еще плачевней, еще жалостливее затягивал... песню»; 14) тот же подчас напевно-ладовой расстав слов: «тоскливую песню свою»; «упала... в изнеможении сил на кресло»; «встав с занятого им без приглашения места»; этот прием — ткань «Хозяйки»; 15) гоголевская любовь к словечкам без гоголевского вкуса в их выборе; любовь к уменьшительным: ужасная «маточка» переполняет «Бедные люди»; «Белые ночи» — перегруз уменьшительных: Макар Девушкин докучно сюсюкает: «ваша улыбочка, ангельчик,... добренькая улыбочка... Помните, ангельчик,... пальчиком погрозили... какова ваша придумочка»; 16) гоголевское смещение приставок: «пришаркнуть» вместо «под-»; «заплата» вместо «уплата» и т. д.; 117) гоголевские гримасы; «паркеты лощить», «комплимент раздушенный», «поднести коку с соком» и т. д.
Все это — Гоголь1.
Отмечая повторы, словечки и ряд перепевов из Гоголя в «Дв», Виноградов подчеркивает: первая сцена «Дв» имитирует первую сцену из «Н»: «Голядкин очнулся» (Дв); «Ковалев проснулся» (Н); Г. —
288
«потянулся» (Дв); К. — «потянулся» (Н); Г. «скачком выпрыгнул из постели» (Дв.) — выскок Чичикова из постели, и т. д. Виноградов подчеркивает обилие в «Дв» глаголов совершенного вида («юркнул», «шаркнул», «шмыгнул» и т. д.), как у Гоголя; и переклик с Гоголем во фразах: на Голядкина устремили «полные ожидания очи»; обратило на меня полные ожидания очи» (МД); Г.: «Эх, ты, фигурант... этакой, ...дурашка ты этакой»; Чичиков: «Ах, ты, мордашка этакой!»
«В» и «СМ» инспирируют Достоевского в «Хозяйке»; тут и ходы, общие всем фазам Гоголя (повтор, нагромождение и т. д.), и ходы, частые для «Веч»: фигура отстава продиктовала здесь свой речитатив.
Сюжет «В» и «СМ» вплетен в «Хоз»; Хома Брут в пустой церкви отразился в сцене встречи с хозяйкою: в церкви; церковь пуста: «море блесков» гаснет на иконостасе; но «чем чернее... мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали... иконы, озаренные» лампадами и свечами; Ордынов «в припадке... тоски и какого-то подавленного чувства... поднял глаза, и... любопытство овладело им» (Хоз), — реминисценция «В»: «церковь наполнилась светом. Вверху... мрак делался... сильнее, и... образа глядели угрюмей... Он отворотился...; но по странному поперечивающему себе чувству,... не утерпел... не взглянуть...» (В); Ордынов поднял глаза на Катерину: яркость «резко отражалась на сладостном контуре... лица ее...», «слезы кипели в ее... глазах, опушенных длинными... ресницами»; охватила «ненасытимая», «сладостной болью» отдающаяся, «истощающая всю жизнь» страсть (Хоз). Краски — из «В»; «резко... отражалась» (Хоз), «резкая красота» панночки (В); «длинные... ресницы» (Хоз) и «длинные, как стрелы, ресницы» (В); «ненасытимая..., сладостной болью» истощающая страсть (Хоз); и — в чертах «видел что-то страшно-пронзительное» (в другом месте «бесовски-сладкое») (В); «слезы кипели в ее... глазах, опушенных... ресницами» (Хоз); и — «из-под ресниц ее покатилась слеза» (В), и т. д. После восторга — «какая-то бессильная злость» (Хоз); это чувство — присущее оторванцам Гоголя.
Хозяйка — не труп, а сшедшая с ума под гипнозом не то мужа, не то родственника (по возрасту она ему дочь); он бывший разбойник и предсказатель; болезнь Ордынова точно взвивает настоящее; из-за него — встает разбойничий эпос; ночью по реке плывет челн (колдуна из «СМ»); колдун терпит кару за то, что шпион; Мурин карается не за разбой, а за мелкую контрабанду; «Хозяйка» — отклик «СМ»; мотив ведьмы переходит в мотив пани Катерины (хозяйка — Катерина); и у нее голубые глаза, голубая кофта, и напевный стиль речей, подобный стилю пани Катерины, — голубоглазой, щеголяющей голубым платьем. Она как бы — пани Катерина, согласившаяся на брак с отцом.
Речи ее — напевы: «Волюшка хлеба слаще, солнца краше. Вставай, голубь мой, вставай... Не бывать мне твоей... Не мне, родной, быть твоей... Другой такой не нажить тебе» (акцентуация
289
местоимения); Ордынов подтягивает распевочным ладом ей: «Кто ты, кто ты, родная моя?.. точно сон кругом меня... Кто ты, кто ты, радость моя?.. Расскажи мне все про себя...» К.: «Я родную мать погубила!.. Я ее в сырую землю зарыла».
Мурин показан Достоевским в тонах и колдуна, отчасти и ростовщика: «длинная, полуседая борода» (ростовщик); «из-под нависших бровей взгляд огневой, лихорадочно воспламененный» (колдун); на шее — красный платок (красный жупан, красная свитка); желчный взгляд его врезан в бред Ордынова: «злой старик... следовал всюду... кивал из-под... куста... отогнал светлых духов, шелестевших... сапфирными крыльями»; «неведомый старик держит во власти... его грядущие годы» (Хоз); вспомните: «сделалось страшно... кто-то... глянет через плечо» (П); «портрет... четверился в его глазах...», «портреты» глядели отовсюду: «комната», в которой они висели, «продолжалась бесконечно» (П); злой взгляд «сверхъестественной силой удержится» (П); Мурин — списан с ростовщика и с колдуна Гоголя; колдуна жжет пламень; «кто бросил в... невыносимый пламень» — проходит в Ордынове; колдун показан в чалме средь старинных оружий и книг; Мурин — средь старинных книг, образов, мехов и ковров: «ярость исказила лицо его... Сверкнуло дуло ружья»; раздался выстрел; это — как: «мушкет гремит, — и колдун пропал за горою» (СМ); Катерина обнимала «сверкающей, как снег, рукою» (Хоз) (рукой сквозных героинь Гоголя); она глядит, «как бирюзовый купол неба», глазами; таковы глаза души пани Катерины в миг, когда «с чудным звоном осветилась светлица» (СМ); и, конечно ж, — у Достоевского: «Музыка поразила слух его».
Мелочи «Хозяйки» — перепевы «В», «П», «СМ».
В другом, никем не отмеченном плане — связь Достоевского с Гоголем: не воплощенные душевные жесты гоголевской романтики воплотились в более поздних романах Достоевского; «поперечивающее себе», «бесовски-сладкое» чувство оторванцев, изображенных Гоголем, выявилось расколом сознания разночинца Раскольникова. Преступление перед обычаем стало темой «Преступления и наказания»; Басаврюк, влезавший в Петруся, влез в Ивана Карамазова чортом от Смердякова, сына «смердящей»; в нем Петрушка («сходил бы в баню») сросся с Чичиковым; та же проблема Наполеона (Чичиков — в профиль Наполеон), взятая Гоголем в жутком комизме, инсценирована Достоевским в жутком трагизме.
Гоголь показал отрыв от рода, как преступление прохожего молодца; «прохожий молодец» — мелок у Гоголя; Д. силится дать ему титанический облик и врастить в современность; он показывает всю глубину «поперечивающего себе чувства» героев Гоголя, которого дна никто не видал; у Гоголя «провал» не наполнен психическим содержанием; «по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, он не утерпел... не взглянуть» (В) — ничего более; Д. реально вскрывает душевный быт, вырастающий из антиномии: «Не гляди!» — шепнул...
290
внутренний голос... Не вытерпел и глянул» (В). То же и в героинях: Гоголь не вскрыл антиномии; он обрисовал лишь лицо: «лицо с... невыразимо приятной издевкой» (НПР); Д. показал, что именно жжет женскую душу — в Грушеньке, Настасье Филипповне, Неточке и других: типаж Д. показывает на роль рода и класса в болезнях нарушителей и нарушительниц заветов. Д. проявляет не проявленную Гоголем и проецированную вспять жизнь личности, — в современность, даже опережая ее; «прошлое» Гоголя становится в Д. близким будущим. Гоголь, как слепой, ощупывает пальцами поверхность тайны в Петрусе, который все что-то хотел «припомнить»; тщетное припоминание это Д. превращает в трезвый разгляд, отчего бездонный провал становится наличием этой вот личной жизни; Андрей преступает обычай: «отчизна есть то, чего ищет душа»; в ту же минуту — крик ляхов: «спасены!» Тут и подписывается ему приговор: быть расстреляну! В нем перекрещены: тематика Гоголя с тематикой Д., ибо тезис Андрея, — преступить, или не преступить, — тезис лучших романов Д.
Уединенному гоголевскому «чудаку» и плоть, и кровь дает тематика Д.; Пискарев разглублен в князя Мышкина; Пирогов овеществлен и вытянут во весь рост в... Рогожине; вопрос «НП» — «проститутка» или «прекрасная дама», жизнь или мечта, — выявлен в мятущейся жизни Настасьи Филипповны, «прекрасной дамы» для Мышкина, «гетеры» для Рогожина; в Соне Мармеладовой «прекрасная дама» унижена социальным неравенством до проститутки; а в Грушеньке по существу «гетера» героически приподнята: решением следовать на каторгу с Дмитрием Карамазовым.
Романтика «нежитей» женского персонажа (утопленница, албанка Анунциата и т. д.), показанная болезнью в пани Катерине, и разложившаяся в «ведьме» через «Хозяйку», воплощена в персонаж Д., как женщина «великих порывов», которую всю жизнь зарисовывал он; она у него реальна в болезни: от хозяйки — линия вперед: к Настасье Филипповне; и в назад: к пани Катерине (все три — нервно больны); албанка Анунциата, воплоти ее Гоголь, не Катерина ль Ивановна из «Братьев Карамазовых»? На Грушеньку падает отблеск «ведьмочки». В романтике Гоголя предощущена «неистовая» героиня Достоевского. Традиционную украинку в Гоголе она преломила вальтер-скотизмом, традициями Стерна, увлечением «неистовой школы» (Матюрин, Жюль Жанен) в некий облачный, подобный скачу, полет. Достоевский, подхватив этот скач Хомы с ведьмой, его осадил; и он оказался и скачем тройки Дмитрия Карамазова с Грушенькой на кутеж, во время которого Дмитрий был схвачен, и погоней Рогожина... за Настасьей Филипповной, убежавшей с Мишкиным.
Достоевский сорвал месячную вуаль традиционного романтизма с гоголевских героинь «первой фазы»; под ней оказалась реальная женщина, показанная в больном, но «великом порыве» эмансипации от традиций.
291
Так ранний Достоевский вытек из стиля зрелого Гоголя; а поздний Д. — из тематики раннего Гоголя, сведенной с облаков: жизнь.
ГОГОЛЬ И СОЛОГУБ
Конец XIX века — апофеоз Толстого; первые годы XX-го — апофеоз Достоевского (в книгах Розанова, Мережковского, Шестова, Волынского и др.); у Мережковского Толстой и Достоевский — геркулесовы столбы культуры: меж ними лишь — проход в будущее; Гоголь был заслонен всеобщим интересом к «столбам»; труд Мандельштама (анализ языка Гоголя), вышедший в 1902 году, был заглушен совершенно заливистым рыком Д. С. Мережковского о Чичикове.
К исходу первого десятилетия нового века из-под «столбов» Геркулеса в сознании выросли: Пушкин и Гоголь; «Мелкий бес» Сологуба воспроизвел иные черты стиля Гоголя, отворяя их с выдержанностью квази-пушкинской прозы; «гоголизм» Сологуба имеет тенденцию перекрасить себя в пушкинизм; и Пушкин, и Гоголь условны у С; тем не менее: интересен симптом: ход на Гоголя, минуя Толстого и Достоевского.
В Брюсове, в Белом, наоборот, кричаще разъяты: Пушкин и Гоголь; Брюсов — пушкиноподобен в «Огненном ангеле»: усилием овладеть экономией средств пушкинской прозы; от «Симфоний» же Белого, настоянных на Метерлинке и прозе Ницше, в «Серебряном голубе» остались... рожки да ножки: Гоголь в нем съел и Ницше, и Метерлинка.
Как могло такое случиться?
Гоголь, будучи лабораторией языковых опытов, не замкнут каноном; он — почва взаимнооспаривающих школ; «натуральная школа», вытянув несколько граней его, в эпигонах противопоставила себя другим граням; в исходе лишь ее из Гоголя казалось, что целиком он воплотим в ней; но натуральная школа разрисовала передний план «МД»; у Гоголя он овеян фигурой фикции.
Наряду с натурализмом в Гоголе живы моменты, ставшие позднее тенденцией борьбы символистов, инструменталистов, импрессионистов с крайностями натурализма, переобремененного статикой; эти моменты у Гоголя долгое время не виделись; в начале века они явно бросились нам в глаза.
Виноградов указывает: до декадентов Гоголь дал под влиянием де Квинси образ декадента-опиомана: звуковая метафора, соответствие звуков, жестов и красок, культивируемое эстетикою романтизма1, напевность, — все то, чем поздней модернисты были притянуты к Верлэну, к Рэмбо, к прозе Ницше, — оказалось у Гоголя налицо.
Натурализм, дав шедевры в романах Золя, затопил в эпигонстве себя; против него ополчились французские символисты, провозглашая
292
динамику, музыку в пику цветным открыткам, метаморфозу восприятий одних чувств в другие; они приучили к восприятию чуждых «отцам» оттенков стиля, открывшихся и там, где «отцы» ничего не увидели; тут корень по-новому интереса и к прозе Гоголя.
Я дал ощупь некоторых сюжетных деталей «СМ» и «МД»; не придется доказывать, что реализм Гоголя непроизвольно насыщен символизмом; я показал роль звуковой метафоры в гоголевском языке; не придется ломать копий за то, что лозунги Рэмбо до ник были Гоголем вобраны, так сказать, под шумок; я показал его ритмы аллитерации; смешно не видеть, что лозунг Верлэна о музыке в поэзии не был чем-то самим собою разумеющимся для Гоголя.
Когда это всплыло для глаз «модернистов», иные из них, некогда следовавшие за плакатами западных бунтарей, оказались в круге влияния Гоголя, заменившего им семинарий по Ибсену, Метерлинку, Верхарну, Уайльду и Ницше; результат семинария тут же сказался, как рост «гоголизма».
Нет связующей их традиции Гоголя с Сологубом; анализ же ходов С. и вопрос, куда чалит проза «Мелкого беса», методом исключения (не к Толстому, Достоевскому, Лескову и Салтыкову) заставляют признать: она — не без Гоголя, которого в истоках сологубовской прозы нет; нет и в сознании, протянутом к Западу; тем не менее Гоголем транспарирует «МБ»: в предисловии вскрылось и «горьким смехом моим посмеюся», и «нечего пенять, коли рожа крива»; непроизвольно реставрировались «Мертвые души» — миром провинциальных мещан из опустившихся мелких интеллигентов; классовые прослойки — иные; но та ж на них провинциальная пыль, оседавшая шестьдесят лет, отделивших «МБ» от «МД»: С. прав: «этот роман — зеркало»; «Нет,... милые современники, это я о вас писал»; Передонов взят из натуры1.
Символизм С. онатурален до бытового показа провинциальных мещан; С. воплотил в пыль фантастический персонаж «МБ» и «Недотыкомку», которая у него — душа «нежитей» и «немытек» (слова С.) — продуктов распада жизни; не спроста в одном из рассказов С. некто, приняв капли подозрительного, как ростовщик из «П», проходимца, теряет в росте до бесконечности (фигура умаления Гоголя); вот уже он под столом; вот — уже на окошке (в кукольной клетке); все меньше и меньше, — и, ах, сквозняк высвистнул его в фортку; пылинкой он крутится по поднебесьям, чтобы осесть в необметенном углу.
С. отчетливо осознал гоголевский прием распыленья «всего» до «ничто» (гиперболу умаления); он доводит анализ языкового мифа до осознания соответствий его с жизнью мещан; у него гоголевский колдун торгует все умаляющими каплями, разъедающими «жизнь» в кучи пылинок, верней «нежитинок»; и человечество — куча их; во всех планетных системах — все та ж «нежити́на»,
293
воспетая С. в фигуре высокопарицы; в сологубовском атомизме мифологизирована натура мирового мещанства: в ней пыль пылей — русский интеллигент; приемы овеществления мифа напоминают приемы петербургских повестей Гоголя, из которых Достоевский — извлекал свою личность, а Сологуб — безличие.
«Панночку» проследил Гоголь до стадии загнившего трупа; С. проследил дальнейшее разложенье его до пылей. Душа — ветерок, перегоняющий облачко «нежитей»: она — Недотыкомка.
С. выявил жуткие парадоксы: пыль мещанства свеваема с нас только холодом смерти, единственной для него революции, следующей за... социальной; С. — «революционер» в 1905 году — певец «смертников», гибнущих не во имя новой жизни, — а смерти; он воинствующий буддист, пародирующий революцию; с ужасной гримасою будто бы четкости свершает он свой неправильный логический ход, отвечая на спрос к нему раздавленных жизнью интеллигентов; и выявляет, что это спрос на самоубийство; его ответ Пискаревым: «Незнакомка — и не Прекрасная Дама, и не инфернальная проститутка», а — Недотыкомка, сбросившая с себя жизненные свои пылинки; жизнь — Руслан-Звонарева с бородавкой на носу (символический образ одного из рассказов); поэзией самоубийства овеяны образы С.
Пискарев в волнах опия вытянут из них всех.
В мастерстве показа своих «ужасиков» С. использовал многие словесные ходы Гоголя; как то: ход на «ни», «не» («ни слишком толст, ни слишком тонок»): «не радостно, и не грустно» (XI, 711); «не то во сне, не то наяву» (VII, 97); «ни светло, ни темно» (VII, 162); «не доброе и не злое» (XI, 73) и т. д.; всюду обилие отрицательных определений: «не свободно от неясности»2 (69), «недрогнувшая ладонь» (69); «невеселая улыбка» (61); «не», «ни» прострочен весь текст: «Недотыкомка», «не́жить», «немытька» и т. д.; у него напевен повтор в духе ладов «СМ» (без судорожности Достоевского): «и эти быстрые поцелуи ласковой хитрой лихорадки, и эти медленные приступы легкой головной боли... приятны» (XI, 72): «быстрые — медленные», «поцелуи — приступы» — параллелизм-контраст; «нежная царевна Се-ле-нита, лёгкий при́зрак ле́-тних сно́в» (ле-ле-ле) (VI, 27); тут и звуковой повтор, и напев (хорей второй половины фразы); «беленькие, боязливые, такие же милые, как она, моя милая, моя белая смерть» (VII, 150); «я вложил в руку мое бедное золото, мой скудный дар, — звонкое золото в холодеющую руку» (VII, 152); «приду к тебе в мой час, и возьму твою душу, и отдашь... свою душу»; «взяла твое золото — возьму твою душу, отдашь мне золото — отдашь мне душу» (VII, 146); разве это не по Гоголю: «наступает отец — подается пан; наступает пан — подается отец» (СМ); «Утешение», «Призывающий зверя», «Смерть по объявлению» и другие рассказы в лепете
294
фраз не скликаются ни с чем из до-сологубовской прозы, кроме Гоголя; «и бу́дет сме́рть моя̀ легка́ и сла́ще я́да» (ямб): я-а-а-я; «за та-ющим дымом ла-дана та-ился, зата-ился... день»: за-та-дана-та-зата (VII, 148); проза С, как у Гоголя, переходит в явные стихотворные строфы:
Наши стены крепки.
Мы в стенах.
Не придет к нам цепкий
Внешний страх. (VII, 31)
Часта нарочитая звуковая двусмыслица: «Селениточка» — «на селе ниточка», «тосчищу» — «таз чищу»; «Илия, или — я» и т. д.
Звуки Гоголя зажили в прозе С.
Часта и гоголевская фигура расстава: «Выбегают... погубившие свою душу девы» (СМ); у С.: «великое... затеяли мы дело»; «журчал в ночной тишине ручей»; «заклятые как-то вдруг воздвиглись стены»; «тяжелую на его грудь положил лапу»; и «яркие в небе горели звезды»; за тяжелыми, темнозелеными, в тон обоям по стенам, только гораздо темнее их, занавесками» (все из т. XI) и т. д.; част повтор союза «и»: «и обнимала, и принималась целовать и смеяться» (XI, 71); «и... взялись, и... стали»; «и резки, и суровы»; «и кто-то шел..., и какие-то звучали окрест голоса, и какие-то проносились экипажи, и был ли быстрый... бег, и детский смех, и лепет — все скрыто» (VII, 147); часто «и» в соединении с многоглаголицей: «и мешал..., и шутил, и шутил и смеялся» (VII, 27); «и прильнула, и целовала, и ласкала» (VII, 153) и т. д.; част набор прилагательных: «маленький, серенький, зыбкий, легкий... мелькнул, пролетел, — и скрылся» (XI, 72); «молоденькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, хитреньким личиком» (VII, 158); «звонкий, ровный, сладкий, вкрадчивый» (вон-овн, лад-рад) (VII, 158) и т. д.; из сложенья гоголевских ходов выращивает С. свою «гоголевскую» фразу: «И он жаждет снова, и он опять голоден, — ненасытимый, жестокий зверь» (XI, 81); то ж по Гоголю жестокое «себе поперечивающее» чувство: «стилет остер и сладко ранит» (ст-лт ст-р, ла-ра) (VII); «сладкий огонь по жилам» (VII, 153).
Я бы мог продолжить перечисление совпадений С. с Гоголем; нет влияния Гоголя в раннем романе «Тяжелые сны»; оно нарастает в момент творческого расцвета; и снова идет на убыль: в перезрелых творениях; музыку Гоголя как бы вливает в себя проза С., как не присущую ей, но ей целебную кровь; С. омоложается Гоголем.
В нем — поворот к гоголизму.
ГОГОЛЬ И БЛОК
О Блоке — сказ мой недолог: надо лишь подчеркнуть очевидность.
Отрывок Гоголя «Женщина» — пересказ мистики, возводящей женщину в лоно божества, как «Софию»; романтики сплели эту тему с идеологией Шеллинга, Баадера, отраженной и Владимиром
295
Соловьевым; Блок посвятил ей свой том стихов; Гоголь же дал малый отрывок-дифирамб. Не в культе «Дамы» — стык Блока с Гоголем, а в вытекающем из него явлении, на которое обратил внимание Гёте; известно его замечание о мистике у романтиков: нереальное отношение к женщине, вырождаясь в туман эротических двусмыслиц, приводит в... публичный дом.
У Гоголя раздвоена женщина: ангел-ведьма, девушка-старуха, красавица-труп; раздвоенность — от раздвоенности «поперечивающего себе», «бесовски-сладкого» чувства к ней, подставляющего вместо реальной женщины небесное виденье и... тяжелотелую дуру, Агафью Тихоновну; с первой фазы к третьей противоречие ангел-демон снижается в тривиальность: в «ух, какую» женщину!
Поэзия Блока — показ изменения облика «ангела» в «ведьму» по фазам: «Прекрасная дама», «Незнакомка», увы, «знакомая» многим.
Женщине гоголевского отрывка «Женщина» — посвящены первые циклы стихов о «Прекрасной даме»; переходная ступень меж видением рая и земным обличием мелькает в начале второго тома; «ведьма» ж проступает с третьего тома: «И когда ты смеешься над верой, над тобой загорается вдруг тот неяркий пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг»; «и была роковая отрада» — по Гоголю «бесовски-сладкое» чувство — «в попираньи заветных святынь» (III)1; у женщины этой фазы «ядовитый взгляд» (III); «твой взор, как кинжал» (III); она ищет «глазами добычу найти» (III); любовные утехи ужасны с ней: тут «и губы с запекшейся кровью́», и «обугленный рот в крови еще просит утех любви», и «знаю, выпил я кровь твою», и «будет петь твоя кровь во мне», и половое заболевание; ничего подобного нет у Лермонтова (с ним созвучен стих Блока), у Вл. Соловьева, у Бодлэра; ни у кого нет этого раскаленно развратного бешенства, кроме... Гоголя.
Генезис блоковской женщины и в отрывке «Женщина», и в позеленевшем трупе «В», к которому протянута Гоголем нить от... всякой, повидимому, нормальной украинки (что баба, то ведьма); недаром в лице Оксаны «издевка», т. е. призыв к «попиранью заветных святынь». Что проделывает женщина Гоголя? Даже показанная в обычном быту «это такой предмет»; «везде... заметно такое чуть-чуть обнаруженное... — у, какое тонкое!» Какое же? «Раздвигала руки и ловила его» (В); «дай... я» — говорит панночка — «положу на тебя свою ножку,... подняла ножку, и как увидел... ее нагую ножку,... схвативши руками за ее нагие ножки, пошел скакать, как конь» (В); тут и «рубины уст ее ... прикипали кровию к самому сердцу» (В), и «вся синяя, а глаза горели, как уголь» (В), и «прокусила ему горло... начала пить... кровь» (В), и «как волк, пила из него кровь» (ВНИК) и т. д.
В ненормальном культе двух «не-женщин», с провалом женщины между ними, соединились Блок с Гоголем: сюжет «НИ» с превращением
296
«ангела» в проститутку стал просто автобиографической лирикой Блока.
На эту-то иронию из цинизма указывал Гёте, как на опасность романтики; и Гоголь, и Б. одинаково тут упали в цинизм, и одинаково мучились; Гоголь боролся со своим «грешным» смехом приподнятым морализмом; Б., каясь, как и Гоголь, открывал в иронии корень зла1, как больной ею; народничество «с пьяных слез» не спасло; Блок народа боялся; народ ему нужен был для подпуга: интеллигенции; но гоголевский образ России и русской тройки влиял на Б.: его обращенье к России, как к женщине, навеяно Гоголем:
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.
И —
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Характерны: разбойность красы и падение женского образа непременно с «разбойником». Кто ж он? У Гоголя он — Костанжогло, модификация «колдуна», у Б. же: он — двойник Б., «род» в Б., его дурная наследственность, взывающая к возмездию: «выпил я кровь твою»; и позднейшим болезненным извращением душ, и бескрайной романтикой связаны: Гоголь и Б.; Гоголь в себе носил «колдуна», которому все казалось: над ним издеваются; в преувеличенном ужасе перед иронией собственной, переживал Б. подобное нечто; отсюда и страх перед собственным двойником, заставивший «сбежать с горы» в чащу.
Страх Гоголя сочится сквозь все фазы творчества Б.: и в эпоху небесных откровений, и в эпоху бродов по подозрительным переулочкам, и в миг «выпивания крови»; «все диком страхом сметено»; мой конец предназначенный близок»; «и на дороге ужас взял»; «боюсь оглянуться назад» (как и Чартков перед портретом); «кладут мне на плечи руки» (I), «заройся в землю — там замри»; «забудь, забудь о страшном мире»; «из-под ресниц старинный ужас — старинный ужас дай понять»; «как страшно все: как дико» (III).
Петрусь одичал, силясь вспомнить забытое преступление; и все близкое незнакомо ему: «все были мне незнакомы, и меня не трогал их вид» (I); это ж чувство — «ото́рванца»: от рода и класса; Б., как и Гоголь, переживал оторванность от «своей» России, видимой лишь издалека: вблизи — рожа.
Уныла в поэме «Возмездие» тема рода у Б.; стихи-то прекрасны, а что толку в них, когда от них — беспросветная тяжесть; интеллигент, смолоду сознанием рвавший с «дворянством», таки с ним не порвал; разглагольствования о роде в предисловии к поэме «Возмездие» убоги, несостоятельны, и выявляют лишь власть рода-мстителя, как... и у Гоголя; оторвавшись от своей темной крови, не влив в себя красной, Б. был обескровлен: «как
297
тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим»; «как тяжко мертвецу среди людей»; «пробудился...: тридцать лет. Хвать-похвать, — а сердца нет»; «одно, одно — уснуть, уснуть». «Возм.» не жизнь, а гибель рода; герой, последний в роде; лишь «над черной Вислой — черный бред»; и слышен топот коня пана Мороза, «мстителя»: кому, за что? России ли за угнетение Польши, выродку ли за «иронические» поступки: «выпил я кровь твою», «с темнотою один... хохотал арлекин» и т. д.?
В итоге — «старинный ужас дай понять».
Тут и припоминается:
Было то в темных Карпатах...
В каких? Стихи писаны до карпатских боев. Какие ж Карпаты? Гоголевские: гора Криван, на ней всадник, жаждущий «страшной мести», которой тема невыносима автору «Возм.»; и — неприятен Гоголь:
Впрочем, прости ... Мне немного
Жутко и холодно стало ...
Это — из жизни другой мне
Жалобный ветер донес.
Другая жизнь — образы из «СМ»; гоголевский «колдун» сотрясал Б., влезая в него, как влезал Басаврюк в Петруся, — криками:
«Нет, не смирит эту черную кровь
Даже свидание, даже любовь».
Потому и припоминание:
Было то в темных Карпатах.
Далее, — стихи продолжены в иронию: по адресу читателей:
Что ж? «Не общественно»? — знаю.
Что? «Декаденство»? — Пожалуй,
Что? «Непонятно»? — Пускай.
Увы: слишком понятно; манией преследования, своею болезнью, был связан Б. с Гоголем; унылая философия родового возмездия за «отщепенство» победила в Б. Думается мне: проживи Блок дальше, он явил бы картину нового Гоголя, недоуменно вперенного в жизнь с недописанной фразой, обрывающей творчество: «темно представляется...» (слова, на которых оборвалась рукопись «МД»).
ГОГОЛЬ И БЕЛЫЙ
«Симфонии» Белого — детский еще перепев прозы Ницше; но в «Кубке метелей» налет этой прозы не толще листа папиросной бумаги; и он носом Гоголя проткнут: в «Серебряном голубе»; символизм, впорхнув в русскую литературу из фортки, открытой в Европу, в Валерии Брюсове скоро стал — класс изученья латинских поэтов и пушкинской прозы, а в Белом — класс Гоголя.
Гоголем в нас пролился... до-классический стиль.
298
Есть два установленных стиля: «классический», который не так уж классичен, хотя б у Эсхила; и «азиатический»1, в Ницше, в Шекспире далекий от Азии. Готика и ренессанс по итогам новейших трудов коренятся в... армяно-персидском, проехавшем в Сирию, стиле2; арабский стиль, Гоголю близкий, — одно из ответвлений армянского, раннего; купол же ренессанса — другой; его Персия времени сассанидов через 1000 лет перекинула через Армению в Рим и Флоренцию; александрийское позднее риторство и не аттично, и не азиатично; не вовсе аттичен, но не азиатичен — Гомер.
Гоголь — типичнейший выявитель в России не только особенностей стиля азиатического; в нем Гомер, арабизм, и барокко, и готика оригинально преломлены; оттого он влияет на ряд направлений, по-своему в каждом.
«Серебряный голубь» Белого являет итог семинария но «Веч», «Петербург» — по «Ш», «Н», «П», «ЗС».
Схема пушкинской фразы: эпитет простой, подлежащее, простой глагол (1+1+1); коли небо, оно — «небосвод» (не «лазурь», «океан»); и он — «дальний»; он «блещет»; и — только; по данным когда-то мной произведенной статистики слов, которыми Пушкин живописует стихии, макет фразы Пушкина, отбирающей наиболее частые слова о небе, — таков: «дальний небосвод блещет»3; чтоб перейти от нее к фразе Гоголя, нужно подставить под слово «небо» другое: хотя б «океан»; возведя эпитет в превосходную степень, от нее отказаться: «неизъяснимый океан»; глагольное действие отожествить с поцелуем красавицы в ожерельи глаголов: «неизъяснимый небесный океан обнимает, целует, томит, разливается»; Пушкин бы сказал: «в небе летают стрижи»; школа Гоголя превратила бы равновесие слов 1+1+1 в угловатое нагроможденье; так пишет Белый-Яновский (Бугаев-Гоголь): «черные стрижи день, утро, вечер в волне воздушной купаются, юлят, шныряют..., взвиваются, падают, режут небо: и режут, жгут воздух, скребут, сверлят» (СГ). Проза «СГ»: будучи качественно иного теста, чем гоголева, отформована слоговыми приемами Гоголя вплоть до скликов фраз с фразами.
Гоголь |
| Белый |
«Он живет возле церкви... Как поворотишь, то будут ворота... Да вот лучше, когда увидишь шест с перепелом, и выйдет вам баба..., то это его двор». (Предисловие к «Шп»). |
| «В той самой он проживает избенке; ... если встать на холмик, то... вон... его крыша, — вон там: еще оттуда потянуло дымком» (СГ, I, 41)4; в другом месте: «еще на нем каркает грач». (СГ, I) |
299
«Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна вера» (ТБ). |
| «Песнь... пелась..., чтобы далече... по селам, лачугам и звериным тропам разнести призыв» (I, 214). |
«Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями... Будут... орлы выдирать и выдергивать казацкие очи... Будет, будет бандурист... и скажет свое густое, могучее слово; разнесется могучее слово..., чтобы по городам, лачугам, и... весям разносился красный звон» (ТБ). |
| «Будут, будут числом возрастать убегающие в поля!.. Знает ли каждый... чем он кончит: может, закачается в чистом поле на двух на висельных столбах... Слушайте благовест вольный: в полях широких» (II, 97). |
«Чтобы по городам, лачугам и весям» (ТБ). |
| «Чтобы... по селам, лачугам и звериным тропам» (I, 214). |
«И уже сквозь сон слышится и «Не белы снеги»,... и уже храпишь, прижавши в угол своего соседа» (МД). |
| «Усыплен, и... в струях слышится... нянино «баю-бай», и все обернулось на него странно и смутно» (I, 60). |
«Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире!» (СМ). |
| «Смотришь, — а уже хлопотный лес струит... дрему; и нет из него выхода!» (I, 11). |
«Шинок — развалился, словно баба на пути с веселых крестин» (ПГ). |
| «Избенки..., точно компания пьяных парней с набок надвинутыми картузами» (I, 12). |
Про лицо: «Непрошенное, незваное явилось оно... И страшного... в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него» (лик рока из «СМ»), и т. д. |
| «Неведомый, до ужаса знакомый во сне лик» (лик рока: I, 20) и т. д. |
н Та ж, как в «СМ» и «ТБ», чисто оперная постановка жестов; но там взяты — казаки, а здесь — мужики: «бородатые лица с обрезанными в скобку волосами» (I, 20) — «сказывают, тихо уставясь в бороды» (I, 12); «навесил он еще ниже на очи свои хмурые... брови, подобные кустам» (ТБ); тот же гиератизм жестов, данных в повторах речитативного лада, с применением всюду типичного для Гоголя расстава слов: «И уже прошли к пруду сельские девки с песнями хоровыми... И уже прошли прочь от пруда сельские девки с песнями хоровыми... И уже прошла к пруду баба рябая с песней тихой, с песней жалобной... Но уже пошла прочь от пруда баба рябая... И затеплилась первая звездочка, и робкая из пологого лога выглядывала хата» (I, 62); тут сплетение гоголевских ходов: 1) два парных повтора, 2) прилагательное после существительного («баба рябая, с песней жалобной» и т. д.); 3) расстав: «робкая из пологого лога выглядывала хата»; 4) ход на «и»; 5) ход на «уже».
300
Повторы в «СГ» по Гоголю: «белая дорога, пыльная дорога бежит она, бежит» (концовка с кольцом); «постоит, постоит... в свое логово забирается... посидит, посидит, и опять войдет» (скреп с концовкой); «вы бы... спать пошли: и пошел бы спать» (стык с кольцом); далее, «пошел бы спать поп, кабы не дьячок: на то и дьячок, чтобы попа» и т. д.; стык («дьячок») с кольцом («поп — попа») и т. д.; таково же и усложненье повторов: «все еще она (а) стояла (б1) и смотрела (б2)... туда (в), где (г) красная... мелькала рубашка... до того места, откуда он прощался (д) с прошлым (е); и уже он давно попрощалася (д) с прошлым (е), а все еще она (а) стояла (б1), все смотрела (б2) туда (в), где (г) прощался (д) он с прошлым (е): а=б1б2=вг=де; де=а=б1б2вг=де (I, 230).
Гоголевская фигура отстава частит по «СГ»: «робкая из оврага глянет хата» (I, 10); «острым улыбнулся словечком» (I, 18); «красный, белыми яблоками платок» (I, 19); «на... затканной синими букетами ризе» (I, 21), «темненькая к нему по дороге заковыляет фигурка» (I, 41), и т. д.; ход «и — и» — тоже: «и влечет, и уносит»; «и юлили, и писали»; «и расплясаться, и расплакаться». Тот же повтор «уже» и «еще» («еще больше... криков, еще более фырканья»).
Гоголь |
| Белый |
«Он уже кается» (СМ); «вот уже подходит близко» (СМ); «и уже прошла, и уже скрылась» (СМ); «уже солнце село; уже и нет его» (СМ). |
| «а пора уже чайничать; уже стол... накрыла»; «солнце стояло уже высоко; и уже склонялось солнце»; «и все уже обернулось на него странно и смутно» (I, гл. I). |
Из комбинации фразового повтора с отставом, ходом на «и», на «уже» и сложена фраза: «И уже прошли к пруду сельские девки» и т. д.
В «СГ» — ряд слоговых ходов «Веч», как напр. рефрен: Дарьяльский «поймал себя на том, что не... девичий образ в душе его, а так что-то — разводы какие-то»; через 3 страницы: на душе «невнятное что-то такое — разводы какие-то»; через 38 страниц: «если стать против носа» столяра Кудеярова, то «никакого не будет лица, а так что-то... разводы какие-то»; наконец, словесный рефрен о разводах каких-то становится характеристикой столяра. Те же тестовые рефрены (что делают разные половины лица столяра). Та же густота чисто гоголевских эпитетов: дивный, странный и непонятный; то ж обилие восклицаний (по типу «Славная бекеша!»): «славное село», «славный поп», «славные люди» — восклицается всюду; те ж вводные предложенья с обрывами, свертами представлений, кругами, спиралями (см. 2-ую главу «Мастерства Гоголя»); те ж словечки от лица автором подставленного рассказчика (не то Панько, не то столяр). То же скопленье: эпитетов, существительных и глаголов: «пьяную, смутную, сладкую грусть»; «ясная, чистая, тихая,
301
светлая ночь» и т. д. То же «то — да не то» («горы... — не горы»): «Катя оказалась не Катей»; «не лицо, а баранья... кость»; «вода — не вода»; «небо — не небо» и т. д. Тот же гиперболизм; пример: глаза Матрены: «какие там плачут волынки, какие там посылает песни большое море, и что это за сладкое благовоние стелется по земле. Такие синие у нее были глаза... до глубины, до темной головной боли... Будто там окиян-море синее расходилось из-за рябого ее лица... Коли взглянешь... до второго... пришествия, утопая, забарахтаешься» и т. д. Та же спайка повторов: словесного и звукового: «то-мная, ту-склая пелена то-мно и ту-скло то-пит окрес-тно-сти» (то-ту-то-ту-то-тно) (I, 54); «вос-ток те-мный ис-точ-ал ток, и ту-да, в те-много тока теч-енье» (ток-те-точ-ток-ту-те-ток-теч) (I, 64); «за-мерла..., ра-сжа-лась, когда жа-лко за-дребе-зжа-ла» (за-сжа-жа-за-зжа); «визж-ат прон-зи-тельные стр-ижи» (визж-зи-ижи); тот же арийный дуэт меж Матреною и Дарьяльским, подобный дуэтам Катерины с Данилой; мелодия же напева взята из «Хозяйки» Д., а не из «СМ»: «Ясненький мой, ясноглазенький мой — подожди»; «ясненький мой... — погоди, погоди... к груди своей сестрицу прижми» (II, 115, 117) и т. д.; те ж полурифмы: «и поп, и клоп» (гл. 2); «ясной ха́ты кр-а́сн-ые ба́р-хаты» (I, гл. 1). Та ж гоголевская усмешка; «ее... усмехнувшиеся губы»; «ее лицо... усмехается»; те ж дикости чувств: «волненьем жестоким»..., «во взоре... жадность» и т. д. То ж чувство дневного ужаса: «Давил и душил душу жар... А небо? А бледный воздух его, — сперва бледный, а коли приглядеться,... черный воздух, будто тайная погрозила ему опасность, будто... призывала страшная... в небе тайна» (I); сравните у Гоголя: «Вам... случалось слышать голос, называющий вас по имени..., после которого следует... смерть... Мне всегда был страшен этот... зов... Я помню, что в детстве я часто его слышал... День обыкновенно... был самый ясный и солнечный..., но... если бы ночь... настигла меня..., я бы не так испугался ее, как этой... тишины среди безоблачного дня» (СП). Первая глава «СГ» — предчувствие гибели; она крадется черным воздухом дня, когда «стремительные удары... лучей» (СЯ) и томят, и душат.
Не распространяюсь о склике тематики «СГ» с «Веч»: Матрена — сложение из Катерины, Оксаны, Солохи и ведьмочки, взятых сквозь призму больной из «Хозяйки»; а Кудеяров — сплав Мурина с колдуном и с Панько; красная сквозь зелень рубаха мелькает, как красная свитка, как красный жупан; сам Дарьяльский — оторванец, как Петрусь и Хома, тщетно тщащийся примужичиться; как и с ними, с ним приключается худо; генерал Чижиков в слухах о нем, что-де Скобелев он, — отзывается капитаном Копейкиным; характеристика «лиховцев» (грязные и пыльные) не отклик ли характеристики толстых и тонких (МД)?
Встреча с Гоголем и в красочных пятнах: статистика распределенья цветов I главы «СГ» (в процентах) дает общность трехцветки с наиболее частой трехцветкой Гоголя, взятой из среднего
302
спектра трех фаз: красное-белое-черное доминирует у Гоголя и в среднем спектре, и в спектре первой фазы; белый у Б. —13,2%; у Гоголя — 14; в красном склик Б. с Гоголем «Веч» (29% и 26%); в среднем красное у Г. 17%; но и оно доминирует; в черном совпал Б. с Гоголем первой фазы (12 и 12); в синем Б. совпал со средним трех фаз Г. (8,8 и 8,7); в употреблении зеленого Б. близок и со средним трех фаз, и с первой фазой Г. (8,4 для Б.; 9,4 и 9 для Г.). Цвета «СГ» в общем близки к цветам «Веч»; как у Г., они в «СГ» даны впестрь, перебоями пятен: «красный, белыми яблоками платок»; на зеленом лугу «красная мелькала рубаха»; «зеленые, красные... баски».
Все — пятнами!
В напевности, в оперной нарочитости поз, в расстановке слов, в их повторах, красках, паническом чувстве, внушаемом солнечным блеском, во многих сюжетных моментах «СГ» есть итог увлечения прозой Гоголя до усилия ее реставрировать.
В «Петербурге» влияние Г. осложнено Достоевским, которого меньше, и откликом «Медного всадника»; здесь нет Гоголя «Веч»; но есть Г. из «Н», «Ш», «НП» и «ЗС», которого в «СГ» — нет; в основу — положен прием «Ш»: высокопарица департаментов, простроченная и каламбурами «Н», и бредом «ЗС», и паническим ужасом из «П»; декорация города — по «НП» («не верьте Невскому»).
Гоголь (второй «фазы) |
| «Петербург» |
«Гибнут государственные постановления и... священное имя... произносится всуе»; «вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства»; «Невский ... есть всеобщая коммуникация Петербурга»; «ни один из бледных жителей не променяет на все блага Невского проспекта»; «о, не верьте этому ... проспекту ... Я всегда закутываюсь покрепче плащом, когда иду по нем... Все обман, все мечта, все не то, чем кажется»; «вдали мелькал огонек в ... будке, которая казалась стоявшей на краю света»; «в окраину Петербурга, «Коломну», переселяется тот разряд людей, который можно назвать одним словом «пепельный» — людей, которые ... имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда ... сеется туман и отнимается всякая резкость»; |
| «Ваши превосходительства!.. Что есть Русская империя наша? Русская империя наша есть географическое единство»; Аблеухов — «центральная ось нашего государственного колеса»; «Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект»; «весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же ничего нет». Из «бескрайных туманов» — «на теневых своих парусах полетел к Петербургу Летучий Голландец из свинцовых пространств... немецких морей»; «жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками. Лица их зеленей и бледней всех земнородных существ... О, русские люди!.. Толпы теней с островов не пускайте... бойтесь островитян!» «Огненным мороком вечером залит Невский... Из |
303
«мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат..., и... сам демон зажигает лампы..., чтобы показать все в ненастоящем виде», и т. д. |
| финских болот город тебе покажет место оседлости красным... пятном»; «призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер протянутое крыло неслись из тумана в туман двумя огнями кареты» и т. д. |
«Во избежание... неприятностей... департамент, о котором идет дело, ... назовем одним департаментом; ... итак в одном департаменте служил один чиновник» (Ш); «одно значительное лицо недавно сделалось значительным лицом, а до этого времени не был значительным лицом»; «приемы ... значительного лица были солидны, величественны, но не многосложны... «Строгость, строгость и строгость», говорил он и при этом... смотрел очень значительно» (Ш). Башмачкин часто, идя по улице, удивлялся, что застает себя идущим на середине улицы, а не на ... середине строки (Ш); «вот какая история случилась!.. Теперь только ... видим, что в ней есть много неправдоподобного.., Странно, сверхъестественно отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника... Не понимаю, решительно не понимаю... Но что страннее, что непонятнее всего — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты... Во-первых, пользы отечеству... никакой: во-вторых... но и во-вторых нет пользы» (Н) и т. д. |
| «Аполлон Аполлонович был главой учреждения: ну, того... как его? Словом, был главой учреждения, известного вам»; далее учреждение оказывается «одним департаментом», с которым воюет «департамент девятый». Аполлону Аполлоновичу предлагают ответственный пост; он отправляется «в день чрезвычайностей» в «чрезвычайно важное место»; он «поступает не по типу чиновников Гоголя: не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к непрезрению вовсе... Он берет всего одну ноту: презрения». «Дом..., каменная громада, был сенаторской головой... странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства». «Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова... и праздные мысли сенатора... — незнакомца. Эта тень, случайно возникши в сознании,... получила там эфемерное бытие; но сознание А. А. есть теневое сознание, потому что и он... — порождение автора, ненужная... мозговая игра. Автор, развесив картину иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразою» и т. д. |
В высокопарицу «ничто» включены каламбуры бреда, как «что-то»: в тему «Ш» включены темы «Н» и «ЗС»; центр бреда — Коломна в «П», Васильевский остров в «Пет»; к Чарткову из рамок портрета выпрыгивает покупающий душу; к Неуловимому из желтого пятна сырости вылезает лицо Липпанченки; он сходит с обой, замешавшись в интриги и мороки улиц; Ник. Ан. бредит, что он проглотил-де сардинницу: «бомбу»; «бомба» — окаламбурена (пропала
304
в желудке, подобно тому, как нос Ковалева сбежал). В сцене бреда, происходящего в комнате, озаренной луной, на Васильевском острове, утрировано чувство Чарткова перед портретом, озаренным луной; Неуловимому слышится: «Я гублю без возврата»; в него влез персиянин, Шишнарфиев; но он — Энфраншиш, т. е. «шиш» (бредовой каламбур); а в душу Чарткова влез перс, или грек, выскочивший из портрета, чтобы губить без возврата; но влезание, как глотание «бомбы» сенаторским сыном — окаламбуренный бред вылезания из сенаторской головы сенаторских мыслей, которые начинают бытийствовать: дом с бродящим в нем сыном сенатора дико показан сенаторской головой; сам сенатор же — выюркнувшая из автора «праздная мозговая игра»; это все перепевы темы «ЗС»: «люди воображают, будто ... мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны» (ЗС).
В одном отношеньи роман сжат до шутливого каламбурика (Петербург тоже — точка: на географической карте; с другой стороны: точка в точке, иль голова сенатора утвердила свою точку зрения, фикцию бомбы, в действительность жизни; такое же превращенье сознания в бытие утверждает сенаторский сын в карикатурою поданных правилах неокантианца Когэна; и мысль о бомбе становится в усилиях мысли папаши с сыночком реальною бомбою, от которой погибнет империя (поприщинский бред о дующем над черепною коробкою мозге); автор сам в ужасе: мысль о сенаторе, мыслящем, что сын его водит дружбу с бомбистом, стала реальностью — бомбы, бомбиста и сына сенатора, покушающегося на отца, и сенатора, имеющего подобные подозрения: «Будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек» (Пет, гл. I). Превращенье стилистики бреда в сплошной каламбур, и обратно, плодит нарочито невнятицу, поданную на ходулях; это — гипербола, осуществленная в фабуле, комических рассуждений Гоголя, открывающих «Н»: «пользы отечеству» от этой неразберихи «нет никакой» (Н).
Ряд фраз из «Ш» и «Н» — зародыши, вырастающие в фразовую ткань «Петербурга»; у Гоголя по Невскому бродят носы, бакенбарды, усы; у Белого бродят носы «утиные, орлиные, петушиные»; бредут «котелок, трость, пальто, уши, нос и усы». Фразочка «Ш» — «виноват петербургский климат» — в «Пет» целая фразеология, становящаяся тенденцией: «изморозь ... награждала гриппами»; «в зараженной бациллами невской воде»; «петербургская улица... леденит костный мозг...; ...течет лихорадкой»; «о, зеленые, кишащие бациллами воды»; в бреду Неуловимого и бацилла становится «тенью»: «Петербург стоит на болоте... Биология теней не изучена»; они входят «бациллами всевозможных болезней...; желудок не варит ... угнетает... галлюцинация»; климат рождает бациллу, бацилла же плодит бред: вылезает Шиш-Ен-фран-шиш (гл. 6), становясь персом из... Испагани, т. е. из «поганого климата» (вновь бредовой каламбур); в «Ш» — этот «климат» надувает Башмачкину жабу, от которой тот умер; умерши же, с того света бросается на «значительное
305
лицо»: «ужас значительного лица превзошел все границы»; в «Пет» же у мостика Зимней Канавки бросается домино «с пренелепо плясавшим шинельным крылом»; его видели и у Чернышева моста; Башмачкин грабит шинели, но у Калинкина моста.
«Пет» претворяет высокопарицу «Ш» в окаламбуренный «Носом» бред, которого тема — «ЗС». Поприщин у Гоголя вообразил себя королем; Неуловимый, вообразивши себя Евгением из «Медного всадника», вообразил себя и Петром, когда в него металлами пролилась статуя; убивши Липпанченко, сел на него он верхом, приняв труп за коня: «он сжимал в руке ножницы; руку ... простер он; по его лицу ... через нос, по губам — уползало пятно таракана» (гл. 7); Неуловимый кончает Поприщиным; сын сенатора превращен тоже в «испанского короля» воображением курсистки; ей кажется: «пересоздаватель гнилого строя» совершит акт, «за которым последует всеобщий, мировой взрыв».
«Ш» развивает две темы: тему униженности (Ак. Ак.); и — тему высокопарицы значительного лица, которое, Башмачкина напугавши до-смерти, поздней до-смерти напугано: тенью Башмачкина. Аполлон Аполлонович соединяет в себе обе темы «Ш»: он в аспекте «министра» — значительное лицо; в аспекте обывателя — Акакий Акакиевич; высокопарицей из него вытянут монстр: «от уличной грязи его отграничивают четыре стенки»; «не волновался ... при созерцании совершенно зеленых своих, увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России»; на улице «в сером пальто и в высоком, черном цилиндре» он, согнувши углом свою ногу, ... изобразил в сероватом тумане египетский силуэт»; прикоснулся к краю цилиндра (воронова крыла) перчаткою (цвета воронова крыла)»; «старался бодриться в... громадном пространстве». «А. А. благовоспитанный господин... бросается в полях на прохожих».
Но и покойный Башмачкин бросается на прохожих: за Калинкиным мостом. В личном общении Аблеухов, как и Б., идиотичен, косноязычен, напоминая Б. цветом лица: «с цветом лица несколько гемороидальным»» (Ш); Аблеухов принимает угольные лепешки: «это — от гемороя» (Пет); он убегает при всех случаях жизни в «ни с чем не сравнимое место» (ватерклозет); Б. косноязычит с Петровичем: «Это, ... того» (Ш). Сенатор косноязычит с Семенычем: «Так-с, так-с: очень хорошо-с ... Мм ... Мм ... мм ... Ага!» (Пет); или: «Да, да... И... и?.. Как?.. так: ... дальше» (Пет). Башмачкин себе подхихикивает и подмаргивает; сенатор хихикает: «А у барышни... Хи-хи!.. А у барышни ... розовые пятки». Участь Б. — переписывать буквы бумаг; но будущая участь сенатора: «газетное чтение, отправление органических функций, ни с чем не сравнимое место» (Пет).
Не стану перечислять всех гоголевских приемов в словесной ткани «Пет»; упомяну лишь о переполненности романа тройным повтором Гоголя (отсутствующим в «СГ»): «приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство»; «странное, очень странное, чрезвычайно странное состояние»; «мозговая игра... отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно
306
странными свойствами» и т. д. Те же повторы, рефрены, нагромождения глаголов, прилагательных, существительных, нарушающие равновесие пушкинской фразы: «зашуршало; затрепетало, забилось... пискнула мышь»; или: «котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо» (12 сущ., «ноль» глаголов). Ритм второй фазы Гоголя не напоминает нисколько ритма «Веч»; ритм «Пет» — не ритм «СГ»; он подчеркивает параллелизмы и парность повторов: «там, оттуда, — в ясные дни...: золотая игла, облака, луч заката; там, оттуда, в туманные дни — никого, ничего»; «темноватая сеть начинала качаться, темноватая сеть начинала — гудеть»; «неподвижные пятна — кальсон, полотенец и простынь... Без шума протянутся белые пятна — кальсон, полотенец и простынь» и т. д.
В исследовании Иванова-Разумника отмечено анапестическое, насыщенное паузами строение первой редакции «Пет», и амфибрахичность словесной ткани второго издания в связи с изменением отношения автора к сюжету романа. Я же сам поздней натолкнулся на удивившую меня связь меж словесной инструментовкой и фабулой (непроизвольно осуществленную); звуковой лейт-мотив и сенатора и сына сенатора идентичен согласным, строящим их имена, отчества и фамилию: «Аполлон Аполлонович Аблеухов»: «плл-плл-бл» сопровождает сенатора; «Николай Аполлонович Аблеухов»: «кл-плл-бл»; все, имеющее отношение к Аблеуховым, полно звуками «пл-бл» и «кл»; плавное «л» по закону, отмеченному Якубинским, переходит часто в звук «р»; «б» группы «би» переходит в «в».
Род Аблеуховых «у-бл-юдочный» (бл); сенатор — кавалер «Белого орла» (бл-рл); в доме — «поло-сатый буль-дожка» (пл-бл); сенатор питает страсть к фигуре пара-л-лелеп-и-пе-да» (пр-л-ллп-п); комбинат из согласных «р-л-п-б» сопровождает сенатора: «А-полл-он А-полл-онович не люб-ил пр-осторной квартиры» (плл-плл-лб-пр-р-р-р), где «ме-бель... бли-стала...; ме-бель в бел-ых чех-л-ах пр-едстоя-ла» ... (бл-бл-бл-бл-л-пр-л); там «сту-лья» обиты «пал-евым плю-шем» (л-б-пл-пл); там — «сто-лб-ики бел-ого а-леб-астра» (лб-бл-лб); там «л-ос-к-и, лаки и бл-ес-ки» (л-к-лк-бл-к); «А-полл-он А-полл-онович видел... бл-ики, бл-ески... за-вол-акивали... пр-еде-лы пр-остранств» (плл-плл-бл-бл-вл-пр-пр); принимая ж во внимание и «к» («Ни-к-олай»): блк-блк-влкв; к нему «прил-ете-ли пли-ты пар-кетного пола» (прл-л-пл-пр-пл); «бел-енький А-полл-он А-полл-онович о-пер-ся же-л-тыми п-ят-ками» (бл-плл-плл-пр-л-п); «А-полл-он А-полл-онович пр-ивскочил и пр-обе-жа-л» (плл-плл-пр-прб-л); А-полл-он А-полл-онович бле-ск и т-реп-ет прол-етел» (плл-плл-бл-рп-прл-л); в доме его «ломали паль-цы в порыве бе-с-пло-дных угод-лив-остей» (лмл-пл-впрв-б-пл-лв); «нак-ло-ня-ла-сь, как ла-к, ... лы-сина; повер-х пары белых-белых штанов обле-ка-л-ся мунди-р ло-ска с ра-ззо-ло-ченной г-ру-дью» (л-л-л-л-пвр-пр-бл-бл-бл-л-рл-р-л-р); принимая ж побочную аллитерацию «к»: «клл-кк-лк-л» («на-кло-ня-ла-сь, как лак,... лы-сина»).
Таков звуковой лейт-мотив Аблеухова, осложненный «кк» (Ни-ккк-олай) и «ссс»; в моей импрессии «лл» — гладкость формы: Апо-ллл-он;
307
«пп» — давление оболочек (стен, бомбы); «кк» — поперх неискренности: «Ни-ккк-олай... ккк-ланялся на, кк-а-кк ла-кк, пар-кк-ета-хх»; «ссс» — отблески; «рр» — энергия взрыва (под оболочками): «прр-о-рр-ывв» в брр-ед; слова: лл-а-кк, лл-о-сскк, бблл-е-сскк живописуют согласными: под формой (бб-пп) льющегося (лллл) блеска (сссс) — удушье (ккк-ххх).
Лейт-мотив провокатора вписан в фамилию «Липпанченко»: его «лпп» обратно «плл» (Аблеухова); подчеркнут звук «ппп», как разрост оболочек в бреде сына сенатора, — Липпанченко, шар, издает звук «пепп-пеппе́»: «П-е-пп П-е-пп-ович П-е-пп будет шириться, шириться, шириться; и П-е-пп П-е-пп-ович П-епп лоп-нет: лоп-нет все»: п-пп-п-пп-п-пп-шрс-шрс-шрс-п-пп-п-пп-п-пп: лп-лп (стены тюрьмы «пп», разорвутся: шрррс: «ррр» есть разрыв: «шшш-ссс» — расширение газов, которые пучатся в желудке у старика; сынок же имеет чувство, что он, объевшись сардинками, проглотил с ними вместе сардинницу, которая — бомба.
Сюжетное содержание «Пет» по Гоголю отражаемо в звуках.
Так же оно отражаемо в цветописи.
Спектр «Пет» по сравнению со спектром «СГ» иной: материалом ощупи взяты первые главы.
Вот сравнительная таблица частоты употребления цветов:
Серебряный голубь | «Вечера» «ТБ», | «Петербург» | «Мертвые души» | ||||
1. Красный | 29% | 1. Красный | 26% | 1. Серый | 21,6% | 1. Белый | 22% |
2. Белый | 13,2 | 2. Черный | 12 | 2. Черный | 18 | 2. Черный | 11,8 |
3. Черный | 8,8 | 3. Синий | 11 | 3. Зеленый | 14 | 3. Серый | 10,5 |
4. Синий | 8,8 | 4. Золотой | 10 | 4. Желтый | 10,5 | 4. Желтый | 10,3 |
5. Зеленый | 8,8 | 5. Белый | 10 | 5. Красный | 9,1 | 5. Красный | 10,3 |
6. Золотой | 5,5 | 6. Зеленый | 9 | 6. Синий | 8,9 | 6. Зеленый | 9,6 |
7. Розовый | 5,5 | 7. Голубой | 4 | 7. Белый | 8,9 | 7. Коричневый | 8,4 |
8. Желтый | 4,5 | 8. Желтый | 3 | 8. Золотой | 4 | 8. Голубой | 7 |
Таково распределение восьми цветов в спектрах Гоголя и Белого.
У обоих красный падает (с 29 и 26 на 9,1 и 10,3); желтый же взлетает (с 4,5 и 3 на 10,5 и 10,3); взлетает и серый (с 4,4 и 2 на 21 и 10,5); изменение спектра Гоголя от «Веч» к «МД» (I т.) подобно такому же изменению спектра Белого от «СГ» к «Пет»; различие — в белом (в «Пет» 8,9, в «МД» 22); фон «МД» — бел; фон «Пет» — сер; в «Пет» зелень оттеночна; в «СГ», как в «Веч», — краски даны — впестрь; в «МД» и в «Пет» — серы оттенки их.
Фон «Пет» — «рои грязноватых туманов»; на фоне игра черных, серых, зеленых и желтых пятен; в «МД» на белом — игра черных, серых, зеленых и желтых пятен. Преобладающая в «Пет» двухцветка: черное, серое; черная карета; в ней — серое лицо и черный цилиндр; на сером тумане — пятно «желтого дома»; на нем — серый лакей; и подъезжающая карета (черная); зелены пятна:
308
офицерского и студенческого мундиров; зеленоватые воды, зеленов-атый цвет лиц; на серо-зеленом красные вспыхи: красный фонарик кареты и красное домино.
Такова цветопись «Пет»; она соответствует трагикомедии (черно-желтый) морока (серый).
Тенденция спектра Гоголя в целом от «Веч» к «МД»: уронить % красного, синего, золотого, чтоб поднять % серого, желтого, черного, белого и коричневого. Тенденция спектра Б. от «СГ» к I тому «Москвы»: уронить % красного, синего, золотого и увеличить % серого, желтого, черного и коричневого; обе тенденции сходятся за исключением отношения к белому: Г. его напрягает, а Б. — роняет.
«Серебряный голубь» | «Петербург» | «Москва» | ||
(В процентах) | ||||
Красное | 29 | 9,1 | 8,2 | |
Синее | 8,8 | 8,9 | 5,9 | |
Золотое | 5,5 | 4 | 1 | |
Желтое | 4,5 | 10,5 | 21,5 | |
Коричневое | 0, | 1 | 13,5 | |
Черное | 8,8 | 18 | 12,7 | |
Серое | 4,4 | 21 | 10,3 | |
Первая фаза Гоголя | Вторая фаза Гоголя | Первый том «МД» | ||
(В процентах) | ||||
Красное | 26 | 12 | 10,3 | |
Синее | 10,7 | 6,1 | 4,9 | |
Золотое | 11,6 | 8,9 | 2,6 | |
Желтое | 3,5 | 8,5 | 10,3 | |
Коричневое | 0,9 | 6,5 | 8,4 | |
Черное | 11 | 14,1 | 11,8 | |
Серое | 2,6 | 8,9 | 10,5 | |
Спектр «Москвы» до крайности преувеличил тенденцию Гоголя вытеснить красный желто-коричневым; фон первой главы I тома «М» — желт; в него вляпаны всюду коричневые куски, испещренные черными пятнами; коричневы: дом профессора, шкафы, переплеты, клок бороды; черны: кресла, сюртук, котелок, тени и точки летающих мух; в желто-черно-коричневом серая пыль; всюду — оттеночность серо-коричневых пятен (как и в «МД»): из 28 отметок коричневого 10 пали на чистый тон; и 18 — оттеночны: карий (2), медный (2), ореховый (2), кофейный, табачный, коричнево-серый, коричнево-желтый, желто-коричневый, кирпично-коричневый, табачно-кофейный, каштановый, черепаховый, караковый, клопиный, бронзовый. Из 21 отметки серого 5 откровенно серых пятен; остальные 16: серо-зеленый (2), зелено-серый, серебряно-серый, серо-сиреневый, серо-кисельный, коричнево-серый, серо-белый, мышевый, бисернотенный, мраморнотенный, грязноватый, просерелый. Наоборот:
309
из 44 желтых пятен 15 оттеночных и 29 — чисты; то ж черное: 19 чистых черных пятен; и 8 — оттеночных1.
Полагаю, что сказанного достаточно, чтобы, видеть: проза Белого в звуке, образе, цветописи и сюжетных моментах — итог работы над гоголевскою языковвою образностью; проза эта возобновляет в XX столетии «школу» Гоголя.
ГОГОЛЬ И МАЯКОВСКИЙ
Гоголь, как бы разделясь в разных гранях многогранной словесности, отвлияв в современниках, завлиял в наше время; уже в Сологубе есть отклик его ладу, ритму, расставу слов; в Блоке ожил женский образ, увиденный Гоголем; в Белом кроме наличья приемов есть координация ходов в комплекс Гоголя с преувеличением гоголевской манеры письма по типу «ощелилась» дверь (гоголевское выражение): «улица оскалилась железным смехом лопат».
Отвлияв в символизме, Гоголь влиял в футуризме; его описание города урбанистично до урбанистов; Париж: «пораженный... блеском улиц, беспорядком крыш, гущиною труб, безархитектурными, сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразием нагих... боковых стен... толпой золотых букв, которые лезли на стены, на крыши... на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей... из зеркальных стекол... Париж... жерло, водомет, мечущий искры новостей..., мод, ... мелких... законов... Волшебная куча вспыхнула..., дома... стали прозрачными» и т. д. (Р).
У кого из писателей до урбанистов такой подход к городу? Он рождался с Верхарна, как новые глаза; так разглядывал Гоголь Париж, Рим и Невский, глазами ухватывая массы зданий и толпы, красочно расчлененные: в улицах; ухо его различало уже «вопли музыки» одновременно «на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, ...в стенах Алжира»: до радио-аппаратов и громкоговорителей. Вот Рим (кусок улички): в окнах «окорока, колбасы, ... лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги... сыров, ложась один на другой, становились колонны; из сала, белого, как снег, отливались... статуи,... группы... библейских содержаний, которые... зритель принимал за алебастровые» (Р). Точно — под окнами «Ка-Де-Ве»2; играющая толпа стен, террас и куполов»; «арки водопроводов казались стоящими в воздухе и как бы наклеенными на небе» (Р). Гоголю свойственно видеть играющей «толпу стен», как ее видим мы из трамвая: с прыжками домов, открывающих и закрывающих перспективу: «тротуар несся..., кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался... на арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась навстречу»
310
(НП); это — раккурсы художника Анненкова1; Гоголь доходит даже до смелостей футуристического письма, которым эпатировала так недавно художественная молодежь, порвавшая с «Миром искусства»: «свет досягнул... струею» до лужи (МД); глагол «досягнул» — для восприятия глазом: футуристического; «алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески... блестела... на... реснице... глаз» (НП); «предметы перемешались...; усы... казались на лбу и выше глаз, а носа... не было» (МД); «из глаз... вытягиваются клещи» (СМ). Попробуйте-ка зарисовать. Ахнет Сомов; зааплодирует... Татлин; попробуйте — инсценировать: откажутся «МХАТы» (второй, как и первый); дерзнет — Мейерхольд!
Для урбанистов, конструктивистов типичен поверт к аппарату, отверт — от природы; Гоголь в урбанистическом пафосе отказывается от природы, в которую он же влюблен: «дикое безобразие швейцарских гор... ужаснуло... взор» героя «Рима». Футуристу свойственно сравнить с аркою рот; и у Гоголя — «рот величиной с арку Главного штаба»; символисты с правом Гоголем хотели противопоставить себя Куприну; авторы «Садок судей»2 с правом должны бы были противопоставить себя символистам: золотые вывески дрожали в слезище, которую заставил руками тащить Маяковский в незабываемой драме «Владимир Маяковский».
Маяковский побил никем до него не побитый рекорд гоголевского гиперболизма, сперва ожививши гиперболу Гоголя; потом уже он пустился ее возводить в квадраты и в кубы. «Гиперболища» Маяковского — невиданный зверь; Маяковский его приручил; недаром он сам признается: «Нежна... самая чудовищная гипербола» (135); гипербола — «мира кормилица» (31).
Гиперболизм Гоголя напрягает жизнь прилагательных до превосходной степени; подперев эту степень приставками: «пре-», «раз-», «наи-» и словечками: «чрезвычайно», «крайне», «отлично», «хорошо», «весьма» и т. д., отказывается от определения: «Никакое перо не опишет!» Отсюда, после «наимилейшая мне дочь» — обилие несказуемостей: неслыханный, невиданный, нестерпимый, неизобразимый. Далее — крах гиперболы в Гоголе; не достигая «седьмого неба», она разбивает свой лоб о реторику уже «третьего-четвертого» неба; реторика II тома «МД» — покушение с негодными средствами вознести гиперболу до «высшего» неба на дамском рукаве, подобном воздухоплавательному шару (НП); гипербола Гоголя расширена до рта, подобного арке, и до шта́на, шириною с море (ТБ); далее она — тяжеловатая дама с арбузами... в юбке (ОТ); испарина ее усилий — реторика, от которой русские литераторы, зажавши носы, бросаются к положительной степени; бегство подобно убегу философов этого времени от дующейся категории, — к разрезанью лягушки («волы» надоели); положительная степень,
311
раскрывши свою красоту в Льве Толстом и в утонченной чеховской миниатюре, вдруг выродилась в карликовые фаланги «толстят» и «чешишек».
Тут — корень усилия символистов вернуться к гиперболизму; но «вооруженное восстанье» гипербол успешно провел футуризм; его барабанщиком стал Маяковский, догнавший и перегнавший гиперболу Гоголя с ее ноздрями, очками, ртами, напоминающими — «колеса комиссаровой брички» (МН), иль «арку Главного штаба» (Н); в ноздрю — «по ведру воды влей» (ЗМ); в этих образах скреп: Маяковского с Гоголем.
Маяковский, владея гротеском, подходит и к гоголевскому отказу определить («перо не опишет»), чтобы, раскрыв пустоту «не» и «ни», в нее ткнуть своим шпицем, до которого не дотянется даже «клистирная трубка» величиною с башню, таскаемая по римской уличке Гоголем (Р); Маяковский вытянул за усы даже реторику Гоголя.
И обычные гиперболы Гоголя, как «горы горшков» (СЯ), «массы листьев» (СЯ), «ведьм гибель» (ПГ), подхвачены в качестве утильсырья Маяковским; как то: «каша рукоплесканий», «лава атак» (124), «зевы зарев» (133), «ветер ядер» (143); «на сажень человечьего мяса нашинковано» (145); «каждое движение мое... необъяснимое чудо» (48) — подхват отказа Гоголя определить небеса; «на сажень мяса» — подхват скрипа перьев «МД»: телега едет по сушняку в четверть сажени (МД).
И числовая гипербола Г. («как... пятнадцать хлопцев», «будто тысяча мельниц», «миллион... шапок») подхвачена Маяковским: «стоверстные скалы» (23), «стоногий окорок» («статуи» сала) (50), «стоперая дама» («невиданное» в Париже перо) (129), стодомый содом» (130); «встаньте... тысячами Лазарей» (154).
Та же гипербола в восприятии солнца («вместо месяца... солнце», тыквы «из золота», «удары... лучей» и т. д.): «золотолапый» (130), «золототелый» (155), «солнца ладонь на голове моей» (45), «вворачивал», — как Иван Никифорович, — «солнцу то спину, то пузо» (23); «у каждой девочки на ногте мизинца солнца больше, чем раньше на всем земном шаре» (157).
Достигается крайний предел гиперболы Г.; далее — ее вознесение в манифесте «Вознесение Владимира Маяковского», где, шагая по небесам, «неизъяснимым» для Г., Маяковский «версты улиц взмахами шагов мял», «одни водокачки мне собеседники» (128); а «живот рос в глазах, как в тысячах луп» (127); «окном слуховым... ловили крыши, что брошу в уши я» (28); «дамье от меня ракетой шарахалось» (33); «я всех бы в любви моей выкупал» (54); «в тебя вцелую огненные губы фонарей» (12); «твое имя... запекшееся на выдранной ядром губе» (13): зашарахаешься от этаких поцелуев, подобных удару ядра: в губы; в результате чего: «ямами двух могил вырылись на твоем лице глаза» (16); или: «рвясь из меридианов атласа арок, звенит золотой рот франков, долларов, рублей, крон, марок» (55); «легион Галилеев елозит по
312
звездам в глаза телескопов» (57). Поэма «Война и мир» — гипербола, разинувшая пасть на гиперболу Гоголя, чтобы, ее проглотив, на ее соках протучнеть и пустить те сока̀ в сокопроводы артерий: «во всех водопроводах сочилась рыжая жижа» (142); висят «тушами на штыках материки» (150).
Гипербола Гоголя, не додувшаяся до вола, испаряется в пар реторики, лопнувши в кляклые, как лягушачья кожа, лоскутья; а вот Маяковский, додувшись, и бзы́ря, с прискоком сигает в седьмых небесах, ослепляя подцоком подковы-гиперболы: «День открылся такой, что сказки Андерсена щенками ползали у него в ногах» (157); «пушек шайки... на лужайке... мирно щиплют траву» (162). Падает в обморок осмеятель гипербол Прутков: убит выстрелом, как из пушки, гиперболы, переорудованной в средство нового дифирамба; не виршеплет «юнкер Шмит», — сам Прутков из револьвера хочет застрелиться1; что ему делать, когда мы всерьез берем и «о ком ору я», и «Людовики-десятипудовики»; «шестиэтажными фавнами ринулись в пляске публичный дом за публичным домом» (131); «вывалясь мясами в пухе и вате, сползутся друг на друге потеть города, содрогая скрипом кроватей» (130); «выгорая от любопытства» — перед такою картиною — «звезд глаза повылезли из орбит» (137); и вдруг: «из правого глаза выну... цветущую рощу».
Так, убивши Пруткова «прутками» гипербол, вытягивает Маяковский, просунув вниз руку, из глаза Гоголя «рощу»: доселе в глазу этом тщилась наполнить себя реторическая пустота безобразьем безо́бразности: «воззовем зовом!» Теперь мы внимаем реторике: «гвоздями слов прибит к бумаге» (18); «повесь уши на гвоздь внимания», ибо и «всеми артиллериями громимая цитадель головы» (147), и «балета скелетов безносая Тальони» (смерть) (145) — реторика, лихо оседланная и вымуштрованная для художественных воздействий: плаката.
Не в одних гиперболах М. скликается с Г.: в приподымании звуков слов, недоосознанных Гоголем до конца2, футуристы с Хлебниковым отбросили деление на архаизмы и неологизмы: в праве творить свое слово, которое — нерв языка, из него не выклещиваемый критиком-нерводером; в исследованиях Вундта, Фосслера, в грамматике Ломоносова, в словарных роскошествах Даля, не только и статьях Якубинского, Брика, Тынянова — хартия вольности, данная «зауми», которую в XIX веке ввел в прозу... Гоголь; материалы «далевского» словаря — открывают даль будущего: в корень слова вцеплять и любую приставку, и любую по вкусу концовку; даль словарных выводов Даля: истинный словарь есть ухо в языке, правящее пантомимой артикуляций его.
Гоголь до словаря Даля осуществлял тот словарь, когда писал
313
«у-хлопотался» (вм. «за-») (Ж), «с-пестриться» (вм. «за-»), «ис-конфузить», «рас-светлять»; он свободно вращал и приставки, и окончания вокруг словесного корня: до... футуристов. У Маяковского по Гоголю: «смаслились глазки» (127), «изласкать» (69), «ока́ркан» (64); и част у него «украинский» по Мандельштаму прием приставлять к словам «вы-», введенный-де в наш язык Гоголем; у Г.: «вы-метнуть ногами» (ЗМ), «вы-бьется сердце» (СМ), «вы-значилась природа» (МД), «вы-сидеть врага» (ТБ); Маяковский, не украинец, по Гоголю «вы-»кает: «вызарю» (11), «выжуют» (11), «выкосилась» (18), «вызолачивайте» (18), «вывертелся» (127), «выпестренный» (56), «выфрантив» (129), «выласкать» (136), «выщемить» (157), «вызлить» (130) — до бесконечности! Мадам Гиппиус, — о, закройте свой пудренный лик со стыдом, вы гордившаяся-де своим словом «выявить»: вас Маяковский и Гоголь завалят количеством «выков» (не в слове, а в принципе суть).
То же проделали Гоголь и Маяковский и с окончаньями слов; Г.: «оглох-лый», «разноголос-ный» (СМ), «морд-атый» (МД), «речи-вый» (Р), «рогож-енный» (ОТ); М.: «лоша-жий» (159), «сто-домый» (130), «массо-мясый» (128), «людьё», «дамьё» (33) и т. д.
М., как хочет, играет с глаголами: «секунды быстрились» (137), «ражжуженный улей» (от «ражжу́жить»), «ока́ркан», «скуко́житься»; это — по Гоголю: «барклай-де-тольевское» (МД), «атукнуть», «куститься», «шапкаться», «обравнодушить», «омноголюдить», «обиностранить», «омедведить», «наименить» и т. д.
Эка невидаль: «окалошить»! Всего лет пятнадцать назад Северянину выдали орден за это калошное дело к отчаянью стародевической критики; лучше сказать: «я тебя улалакаю» (есть-таки слово такое, — краснейте, Горнфельды!); и можно сказать: «схватив палку, отпа́лкаю палкой». И это не будет смелей звукословий: «уха с финтерлеями», иль «Попопуз» (Попопу-), «Макогоненко» (кого-ко̀); у Гоголя ж «каркает» прозвище в «воронье горло»; а к Маяковскому, «пропузатив зарей», само солнце ввалилось: чайки́ распивать.
Над головою себя уважающих литераторов во все «воронье горло» галдят Маяковский и Гоголь, который принюхался уже к заумным «собакам»; он их не «едал» целиком; Маяковский, съев «пса» со стола «дыр-бул-щуром» кормящего Крученых, заливался потоками «далековатых», сравнений, предвиденных Ломоносовым.
Но — как ни странно: отведавши зауми, В. Маяковский сквозь дали столетий с визитного карточкой па́лкает к древним традициям; на карточке, поданной деду, Гомеру, гомерова надпись: «кудроголовый волхв» (47), «строкоперстный» (41); он в этой своей старомодности, пре́зренной, ну, конечно, Тургеневым, — с Гоголем, у которого и «двухрульный», и «седочупрынный» выныривают из веков. Эта дань футуриста и пред-футуриста пра-дедушке — в смачном уменьи наладить созвучие под «рододактилос»; трогательно согласие Гоголя с Маяковским, и Маяковского... с Гоголем; оба
314
тут голову держат высоко, чтоб видеть столетия вперед и назад; у обоих презрение к чистеньким, щупленьким недотрогам, полу-пассеистам, полу-модернистам, «не столь утучненным Гомером, но и не вовсе утонченным», вроде Тургеневых, Дымовых, которые, что бы о них ни «жирмундили», Гоголю с Маяковским — не в пуп головой, а... пониже того.
ГОГОЛЬ И МЕЙЕРХОЛЬД
От Маяковского к Мейерхольду — полшага. Волна «гоголизма» всплеснулась и в нем, когда дал он впервые со сцены и глазу, и уху нам Гоголя, бывшего в ужасе от постановок себя; до М. лишь потуги поставить на сцену писательский бюст с откровенным поплевом на цветопись, жест, слог и даже намеренья автора. «Ревизор» стал — заигранная скучища традиции.
Как Г. видел на сцене себя?
«Возьми... заиграннейшую пьесу и поставь ее, как нужно... Мольер будет в новость... Нужно,... чтобы дело поручено было... лучшему актеру-художнику,... и не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря чиновника... Секретари эти, точно моль», — производят «пакость в уверенности, что как ни напакости, никто не узнает»; «только... мастер учит своей науке»; только он слышит «согласие всех частей... в одном... оркестре1.
Гоголь требует: «1) отстраненья «чиновника», 2) доверия к «мастеру» сцены; и убежден: этот мастер сумеет дать мастера слова, впаяв в одну пьесу все целое творчества. Гоголь, автор комедий, не отделим от прозаика-декламатора и декоратора, зоркое око которого дало недаром ведь выставку ярких провинциальных полотен (в «МД»); постановщику есть чем убрать свою сцену; Гоголь — актер, чтец и мим, — рвался к тому, чтобы голос его раздавался на сцене.
Приклеиш-чиновник же вытурил Гоголя и штампами стал затирать его краски и жесты, вогнав «Рев» в пылятину инвентаря скучных пьес2. Мейерхольд выполнил просьбу Гоголя, согласовав ритм, жест и краску с наличием звукового образа Гоголя; у него и живопись, и предметность, и интонации — «Гоголь». Но ахнули: «Это ли «Рев?» «Приклеиш»-доносчик строчил: Мейерхольд «оскорбил» память Гоголя. Надо б кричать: впервые дал!
Основные гоголевские словесные ходы: гипербола, звуковой, жестовой и словесный повторы, фигура фикции, лирика авторских отступлений (страницами), вводные предложенья с деталями, будто ненужными (нужными!), читателю в лоб, превосходная степень, столпление действий, предметов, эпитетов до размножения каждого данного образа. Все дано вещественным оформлением Мейерхольда:
315
гипербола ходит в штанах; превосходная степень форсирует жест; выстрелы фикции (мечты городничихи) зрительно множат ротмистра Старокопытова1; нагроможденье глаголов, эпитетов, существительных втолплено в нарочито тесное до-отказа пространство сроеньем галдящих предметов, цветов, дергом жестов; мы читаем Г. мимо строк, без фантазии; Мейерхольд нас ударил по глазу и уху — до искр: непрочитанным Гоголем.
Этим ушиб.
«Рев» — конец второй творческой фазы; гипербола в ней есть гротеск осмеяния под фикцией дифирамба: и дичь Поприщина, и каламбур о носах: «Не верьте Невскому»; Хлестаков, с Невского проюркнув в набитую людом вкатную сценку, впервые у Мейерхольда взвил гоголевский, гиперболический морок; до Мейерхольда и глаз наш не видел гипербол, и в ухо не бил этот «звук изумления», вырывающийся «у всех женщин разом» (Рев); «от несоблюдения этих замечаний» — тревожится Гоголь — «может исчезнуть... эффект». Мы внимали не Гоголю, а... реферату Овсянико-Куликовского в постановке проф. Стороженки; и нам подавалась «островщина», взболтанная в... кисло-сладком Тургеневе; все столетие прятали в дыру «приятную во всех отношениях даму», одев ее чорт знает как, вопреки краскам Г., уверявшего, видно не зря, что «переодевается в разные платья», подчеркивавшего: у нее-де «тюлевая пелеринка, вышитая виноградными листьями... обворожение» (тоже, видно, не зря); седовласые Пыпины зрели выспри, не зря пелеринок; сцена прятала и «невиданный землею чепец», и «павлинье перо», и трэн в «половину церкви», и «ленточные банты» с букетами, пестрящие платья (МД). Когда Мейерхольд показал это все, то вскричали: «Не Гоголь, — нет!» Пыпин тенил еще зрение. Где пролетал «галопад... во всю пропалую: ...дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев,... француз Куку»? В дьявольской сарабанде, нарочно устроенной М., чтобы дать урок жеста по Гоголю. Где увидели мы впервые не бутафорию — смачность предметов в их выписке Гоголем, вплоть до щенков, до собачек («Адель, Поппури»), обвисающих шерстью (МД)? Куда дели сочащееся чревоугодие, бременящее тексты Гоголя? Где на сцене едены настоящие дыни?
У Мейерхольда.
Толчеею тел он набил переосвещенную сценку, выкинутую из мрака незнаемой дали, с ее «темно представляется» (МД, 2); в чем «модернизм» постановки? В воочию и впервые показанном «Рев» на фоне «Н», из которого он «истекает»; в красках «МД», доконкретивших Гоголя. Кто кого исказил? «Декадент» — Мейерхольд — «чтимого» Веселовскими классика, или «классик», стиравший влияние западного декадентства с Владимира Маяковского, Блока, Белого и т. д.? Смешна ламентация об «искажении» Гоголя там, где дана «реставрация» гоголевского живого жеста.
316
Сюжет Г. не замкнут нигде: его типы и положенья кочуют по пьесам и повестям, перекрашиваясь, но выявляя те ж контуры: от колдуна к... Костанжогло; от Довгочхуна к... Тарасу; майор Ковалев под ручку с Поприщиным, подхваченные Хлестаковым, в компании «игроков», проходят сквозь арки комедии с Невского — в городок «мертвых душ», чтоб заливистыми колоко́льцами «тройки» умчаться в лирическое отступление автора, к автору, корню сквозного сюжета, ни в чем не законченного, оборванного трагедией.
Кто внятно прочитывал пьесы и повести Г., тому виден сквозной ход сквозь повести и пьесы Г.; он есть — нерв постановки; найти его — понять Гоголя в целом, а не в «Ревизоре» одном; это значит: понять «Ревизора».
Так понял его Мейерхольд: не в «дражайшем» блюдении текстов с подсчетами запятых, — сквозь все тексты («Владимира 3-ьей степени», «Носа», «МД», «Игроков»); он и дал целое всех композиций: в одной постановке; Г. нам не оставил томов комментария к «Ревизору»; он дан — «Собранием сочинений», а не «Ревизором». Но ставили ль Гоголя до Мейерхольда — так именно? Гадили, — да, с разрешенья глядящего в выспрь Веселовского: этому не до чепцов, не до дынь; оторвали творение Г. от его красок и жестов, взболтнув в сероватую тусклость последышей «натурализма»; «боборыка» такая — не Гоголь.
М. дал яркую форму показа переходной стадии творчества Г., осаждаемую из гиперболы «Носа» в тяжелости натюр-морта «МД», круто павшего в «страхи и ужасы» последних судорог; инсценировка гиперболы второй фазы творчества — деревянный, коричневый дверник (15 дверей), разверзающий дыры, чтоб выбросить рожи свои (персонаж «мертвых душ») — из «ничто»; таков фон — вкатной сценки; и он — петербургские повести: иконостас канцелярий, с киотами «преподобных-чиновников», как бы глядящих из центра на переосвещенную «вкатную» сценку: провинцию; на ней — бестолочь предметов, толоки тел, вырастающих из сумеречного, как пространства России, обстания, слитого со зрительным залом, охваченным диким галопом по залу летящих актеров и колокольчиком тройки, ударившей в спину зрителю; в ней Чичиков, Хлестаков и Поприщин уносятся в общий им с Гоголем бред. Сам каркас постановки — овеществление «Ревизора» в комплексе «Собрания сочинений Гоголя»: яркий дар постановщика выявить в данном участке и целое творческого процесса.
«Вкатная» сценка — расцветка и жестом, и краской провинции Г.; инсценированы и... слоговые приемы: впервые; звуковая метафора Г. разрешает подобные авантюры; Мейерхольд это тонко учел. Мы видели, как сюжет «МД» впаян в детали; и М. ударяет деталями в лоб, чтоб они прокричали. Городничиха — фокус дамы по Гоголю; «воспитанная в половину на романах» (Рев), под музыку Глинки рисуется перед собою самой доморощенная «Люцинда»1 эта;
317
растут «Вавилоны» мечты ее; «Попробуй-ка... передать... то, что бегает на их лицах»; взгляд «бархатный, сахарный... и жесткий, и мягкий... — так вот зацепит за сердце... и поведет... по... душе, как... смычком»; М. вводит: смычок, клавикорд, романс Глинки («Твои лобзанья мне слаще мирра и вина»); это — по Гоголю. У провинциальной дамы комната в палево-голубых легких, как воздух, пятнах («отправились в гостиную, разумеется голубую»); здесь запах цветов («одна дышала розами, от другой несло фиалками»); на подушке же — «вышит... рыцарь» (МД); Добчинский при виде Анны Андреевны «не мог произнести ни одного толкового слова» (МД); и — расчихался: по Гоголю (вспомните в «МД» о подкладываемом ради забавы в носы «табачном гусар»1); разговор с дамою преисполнен «самых... тонких аллегорий»: «что-то такое странное» (МД); постановщики заставляли городничиху с дочерью вести себя дурами; Хлестаков у них балаганил; по Гоголю — «чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечной простоты, тем более он выиграет» (Рев); Гоголь даже советует поручать эту роль «простакам», не гримасникам. М. Хлестакова увидел таким; и впервые он показал городничиху — «у, какой тонкой», воспроизводящей гиперболу-дифирамб: себе самой! Он красочно осадил ее фикции, зрительно инсценировав слоговой прием: размножения; у Г. размножаются: куски свиток (СЯ), глаза (П), жены (Шп), усы (К), портреты (П). Мейерхольд размножил в мечтах городничихи обожателя, который ворвался на сценку из шкафа, из-под дивана, над этажеркою трахнувши выстрелом; а меж ног его выюркнул штатский; и пал на колено с букетом цветов; Старокопытов, ротмистр, покушался стреляться, «да пистолеты куда-то запропастились; ...случись пистолет...» (Рев).
Мейерхольд инсценировал прием размножения и в сцене со взятками: выюрк носов изо всех дверных дыр; Мейерхольд инсценировал и фигуру повтора: в повторном метаньи перед решеткой хвоста за запахнутым в шинель Хлестаковым, декоративно обрамленным имперской железной решеткой, символом николаевщины; шинель падает с плеча, а ее подымают; она падает снова; ее подымают; Мейерхольд дал повтор в наращении размаха — поз, жестов, ритмов до эррр-ящего Свистунова («ррр» — частая аллитерация Гоголя); голосовой рельеф Гоголя, точно лепной барельеф, показал звуковое пространство.
Всюду палец подчеркивает: «Гоголь в целом — вот что!» Постановка — сжатые в образ опыты исследования: «текстология Гоголя»!
Появленье фигур, не отмеченных академическим текстом (развалина на костылях и т. д.) — превосходная степень того же текста; применение к тексту Гоголя гоголева текстового приема.
«Как вихорь, взметнулся... город... показался какой-то Сысой Пафнутьевич... заторчал... длинный, длинный с простреленною рукою, какого... не видано было» (МД); эту невидаль Мейерхольд
318
воплотил, показав — «пехотного капитана»1: дообыграть Хлестакова и вывести из неловкого положения произносить себе самому монологи; одев в офицерский костюм Хлестакова, Мейерхольд подчеркнул в Хлестакове живущую фантазию «морока»: николаевский стиль — шинелей, железных решеток и прочих ампирностей; вспомните макет Петербурга из гоголевских цитат (в третьей главе этого исследования); вы увидите: верен налет «николаевщины» в постановке у М.; он — память о блеске столичном из дебри провинций: в мечтах Хлестакова.
Тончайшая краска, процвечивающая постановку!
Не существующий в тексте Гоголя голубой офицер — голубая романтика, взбитая, как безэ, альманахами в «пылкой головке» провинциалки: тень Старокопытова, вечно присутствующего и срывающего с клавикордов звук страсти, и ищущего даме сердца подать «на конце обнаженной шпаги» (МД) тарелку; военные Мейерхольда докрашивают гиперболу Гоголя; сфантазированная Мейерхольдом кадриль с объясненьем в любви — и пародия на мелодраму, и яркий показ символизма деталей, типичного для «МД»; текст «Рев» не разглублен, как «МД»; и оттого: Гоголь вспять разглубляет превяло его аллегориями2; есть потребность к тому; напечатанный текст «Ревизора» не кончен в сознании автора; если к нему причитаться, не кончен и в нашем сознании; так: не на уровне Г. голая, ненатуральная сцена стремительных, слишком скорых по времени и неудобных по месту любовных дуэтов с ненатуральными выбегами из комнаты то городничихи, то ее дочери; М. дорисовал ее красками Г., уничтожив кадрильными сменами дам выбегание дам; он фигурой кадрили доформил анекдотичность пылания чувств: «взрослый... выскочит... и..., стоя в паре, переговаривает... о важном деле, а ногами... вензеля» (МД) пишет: «пылания» — тень Старокопытова, рвущего с клавишей звук страсти томной; ... «Теремтете!» — пишет ногами немой капитан; в голове городничихи — взрывы страстей: Хлестаков, голубой офицер и немой капитан! Кадриль дорисовывает «мастера» красками, достойными «мастера»!
— «Теремтете!.. Шампанского..! Да здравствуют гусары!» (Игр).
Права Мейерхольда снабжать текст лирическими отступлениями в стиле Гоголя — в уразумении ритма в процессе, а не в текстовом оформленьи; каждое произведение Г. прядало метаморфозой вариаций в нем; в текст попала одна; сам «искажаемый» сказал свое слово в защиту М., давши «лучшему художнику» сцены право согласовать в музыкальной тональности текст с целым творчества; тогда-то и хорошо известное — «будет в новость».
Я показал тенденцию жеста Г.: разбиться на атомы: дёрги меж паузами: дёрг — и пауза следуют друг за другом в «кресчендо» до взрыва, после которого — окаменение.
319
Мейерхольд дал впервые «кресчендо»: от оскульптуренных поз чиновников с чубуками, щенками над дынею к дергу вперед и назад их в хвосте Хлестакова, и к большему дергу последнего (вальс с городничихой) и т. д.; взрыв жестовой — галопада со сцены по залу, оборванная звуком колокола и упавшим плакатом; далее — электричеством убитые куклы трупов, опять вызывающие воспоминанья о росписи ваз архаической Греции: на черном фоне — застывшие, коричневато-желтые пятна издерганных поз.
Неразрешимую в пантомиме тенденцию Гоголя М. разрешил, заменив людей куклами; этим показан впервые эффект потрясенья; для удачного выполнения главного замысла Гоголя он сфантазировал удар колокола и повисший «плакат»; в тексте Г. гипербола замысла потерпела фиаско: живою картиною дать потрясенья нельзя: только мертвой; для этого молнией надо убить исполнителей, не убиваемых жалким жандармом. И вот М. в помощь Гоголю — убивает: грубейшими средствами, напоминающими двойной критский топор, отсекающий головы; здесь архаический, грубый гротеск тоньше тонкого; гротеск выявлен: в стиле критских орнаментов; вся последняя сцена — показ галопады «МД» (губернаторский бал), как скаканья по критскому лабиринту жертв «минотавра»: судьбы; жандарм здесь «кресчендо» не даст: жандарм — рок, пережитый художником Гоголем по... Эсхилу; он рок — над Гоголем, Дубельтом, Николаем, империей!
Видением «страхов и ужасов»1 оборвалась жизнь художника: в Г.; и что дальше — «темно представляется»; Гоголю стало ясно: «Пришло нам спасать нашу землю». Соединив конец «Ревизора» с концом «Мертвых душ», Мейерхольд впаял оба конца в конец Гоголя; импровизация конца пьесы — и вздерг пьесы, Гоголем чаемый, и выдерг сюжета из текста и вныр его в нервы процесса, сложившего все творения Гоголя (не одного «Ревизора»); сквозь статику образов М. показал здесь пульсацию крови в процессе, которого образы — уже склероз; их меняя, М. вынул нам Гоголя из самого гроба «собрания сочинений».
Постановка М. лишь второй скандал с «Ревизором»; от первого Гоголь бежал за границу; после скандала в 1926 году я видел талантливого постановщика: он напомнил мне Гоголя 1836 года.
По-моему, постановка «Рев» — едва ль не последнее достижение не русской, а мировой сцены. Весьма знаменательно, что достижение это — и в Гоголе, и посредством его; она — точная фантазия мысли, в себя вобравшей особенности мастерства и им давшей вещественное оформление, как знак, до чего Гоголь-мастер в нас жив; постановка показывает: творческий процесс, правильно «образующий» спрос, поступив в коллективы, в них жив, — как растенье, из стебля несущее листья, цветы — каждогодно иные; здесь год — поколенье, меняющее цвет и форму тенденций в зависимости от социальных условий.
320
Важно: в 1926 году нос М. просунулся в Гоголя; важно: такое сование носа явило воочию: в 1926 году Гоголя нос — нос живой — на нас высунут: из Мейерхольда.
Эта глава — только беглый эскиз (не исследованье), демонстрирующий тезис книги; особенность процесса творчества в Гоголе та, что ни в чем не закончен он; Г. не замкнут собранием сочинений; ищите его в каждом художнике слова; откроете Гоголя там, где ему не положено быть «академиками».
————
321
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Стр. | |
Предисловие. Л. Каменев | V | |
К тексту книги. Список сокращений | XV | |
МАСТЕРСТВО ГОГОЛЯ. Исследованье | 1 | |
Глава первая. Творческий процесс Гоголя | ||
Пушкин и Гоголь | 5 | |
О творческих фазах Гоголя | 9 | |
От первой фазы ко второй | 15 | |
Третья фаза | 22 | |
Творческий процесс Гоголя | 25 | |
Личность Гоголя | 29 | |
Значение Гоголя | 33 | |
План книги | 39 | |
Глава вторая. Сюжет Гоголя | ||
Особенность гоголевского сюжета | 43 | |
Сюжет первой фазы | 47 | |
«Страшная месть» | 54 | |
Прием «Страшной мести» | 57 | |
Каинов род | 68 | |
Изобразительность и звук в «Страшной мести» | 71 | |
Эволюция сюжета | 77 | |
Прием «Мертвых душ» | 80 | |
Чичиков | 87 | |
Сюжет в деталях | 94 | |
Тенденция «Мертвых душ» | 104 | |
Задание исследования | 111 | |
Глава третья. Изобразительность Гоголя | ||
Звуковая метафора и цвет | 115 | |
Спектр Гоголя | 120 | |
Перспектива в первой творческой фазе | 125 | |
Фоны Гоголя в первой фазе | 131 | |
Композиция в первой фазе | 137 | |
Тенденция цветописи в первой фазе | 144 | |
От первой фазы ко второй | 149 | |
Цветопись второй и третьей фазы | 152 | |
Жест во второй фазе | 159 | |
«Натура» изобразителя Гоголя | 165 | |
Натура гоголевской усадьбы | 170 | |
Провинциальный город | 175 | |
Петербург в изображении Гоголя | 181 | |
От изобразительности к сюжету | 185 | |
Сюжет как автор | 190 |
322
| Стр. | |
Глава четвертая. Стиль прозы Гоголя | ||
Словесная ткань Гоголя | 196 | |
Глаголы Гоголя | 200 | |
Эпитет у Гоголя | 204 | |
Язык существительных | 212 | |
Ритм прозы Гоголя | 218 | |
Звукопись Гоголя | 227 | |
Фигура повтора | 235 | |
Комбинированные повторы | 244 | |
Гиперболизм | 252 | |
Фигура гиперболы | 260 | |
Сравнение | 267 | |
Неточности языка | 279 | |
Глава пятая. Гоголь в XIX и в XX веке | ||
Гоголь и натуральная школа | 283 | |
Гоголь и Достоевский | 285 | |
Гоголь и Сологуб | 291 | |
Гоголь и Блок | 294 | |
Гоголь и Белый | 297 | |
Гоголь и Маяковский | 309 | |
Гоголь и Мейерхольд | 314 | |
Перечень иллюстраций | ||
К стр. 8. Фраза Гоголя. | ||
К стр. 11. Первая фаза, вторая фаза, третья фаза. | ||
К стр. 33. Заказ — спрос. Расцвет — раздвой. | ||
К стр. 121. Первая фаза. Первый том «МД». Второй том «МД». | ||
К стр. 123. Кривая роста «желтого». Кривая падения «красного». | ||
К стр. 124. Чистые тона. Смешанные тона. | ||
К стр. 132. Фоны Гоголя в первой фазе. | ||
К стр. 138. Связь ландшафта с фигурой в росчерке. | ||
К стр. 161. Жест второй фазы. | ||
К стр. 239. Фигуры повторов. | ||
К стр. 263. Две цепи гипербол. | ||
К стр. 269. Процесс сравнивания. | ||
К стр. 278. Тенденция спроса. | ||
————
323
Редактор С. Кавтарадзе
Техн. редактор Е. Лукашевич
Обложка и форзац работы Л. Мюльгаупт.
324
*
Отпечатано
в типографии „Коминтерн“
Ленинград, Красная 1
*
Тираж 3000.
ОГИЗ № 264 X—70. Заказ № 474.
Уполномоченный Главлита Б 25414
Формат бумаги 62×941/16. Печ. листов 21¼
*
Сдано в набор 29 декабря 1932 г.
Подписано к печати 21 декабря 1934 г.
Сноски к стр. XII
1 Вот эти примечательные слова Чернышевского о Гоголе: «Отличительным качеством его натуры была энергия, сила, страсть; это был один из тех энтузиастов от природы, которым нет середины: или дремать, или кипеть жизнью... Человек «разумной середины» может держаться каких угодно теорий, и все-таки проживет свой век мирно и счастливо. Но Гоголь был не таков. С ним нельзя было шутить идеями» (III, 371).
Сноски к стр. 16
1 Хочу сказать, что Яичница, Довгочхун и Петух более отражают действительность, чем Тарас, обвеянный дымом романтики; но Гоголь позднее пришел к ним, когда уже отчасти развеялся перед ним романтический дым первой фазы.
2 См. С. А. Венгеров, т. II. Собр. соч. «Гоголь», гл. II. «Гоголь... не знал... русской жизни», стр. 117—142.
Сноски к стр. 18
1 Отмечая несколько центральных образов в творчестве Гоголя, я нисколько не вношу субъективизма; произведение искусства воспроизводит действительность, но отраженную в типах; идея центрального образа Тэна, герои Гёте не нарушают нисколько теории о том, что изображенные вовсе опираются на действительность; но «действительность» в искусстве вовсе не фотографизм; подлинный реализм в искусстве не есть дотошное крохособирательство черт; в искусстве действительность дана типом.
Сноски к стр. 21
1 Мережковский. «Гоголь и чорт». Исследование 1906 г.
2 С. А. Венгеров. Собр. соч., II т. — «Гоголь-фольклорист», стр. 145—150.
Сноски к стр. 24
1 Переверзев. «Гоголь», изд. 1929 г.
Сноски к стр. 29
1 Черпаю биографические сведения из очерка В. В. Каллаша — «Биографический очерк Н. В. Гоголя» («Гоголь в воспоминании современников», Москва 1902).
Сноски к стр. 30
1 См. «Молодой Толстой» под ред. проф. Б. Эйхенбаума. Ленинград 1929 г.
Сноски к стр. 32
1 «Мое знакомство с Гоголем». «Русский вестник», 1862.
2 «Русская старина», 1872.
3 Из воспоминаний П. В. Анненкова.
4 Курсив автора.
Сноски к стр. 33
1 С. А. Венгеров. «Писатель-гражданин Гоголь», Петербург 1913.
2 Само собою разумеется, что под «незримым» я разумею первичное восприятие слухом художника спроса, к нему обращенного; «незримый» — коллектив, посылающий спрос, в данном случае — это формирующийся юный Белинский и его класс: но «мистика» Гоголя, верно услышавшего звук спроса, превращает «незримых» еще ему, новых людей в «Незримого», с большой буквы.
Сноски к стр. 34
1 В. Брюсов. «Испепеленный» (речь, произнесенная на торжестве открытия памятника в Москве).
Сноски к стр. 37
1 Н. Г. Чернышевский. «Очерки гоголевского периода русской литературы». Полн. собр. соч., т. II. Пет. 1906.
Сноски к стр. 39
1 Мысли, высказанные в этой главе, автор не считает непререкаемыми, а высказывает их, как субъективный домысел, не навязывая читателю; это — летучий «подгляд», а не «резолюция».
Сноски к стр. 46
1 В. Виноградов. «Носология Гоголя».
Сноски к стр. 48
1 Животный тип, в котором сосредоточены колониальные формы жизни.
Сноски к стр. 56
1 См. его статью, напечатанную в двух номерах «Весов» за 1909 год.
Сноски к стр. 73
1 В. Ф. Переверзев. «Творчество Гоголя», стр. 51. 1928 г.
Сноски к стр. 77
1 См. о синекдохе в четвертой главе: в главках, посвященных гиперболе.
Сноски к стр. 106
1 И. С. Щукин пожертвовал университету 200 тысяч на «Психологический институт»: его сын занимался философией.
Сноски к стр. 110
1 Ленин. «Развитие капитализма в России», стр. 149—153.
Сноски к стр. 111
1 Там же, стр. 163—167.
Сноски к стр. 112
1 «Переписка»: «Занимающему важное место», «Что такое губернаторша», «Женщина в свете», «Близорукому приятелю».
2 «Переписка»: «Русский помещик».
3 «Переписка»: «Советы».
Сноски к стр. 115
1 «Символика цвета и «синэстетизм». «Известия Крымского педагогического института», т. III, 1930 г. Симферополь.
2 «Yölkerpsychologie».
Сноски к стр. 116
1 Goethe. «Farbenlehre».
2 Гидровидная и червеобразная стадии в развитии человеческого зародыша.
Сноски к стр. 120
1 Велась специальная статистика всех оттенков и «цветных слов»; и потом уже объединялась в цветную группу при подведении к 14 наиболее употребительным цветным представлениям.
Сноски к стр. 131
1 Направление в живописи, которого девиз: писать на открытом воздухе (en plein air).
Сноски к стр. 133
1 См. Андрей Белый. «Смысл поэзии». Стихи природы у поэтов. Изд. «Эпоха», Ленинград 1923 г.
Сноски к стр. 136
1 Ибсен. «Гедда Габлер» (драма).
2 Ибсена.
Сноски к стр. 137
1 См. Переверзев. «Творчество Гоголя».
Сноски к стр. 140
1 «О малороссийском стихосложении».
Сноски к стр. 145
1 Род кошелька.
2 Кораблик, очипок — головные уборы.
3 Плахта, сукня — верхняя одежда.
Сноски к стр. 147
1 Чудаков. «Отражение народной словесности в произведениях Гоголя». «Университетские известия», Киев 1906 г., № 12.
Сноски к стр. 150
1 «Арабески»: «Последний день Помпеи».
2 «Переписка»: Исторический живописец Иванов.
Сноски к стр. 151
1 Крупный английский рисовальщик конца XIX века.
Сноски к стр. 157
1 Известный пейзажист, специализировавшийся на лесе.
Сноски к стр. 158
1 Из сцены, не напечатанной в основном тексте.
Сноски к стр. 165
1 Росетти — английский художник-прерафаэлит.
Сноски к стр. 166
1 Е. Н. Водовозова. «На заре жизни», 1911 г.
Сноски к стр. 181
1 Из письма 1836 г. мая 25, С.-Петербург.
2 1836 г.
Сноски к стр. 185
<* В оригинале слово перевернуто. Прим. ФЭБ.>
Сноски к стр. 186
1 См. стихотворение Блока.
Сноски к стр. 188
1 «Страхи и ужасы России». (Пер.)
Сноски к стр. 189
1 Из письма Смирновой.
2 «Завещание».
Сноски к стр. 190
1 «Ты равен духу, которого созерцаешь» (Гёте. «Фауст»).
Сноски к стр. 191
1 Не в том смысле, что Чичиков не взят из действительности; Чичикова Гоголь в ней наблюдал; в том смысле герой «МД» — Гоголь, что здесь сюжетный центр часто — не мертвые души, а сентенция резонирующего над ними автора.
Сноски к стр. 198
1 Конец фразы: «все домы вдруг стали прозрачными», кажется синтаксической бессмыслицей, ибо он не относим ни к главному, ни к придаточным предложениям, пока не станет понятным, что пропущено «и когда» т. е. «и когда все домы» и т. д.
Сноски к стр. 200
1 Марлинский. Собр. соч. «Фрегат Надежда». Изд. 1838 г.
Сноски к стр. 210
1 См. интересное исследование Р. З. Миллер-Будницкой: «Символика цвета и синэстетизм в поэзии на основе лирики А. Блока» («Известия Крымского педаг. инстит.», т. III, 1930 г.).
Сноски к стр. 212
1 И. Д. Ермаков. «Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя». Госиздат.
Сноски к стр. 219
1 Киклическими называют комбинированные размеры, напр.: ямбо-анапест, дактило-хорей.
Сноски к стр. 221
1 Я воздерживаюсь называть словами ритмические элементы прозы Гоголя, предпочитая называть их цифрами, чтобы не плодить ненужных, всегда условных номенклатур.
Сноски к стр. 235
1 Сюда Переверзев. «Творчество Гоголя», гл. V, стр. 50—52.
Сноски к стр. 236
1 «Поэтика» (сборник, опубликованный в Ленинграде в 1919 г.). Статья Брика «Звуковые повторы».
Сноски к стр. 258
1 «О характере гоголевского стиля». 1902 г., стр. 146—147.
Сноски к стр. 261
1 См. выше: «Эпитет у Гоголя».
Сноски к стр. 262
1 Статья В. Я. Брюсова: «Испепеленный» (журнал «Весы», 1909 г.).
Сноски к стр. 268
1 Сюда его «Мысль и язык», «Из записок по теории словесности» и т. д.
Сноски к стр. 285
1 Пользуюсь собранием сочинений Достоевского в издании Маркса 1904 г., I том.
Сноски к стр. 287
1 Теме зависимости «Дв» от гоголевских сюжетов посвящено почтенное исследование В. В. Виноградова (80 страниц): В. В. Виноградов. «Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский». «К морфологии натурального стиля», стр. 206—290. 1929 г.
Сноски к стр. 291
1 Это доказано новейшими исследователями романтизма.
Сноски к стр. 292
1 По заявлениям самого С.
Сноски к стр. 293
1 Метки томов и страниц по сириновскому «Собранию сочинений».
2 Вся группа примеров из VII тома.
Сноски к стр. 295
1 Отметка тома.
Сноски к стр. 296
1 Его статья об иронии.
Сноски к стр. 298
1 См. статью Ф. Ф. Зелинского на эту тему в его «Из жизни идей».
2 См. Strikobski «Baukunst der Armenien», 1920 (2 тома).
3 А. Белый «О смысле поэзии» (изд. «Эпоха». 1923 г.).
4 Метка страниц по двухтомному изданию «Эпохи». Берлин, 1922.
Сноски к стр. 309
1 Все сказанное имеет силу для 1-й главы: но анализ ее — анализ достаточно показательной порции.
2 «Kaufhaus des Westens» в Берлине.
Сноски к стр. 310
1 См. иллюстрации к «Двенадцати» Блока.
2 «13 лет работы». Цитирую по II тому двухтомия.
Сноски к стр. 312
1 Перифраза стихов Пруткова.
2 Отсылаю к интересной статье проф. Эйхенбаума: «Как сделана «Шинель».
Сноски к стр. 314
1 Из письма о театре к Толстому.
2 За исключением изумительного исполнения Хлестакова М. Чеховым, на сером пятне постановки мы видели серые пятна: без исполнения!
Сноски к стр. 315
1 Из первоначальной редакции.
Сноски к стр. 316
1 Героиня романа Шлегеля.
Сноски к стр. 317
1 Крупная понюшка.
Сноски к стр. 318
1 О пехотном капитане вспоминает Хлестаков.
2 «Развязка Ревизора».
Сноски к стр. 319
1 Статья в «Пер».