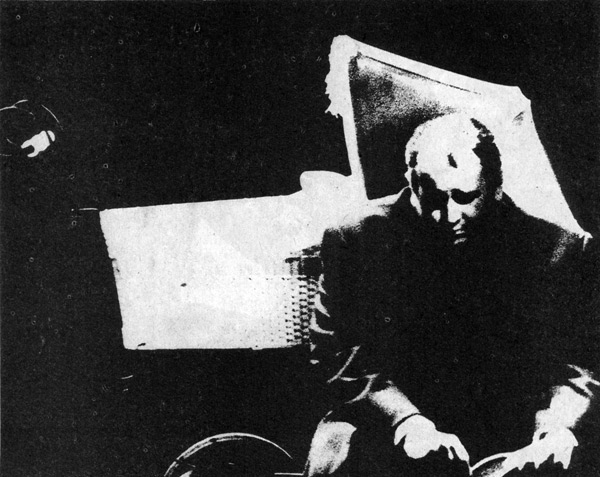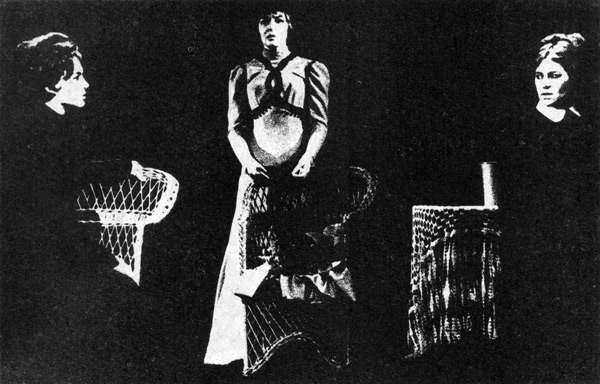- 119 -
Отомар Крейча: мой Чехов
Когда читатель возьмет в руки этот номер журнала, на пражских афишах вновь будет значиться Театр За браноу. Вновь — потому что почти двадцать лет назад театр был закрыт, 10 июня 1972 года в последний раз на его сцене игралась «Чайка».
Когда-нибудь будет описан этот вечер, прощальный этот спектакль и будут найдены слова, чтобы рассказать об ощущении, запомнившемся навсегда: ощущении убийства, совершаемого на глазах, — убийства театра.
Тогда все казалось непостижимым, противоестественным, похожим на чудовищный кошмар, и трудно было, несмотря ни на что, отделаться от мысли: вдруг, выстрел — не смертельный. Но преступление было обдумано до мелочей и рассчитано на долгие годы. Почти двадцать лет делалось все, чтобы от Театра За браноу не осталось и следа: из книг и статей изымалось даже его название, не упоминались никакие связанные с ним имена. Особенно имя его создателя Отомара Крейчи.
Трудно забыть ужас, застилавший глаза министерских чиновников, руководителей театрального союза, сотрудников редакций, когда произносилось это имя. В ответ, как правило, звучали почти что проклятия: диссидент, враг, контрреволюционер... Известный, в общем-то, набор. Мне довелось услышать его даже совсем недавно, когда СТД СССР пригласил Отомара Крейчу участвовать в симпозиуме «Станиславский в меняющемся мире». Я записал тогда все свои бесконечные диалоги с бывшим чешским министром культуры Миланом Кимличкой, с заведующим отделом театра ЦК КПЧ Ярославом Перницей, с секретарями чешского союза театральных деятелей — все они не уставали повторять: нет такого режиссера, не было такого театра, мы не знаем, где О. Крейча, он эмигрировал, не живет давно уже в Праге... Все аргументы и доказательства разбивались о стену глухой озлобленности, в лучшем случае — гасли в наигранно простодушных интонациях ответов.
«Время без свойств» — так названа статья молодого чешского драматурга Карела Штайгервальда о том, что произошло с чешской культурой после августа 1968 года. «Я — реальность, и я угасаю» — такими словами начинается одна из пьес Даниэлы Фишеровой. Почти двадцать лет в этой угасающей, превращающейся в ничто реальности, в этом неумолимо засасывающем времени без свойств Отомар Крейча продолжал работать. Ему запретили ставить в Чехословакии, но он ставил в Париже и Брюсселе, в Стокгольме и Генуе, в Афинах и Вене... Наутро
- 120 -
после премьеры всегда возвращался домой. И все эти годы жил только одним: верой в то, что у него будет театр в Праге, что на родном его языке будет вновь играться его Чехов. Об Отомаре Крейче существует огромная литература — на многих языках мира. Особенно — о его чеховских постановках. Кстати, Д. Стрелер в дневнике, сопровождавшем работу над «Вишневым садом» в Пикколо-театре, заметил, что сегодня в Европе ни один чеховский спектакль не возникает вне диалога с интерпретациями О. Крейчи. И это действительно так: открытое О. Крейчей в Чехове — глобально, с ним нельзя не считаться, театральным миром признана уникальность его режиссерской текстологии, разрабатывавшейся последовательно и настойчиво от спектакля к спектаклю.
До настоящего времени, к сожалению, все это практически неизвестно нашему театру, которому опыт О. Крейчи, думается, должен быть особенно близок. У нас не игрался ни один из спектаклей его, об его искусстве писалось и случайно и крайне мало.
Предлагаемая публикация — первая публикация на русском языке текстов самого О. Крейчи. Первая ее часть — записи лекций о Чехове, прочитанных в феврале 1989 года участникам симпозиума «Станиславский в меняющемся мире», на который О. Крейча все-таки приехал по приглашению О. Ефремова. Вторая часть — фрагменты из книги «Обратите внимание...», написанной режиссером в 1972 году специально для исполнителей «Чайки», ставившейся в это время в Театре За браноу.
Фрагменты московских лекций
Раневская... Что мы о ней знаем? Что написано о ней в пьесе? Играть следует только то, что написано у автора, отнюдь не то, что написано об авторе.
У Чехова Раневская появляется на сцене в чрезвычайно сложный момент своей судьбы. Можно даже сказать: в критический момент, когда кончилась одна жизнь и должна начаться другая. Раневская на пороге старости. Об этом не написано прямо, но доказательств достаточно. На них нельзя не обратить внимания.
Возраст Раневской чрезвычайно важная характеристика, им многое будет объясняться в ее поведении, в логике ее поступков, во всем, что случится с ней на протяжении четырех актов.
Как прожила Раневская ту свою жизнь, что завершилась совсем незадолго до того, как она появилась перед нашими глазами?
Рано и вопреки воле родителей она вышла замуж за адвоката. Брак не был счастливым, и не только потому, что адвокат пил, он был несчастливым сразу — с первого же дня. Потом две смерти: умирает муж, утонул сын. Раневская бежит, бежит от свалившихся на нее бед. За нею во Францию едет ее новый возлюбленный, возможно, даже они уезжают вместе... Раневская покупает дачу в Ментоне. И можно представить себе, как живет она первое время во Франции: всегда много гостей, приемы, светские разговоры, философствования... В России осталось имение; Гаев, как дядя Ваня Серебрякову, посылает ей деньги, с каждым годом все меньше и меньше. Растут долги, дачу в Ментоне пришлось продать. Плюс ко всему измена любимого человека. Раневская пыталась покончить с собой...
Обо всем этом она говорит сама, все это написал ей Чехов. Но он написал о ней еще и много другого. Раневскую «играют» все герои «Вишневого сада». Свидетельства каждого из них проливают свет на ее биографию и судьбу.
Чрезвычайно важны свидетельства Ани. Одна из первых ее фраз: «Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски я говорю ужасно». Потом сразу же: ««Мама живет на пятом этаже...» Все это необычайно важные сведения.
Аня приезжает в Париж, ее никто не встречает, ее никто там не ждет. Аню послали туда. Кто? Вероятнее всего Варя. И отправила с ней Шарлотту — Ане только семнадцать лет, одна она еще никуда не ездила.
Знала ли Раневская, что Аня собирается в Париж? Аня, которую она не видела пять лет? У нас есть только косвенное доказательство. Фраза Гаева в первом акте: «А без тебя тут няня умерла». Раневская отвечает: «Мне писали». То есть ей писали регулярно о жизни в имении, конечно же, ей сообщили и о приезде дочери. Получила ли она это письмо — в тексте об этом ни слова. Но мы должны принять как факт, как наделенное важным смыслом событие, то, что встреча Раневской и Ани в Париже — странная встреча.
Раневская не собиралась, не хотела приезжать в Россию. И не думала, не предполагала, не верила до конца, что за ней пришлют Аню. И никогда не приехала, не возвратилась бы в имение, ни появись на пороге ее парижской квартиры Аня.
«Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно».
Почему Аня говорит именно так? Почему так прыгают фразы, одна никак не связана с другой? Ведь ей совсем незачем сообщать Варе о погоде в Париже, не нужно напоминать, что она плохо говорит по-французски — Варя все это знает. Почему же Аня именно так начинает свой рассказ?
- 121 -
В ее монологе все очень «сигнально», все исполнено содержания. Она начинает с сообщения, которое ничего не значит: о снеге, о своем французском языке, потом сразу: «Мама живет на пятом этаже...» Заметим: эта фраза лишена какого бы то ни было разговорного характера, совершенно оголенная фраза. Не написано же: «Представь себе, милая Варя, мама живет так высоко...» — или что-то в этом роде.
Почему Аня говорит так телеграфно, почему столь обрывочны ее сообщения? Точно боится, не решается сказать о главном, не знает, как начать. Только факты, перечисления. И нет никаких ощущений в ее словах. Они отрывисты, отдельны, как удары. Как будто гвозди забивают в гроб.
«Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить».
Аня не видела Раневскую пять лет. Тогда она была совсем ребенком. Теперь в Париж приехала взрослая девушка. И абсолютно ясно: там, на пятом этаже Аня пережила страшный шок: «...я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить». Не объятья, не поцелуи, не радость и счастье — это был страшный шок!
«Мама потом все ласкалась, плакала...» Потом? Мы не знаем, когда настало это «потом» и как долго оно длилось. Но «потом» наступила реакция, потом у Раневской не выдержали нервы. Вот что происходило в Париже.
Такой (вернее: со всем тем, что случилось в Париже) Раневская и появляется впервые. И это совсем не то возвращение, какое обычно играют в театре, когда все возбуждены, все счастливы, обнимают друг друга, все веселы и беззаботны... Играть так начало «Вишневого сада» — играть неправду!
У Чехова не написано счастливое, беззаботное, радостное возвращение Раневской. Приезжает уставшая, измученная женщина. В отчаянии, преследуемая своими проблемами, которые — вот, главное! — совсем не здесь, а там, в Париже.
Не следует забывать, что Раневская красива и знает об этом. Что она привыкла нравиться, привлекать к себе внимание. Она — сама женственность, любовь, готовность к любви. Она не кокетлива, не вульгарна, никогда не играет. Она естественна в своей женственности, и быть любимой — естественное ее состояние.
И вот приезжает она совсем ночью в это одиночество, где все так, как было пять лет назад. Вокзал далеко, нет никаких «парижских» звуков и никто не говорит по-французски. А главное — здесь нет его, того «человека из Парижа».
Такой приезжает Раневская. Однако к ней все обращаются, говорят с нею так, будто приехала веселая прожигательница жизни, парижская дива. Тут и рождается чеховский драматизм. Каждое слово, каждая фраза — драматичны. В первых актах всех чеховских пьес герои ходят, если так можно сказать, среди разбросанных повсюду детонаторов: стоит сделать один шаг — и взрыв. Действие все время прерывается, ежесекундно что-то происходит — это и есть, в сущности, взрывы, сильные или слабые, но — взрывы.
Перед появлением Раневской Чехов дает большую ремарку, в ней среди прочего есть следующее: «Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» У Чехова написано: голос. Я эти слова отдаю Ане. Это логично: Аня привезла Раневскую, она вводит ее в дом. Но куда она приводит ее? В детскую комнату. Случайно ли это? У Чехова нет небрежно поставленной запятой, необязательной точки или просто служебного тире. Все наделено содержанием, значением и драматизмом.
Аня ждет, пока все войдут. Очень важно ее состояние в эти минуты: она помнит все, что было в Париже, вся еще в тех своих мыслях. Никакой радости, никакого счастья и восторга, обычно играемых исполнительницами роли Ани, здесь нет и не может быть. Потому что еще секунда и Аня задаст свой вопрос: «Ты, мама, помнишь, какая это комната?»
Вдумайтесь, какого драматизма исполнена эта сцена, сколько в ней скрыто всего. Разве здесь просто слова, просто пустой разговор, о котором можно забыть, не обратить никакого внимания?
Это — действие, напряженное, мощно пульсирующее, захватывающее всех.
Раневская отвечает: «Детская!» Но ее ответу предшествует ремарка: «радостно, сквозь слезы».
У Чехова равно внимательно следует читать основной текст и текст, что находится рядом с ним: имена действующих лиц, ремарки. Есть пьесы, которые вполне можно понять лишь по основному тексту. У Чехова, если отбросить ремарки, пьесу постичь невозможно. Основной текст потеряет очень многое, порой даже свой смысл. Без вспомогательного текста все становится туманным, трудно различимым в своем существе.
Вот и эта ремарка. О чем она свидетельствует? Об очень важном. О том, что Раневская до этого, вероятно, не улыбалась, не была радостной. То есть это — ремарка-действие. До этого Раневская была другой, совсем не такой, какой она произносит: «Детская!»
Здесь — принципиальное и серьезное событие. Его замечают, ощущают все, кто в него вовлечен. Так вот и рождается чеховская атмосфера.
- 122 -
Чеховская атмосфера не должна играться, быть заданной заранее, она может только возникнуть.
Я давно установил для себя закон: ставить только то, что написано. Быть верным тексту, но как? Текст — не только слова и предложения; текст — форма, обличье слов. Текст — это связь слов. И то, как они возникают, у каких персонажей, как чередуются, почему находятся именно в этом месте, а не в другом, не раньше и не позже, а именно там, где написаны. Текст для меня — наивысший закон, особенно, когда прикасаешься к такому великому поэту, как Чехов.
К тексту не следует ничего добавлять. Его следует только конкретизировать, как театральное произведение. Драматургия, возможно, самый сложный вид литературы. На сцене мы стремимся создать новый вид искусства — театр. Текст — только основа для театра, но при этом он содержит в себе то, что потом доведется сказать спектаклю.
Структура чеховских пьес поразительна! Вслед за Раневской, за сказанным ею «Детская!» вступает Варя и говорит то, что, кажется, никакого отношения ни к чему не имеет: «Как холодно, у меня руки закоченели». Что происходит, что общего между состоянием Раневской и фразой Вари? Ничего. Только то, что Варя чувствует: она должна прервать, изменить как-то ситуацию. Изменить тему. Тем более что вскоре ей придется отдать две телеграммы из Парижа, что пришли накануне. О телеграммах нельзя сказать сейчас, когда Раневская плачет.
Телеграммы — это он, «тот человек из Парижа». О телеграммах знают только Варя и Гаев, больше никто. Раневской их вручают при всех. У Чехова написано, как реагирует она на них: «С Парижем кончено...»
Но вдумайтесь в ситуацию: Раневская получает телеграммы при всех, у всех на глазах рвет их, и никто не спросил у нее, что в этих телеграммах, хорошие ли там известия, или плохие. Вдумайтесь, какая ситуация! Не потому ли и Иванов застрелился, что его никто ни о чем не спросил, никто не пришел ему на помощь...
Какой мы видим Раневскую во втором действии? Возбужденной, беспокойной, раздраженной, даже брутальной. И в то же время такое ощущение, что ее здесь нет, что она вся «там», хотя в имении уже два или три месяца.
Она укоряет Гаева за ресторан, за грязные скатерти, за его монолог перед официантами. Она нервничает, потому что нет денег. Не в состоянии понять самых простых вещей, план Лопахина, например. Она просит у него совета, но не слушает, не вникает в его предложения. Для нее главное было ему исповедаться.
Раневская — камертон атмосферы второго акта. Ее непричастность ситуации, неконтактность
- 123 -
- 124 -
- 125 -
Фотоэтюды Йозефа Коуделки.
На чеховских спектаклях
Отомара Крейчи в Театре За браноу
(Прага, конец 60-х — начало 70-х)
- 126 -
передается всем. Каждый говорит о своем, и никто не слышит и не понимает другого. Кстати, такое состояние — менее всего состояние пассивности. Это предельная активность, здесь действие ищет способ, как проявить себя. Действие активно и болезненно рвется вперед.
И наступает особая тишина, длящаяся очень долго. Возникает то тягостное состояние, какое бывает на сцене, когда актеры забывают текст. Тишина, которую прервет «звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Раневская схватывается, спрашивает: «Это что?»
Раневская очнется первой. Она первая услышала этот звук. Она, которая только что призналась Лопахину, что была на грани самоубийства. Только сейчас молила о помощи. В растерянности, в отчаянии не находила себе места. Именно эта Раневская именно в этот момент что-то услышала. Она готова была что-то услышать, знала: что-то произойдет. И «звук лопнувшей струны» — ответ на ее состояние. Он — как крик боли. Здесь закричала сама боль.
Все реагируют на случившееся по-разному. Но в принципе реагируют несерьезно, и только Фирс ощутил всем своим существом, что происходит. Он находился позади Раневской, он — настоящий слуга, всегда сзади, в стороне, это Яша мог бы лежать почти что на коленях у Раневской. Фирс все понял. Он медленно идет вперед. Его выход — как начало мистерии. И слова его — первые слова мистерии: «Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь. [...] Перед волей». Дальше действительно начинается мистерия. Дальше «Вишневый сад» развивается как мистерия.
Третье действие — аукцион, торги. Почти в каждом слове третьего акта — свидетельства и знаки того, что происходит с Раневской в этот день. Центр действий — ее разговор с Петей. Разговор о вещах весьма интимных. И мы должны спросить себя: почему обо всем этом Раневская говорит именно с Петей, не с Гаевым, не с Аней или Варей, не с кем-то из своей семьи? Именно Пете она говорит, что любит недостойного человека: «Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу...»
Все свидетельствует о том, что решение Раневской уже принято, она уедет в Париж, чем бы ни кончились торги. Есть множество доказательств тому. Одно из них — обращение к ней Яши. Он не спрашивает, поедет ли она в Париж и когда, он просто просит взять его с собой. Делает это демонстративно и грубо. И Раневская ему не возражает, не обрывает его. Ее, может быть, лишь немного интересует, кто купит вишневый сад, купит ли его Дериганов. Но и этот интерес какой-то не главный. Не в этом, в сущности, дело. Решение ею давно уже принято. Она уезжает.
Кстати, обратите внимание: Чехова очень интересуют герои, которые никогда не появляются на сцене, и они, как это ни странно, написаны им не менее обстоятельно, чем герои, что выходят на подмостки. Вспомните Протопопова в «Трех сестрах», сестру дяди Вани. В «Вишневом саде» такой персонаж Дериганов.
Кто он? Это местный мульти. Почему мы вправе так думать? Потому что во втором акте об этом говорит Лопахин: «Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично». Слова Лопахина вызывают замешательство. Он сообщает о чем-то очень важном и необычном. «Сам лично» — означает, что Дериганов нечасто ходит на такие аукционы, что чаще он старается посылать туда своих агентов. «Сам лично» бывает только на торгах, которые его чрезвычайно интересуют. Все понимают, что Дериганов хочет купить вишневый сад, и уверены, что раз он хочет, то непременно купит. Таким образом, продажа вишневого сада, имения Гаевых во втором действии уже вырисовывается как событие неотвратимое. Никто этому событию не сможет воспрепятствовать, если на торги приедет «сам лично» Дериганов.
Еще одно доказательство. Лопахин, рассказывая об аукционе, говорит: когда они с Гаевым приехали на торги, Дериганов был уже там. Лопахин говорит кратко, ничего не поясняя, но в его словах еще одно подтверждение того, кто такой Дериганов: он приехал заранее, что с ним случалось редко. Потому и Раневская так поражена, когда на ее вопрос, кто купил вишневый сад, Лопахин отвечает: «Я купил».
Фигура Дериганова косвенно проливает свет и на личность Лопахина. Он не просто купил вишневый сад, он победил «самого лично» Дериганова.
Лопахин победил, но он совершил поступок, которого никогда бы не совершил ни один рассудительный коммерсант. Надо полагать, Дериганов был искренне изумлен этим поступком, той суммой, за какую Лопахин купил имение.
Напомню: Лопахин купил вишневый сад за девяносто тысяч рублей сверх долга. Чехов не просто написал первую пришедшую ему на ум сумму, у Чехова, повторяю, нет ничего случайного, приблизительного.
Прошло уже восемьдесят пять лет с того времени, как был написан «Вишневый сад», и нам трудно представить, что такое эти девяносто тысяч, но мы должны осознать, какая это сумма. Если перевести ее по курсу того времени на французские франки, она составит один миллион девятьсот тысяч, то есть почти два миллиона франков. Эта сумма настолько фантастична, что не может быть случайностью, драматургической небрежностью, она многое объясняет. И прежде всего кто такой Лопахин и почему он заплатил
- 127 -
сверх долга за имение, пришедшее в упадок, такую неимоверную цену. В этой сумме — объяснение его натуры, его романтической натуры. И того, что он готов на что угодно, только бы доставить радость Раневской.
Характерно, что эту сумму оценили все присутствующие. Все, кроме Раневской.
Она же не прореагировала на нее никак: она — аристократка, не привыкшая считать деньги, ценить их, дорожить ими. Но более потому, что она давно уже не здесь и только ждет, когда все кончится, чтобы уехать. Она, собственно, здесь и не была. Эти несколько месяцев всеми мыслями, всеми чувствами она была в Париже.
Принято считать, что в чеховских пьесах — ровное течение обычной серой жизни, будничность, отсутствие событий, резких сюжетных сломов, погашенные драматические коллизии. Но чеховская манера письма обманчива, и только для невнимательного глаза она представляет собой натуралистический набор будничных фраз.
Когда углубляешься в текст, тщательно анализируешь его, открывается абсолютно точная, совершенная конструкция пьес, их в буквальном смысле слова инженерная структура. Как возникают, рождаются, видоизменяются мотивы, как те из них, что прозвучали в первом действии, потом начинают звучать в третьем, четвертом — это чудесно построено, с математически точным расчетом!
Сколько написано о том, что все чеховские пьесы разыгрываются в будни, в обычной повседневности. Но нет, это совсем не так. У Чехова все происходит, действительно, в будни. Но это — праздники будней! Всегда чрезвычайные обстоятельства! И эти обстоятельства герои чеховских пьес никогда не забывают. Те четыре дня, о которых пишет драматург, для его героев — особенные дни среди будней. Повторяю: события чеховских пьес случаются в праздники будней.
В «Вишневом саде», например, первый акт, возвращение Раневской. Это же чрезвычайная ситуация, ну никак не повседневность. Второе действие, там вроде бы ничего не происходит, никаких внешних событий. Но при видимом их отсутствии происходит нечто чрезвычайное. Уже само место событий необычно: надгробия, заброшенная часовенка. Не просто земля, лужайка или поляна — тут покоятся останки предков, витает их дух. Тут царит торжественная, почти ритуальная тишина. И эта тишина вдруг закричит, взорвется пронзительным звуком. Разве это будничность, разве такое случается каждый день?
Третье действие — бал, праздник, устроенный Раневской. Четвертое — отъезд, его также никто никогда не забудет.
Каждое действие — праздник будней.
Если над всем этим задуматься, откроются ритм и темп жизни героев. Станет понятным, что в этих комнатах витают не бесплотные тени, но населены они людьми, живущими часто на грани, чувствующими все очень сильно и до конца отдающимися своим чувствам.
И еще: все чеховские пьесы наполнены любовью. И любовь у Чехова всегда огромна, всегда полностью подчиняет себе человека, требует его всего целиком. Разве так могли бы любить обычные невыразительные люди? Разве эта любовь не переворачивает повседневность, не взрывает будничность?
Вспомните «Чайку», ее «пять пудов любви». Вспомните, сколько там событий — чрезвычайных, разрушающих нудное течение жизни. Все время приезды, отъезды, возвращения, снова отъезды — события, врезающиеся в судьбы героев, ломающие их.
Возвращение Нины в четвертом акте. Почему она приезжает сюда, в этот заброшенный сад, в эту осень? Почему она приходит к Треплеву, говорит с ним?
У Чехова все написано. Нина возвращается потому, что не в состоянии забыть Тригорина, не может ничего ему простить. Она любит его особой любовью, которая совсем не исключает мести. Нина готова мстить ему. Она так любит Тригорина.
И неправда, что Тригорин соблазнил Нину. Она соблазнила его. Своей красотой, молодостью, настойчивостью. Убедила, что он может, должен еще раз пережить любовь, снова подчиниться чувствам. Она преследовала его. Еще до начала сюжета «Чайки» — это же очевидно. И заговорит она о нем сразу же, едва появившись на сцене.
Нина одержима своим чувством к Тригорину. Вспомните, что она скажет Косте перед спектаклем, перед тем, как ей доведется произнести символистский текст. Она поучает одаренного юношу, поэта: «...в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...» Она только об этом и думает, только сквозь это и видит искусство.
Тригорин же менее всего похож на искусителя. Он не из тех, кто не упустит случая «закрутить» интригу. Его жизнь известна, в ней нет никаких тайн: литературный отшельник, трудяга, раб литературы. Собственно, он и не жил еще. Только работал. И, наверное, никогда не знал сильной любви... Только тогда, когда стал известным, модным писателем, на него обратила внимание Аркадина. И снова: это она его позвала, она заставила полюбить себя!
Его союз с Аркадиной — союз двух художников, двух равно преданных искусству людей, равно мучающихся, потому что таланты — всегда страдальцы, терзаемые неудовлетворенностью собой, своим творчеством. Тригорин
- 128 -
пишет все время, но он несчастен, как несчастны были Тургенев, Толстой, Чехов...
Нина заставляет его вспомнить о какой-то иной жизни, совсем ему неведомой. Здесь не просто банальный роман, очередное увлечение. Будь это так, Тригорин сумел бы все утаить от Аркадиной, так ведь делает большинство людей. Но он умоляет ее: «Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти... Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец, манит...»
Тригорин — честный и искренный человек. Не способный на подлость, на обман. Он нерешителен, мягок, не уверен в себе — это другое дело. Почему же он тогда расстался с Ниной, ушел от нее? Он ведь, несомненно, понимал, что ждет ее в жизни, понимал, как сложится ее судьба в искусстве?
Это очень важный вопрос. Ответ на него тоже можно найти, углубившись в текст: Тригорин способен любить только талантливого человека, относящегося к искусству так, как относится к нему он сам.
Чехов писал «Чайку», когда, наверное, вся французская литература (да и не только французская) была занята проблемой: «жизнь как произведение искусства и произведение искусства как жизнь». И «Чайка», помимо всего прочего, написана также и о том, может ли быть жизнь такой же прекрасной, как произведение искусства. Поэтому в «Чайке» бесконечные цитаты. По сути, весь план пьесы — это план «Гамлета». Многие сцены — просто шекспировские парафразы. Все построено из цитат — то есть из искусства.
Все чеховские пьесы заканчиваются вопросами. И нашим интересом: почему именно такой финал, а не иной? Чехов волнует нас тем, что никогда и нигде не дает окончательного ответа. Он не знает его. Не знает, потому что этого ответа не существует. И здесь Чехов близок античной драме. Вся античная драматургия, начиная от Эсхила, не что иное, как поиски ответов. Поиски несуществующих ответов.
Чеховские пьесы безжалостны. Они написаны не пером, а скальпелем. Но они удивительно человечны, в них никто не осужден, никто Чеховым не обвинен.
Серебряков в «Дяде Ване». Какой несчастный человек! И как несправедлив к нему дядя Ваня!
Серебряков прожил свою жизнь так, как проживают ее многие. Писал об искусстве. Его книги издавались, пользовались успехом. Дядя Ваня говорит: «Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве!» Возможно, Серебряков действительно не понимал того искусства, которое близко дяде Ване. (Кстати, интересно было бы порассуждать об эстетических идеалах дяди Вани. Вероятно, они весьма распространенные.) Судя по всему, Серебряков — теоретик. Но его книжки издавали, значит, их покупали. Он не богат — это ясно, художественная интеллигенция всегда была самой бедной.
Серебрякова любили женщины. Сестра дяди Вани — о ней все вспоминают с нежностью — не могла полюбить недостойного человека. Его любила Елена Андреевна, удивительная женщина.
В третьем акте он не хотел ничего плохого, он хотел изложить свой план — только и всего. Дядя Ваня мог бы выслушать его спокойно, он же не протестовал много лет, посылая Серебрякову деньги, считал, что это естественно, нормально. Да и теперь Серебряков излагает свой план не как что-то окончательно решенное, а только как план.
Он хотел обсудить его со всеми. Почему же такая реакция дяди Вани? Отчего эта истерика? Не потому ли, что Астров только что у него на глазах обнимал Елену Андреевну? И, вспомните, Серебряков простил дяде Ване его выстрел.
Это не может быть сыграно жанрово. Тут следует вникнуть во все до мельчайшей подробности. Проверить каждое слово, сопоставить, сравнить. Нужно понять, кто такой Серебряков. И когда мы все осознаем, тогда и увидим, что осуждать его не за что. Он такой, как и все, — не лучше и не хуже.
При постановке чеховских пьес недопустимы никакие деформации персонажей. Глубоко неверно, когда с целью оправдания кого-то из героев в их характерах педалируются, акцентируются определенные качества. Чеховские герои не нуждаются в защите. У нас также нет никакого морального права отбирать у персонажа что-то, утрировать его черты. Чеховские герои требуют от нас только понимания, они просят всмотреться в них, разгадать, увидеть их своеобразие — не больше.
Невозможно кого-либо из них наделять какой-то высшей правдой. Они правы все, но правда у каждого своя. И мы не можем, не должны, не имеем права лишать их этой правды. Или навязывать им свою. Иначе мы ничего не откроем в Чехове, лучше тогда ставить другого автора.
В Вершинине из «Трех сестер» театр привык видеть романтика и философа, возвышенную натуру, почти поэта. Так ли это на самом деле? Во втором акте, например, Вершинин «философствует» с Тузенбахом. Почему с Тузенбахом? Разве он чувствует в нем близкого человека? Разве он вообще его хоть как-то интересует?
Это второй акт, у Вершинина уже давно роман с Машей, к Прозоровым он приходит
- 129 -
только для того, чтобы видеть ее, говорить с ней. Он хотел бы и теперь быть только с Машей, но вот к нему подошел Тузенбах, и он «философствует» с ним. Означает ли это, что он забыл о Маше и полностью отдался любимому философствованию? Отнюдь, совсем нет, он только о Маше и думает, только ее и видит, произнося свой монолог.
Вообще он никакой не философ. То, что он называет философией, это его выходной смокинг, его парадная одежда. Театр часто делает Вершинина носителем необычайно возвышенных идеалов, едва ли не самым изысканным человеком....
Конечно же, Вершинина не следует делать и провинциальным Дон Жуаном. Он искренен. Он искренне верит в то, что на самом деле философствует. Он делает это как умеет, и грустно, что он не умеет лучше.
Своими философствованиями с Тузенбахом он обращается к Маше, он не Тузенбаху говорит свои слова о счастье, а Маше. И говорит так, чтобы Маша поняла: речь не о будущем вообще, а об их будущем. И о том, что их счастье невозможно.
На монолог Вершинина накладывается монолог Тузенбаха. Он не видит Машу, не понимает, о чем говорит Вершинин, но сам он также говорит не о будущем, а о своей несчастной любви к Ирине. Фантастически переплетаются два любовных мотива, странным образом отражаются одна в другой человеческие судьбы.
Чеховских героев невозможно рассматривать изолированно, одного отдельно от других. Только вместе, только во всех бесконечных пересечениях их судеб и жизней. И потому, когда меня спрашивают, почему застрелился Треплев, я всегда повторяю, что одновременно с этим вопросом нужно ставить и другой: почему не застрелилась Нина?
Проникнуть в Чехова можно, только отстранившись от всех стереотипов, литературоведческих штампов, особенно от штампов сценических. Только читая, открывая жизнь его героев, находя приметы их судеб в каждом слове, паузе, молчании, даже в оговорках, которые вроде бы ничего не означают. У Чехова исполнено смысла и содержания все. Я беспрестанно это повторяю и буду повторять всегда, потому что, ставя его уже много лет, не перестаю поражаться, насколько он бездонный, насколько неисчерпаемый. Как открываются в нем все новые и новые, иногда пугающие глубины.
Театр нередко осуждает Чебутыкина, видит в нем человека спившегося, распавшегося. Болтуна, лентяя, нахлебника. Но какая это страшная судьба! Какие страдания носит он в себе!
Только один раз, в одной-двух фразах они вырвутся наружу. Театр часто мимо этих фраз проходит, не обращает на них никакого внимания, но без них ничего нельзя понять в судьбе Чебутыкина. Помните эту сцену:
Маша. ...Вы любили мою мать?
Чебутыкин. Очень.
Маша. А она вас?
Чебутыкин (после паузы). Этого я уже не помню.
Всего только несколько слов, а в них все: и привязанность Чебутыкина к дому Прозоровых, и его отношение к сестрам, и то, что, уйдя в отставку, он непременно возвратится сюда и будет здесь до конца своих дней.
Нужно осознать не только сказанное в этот момент Чебутыкиным, но и то, как слушает его Маша. Когда она его спрашивает: почему именно сейчас, а не раньше? Это четвертый акт, уезжает Вершинин.. И Машина фраза: «Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей» — также проливает свет на судьбу Чебутыкина, на его характер и жизнь. Это сказано почти сразу после заданного вопроса.
Разве Чебутыкин жанровый герой? Разве это смешная и жалкая фигура? Разве он никчемный человек, тот бессмысленный человек, которого мы порой встречаем в постановках «Трех сестер»?
У Чехова, как говорилось, все пьесы переполнены любовью. Однако в этих пьесах мы встречаем множество героев, вовсе не способных к любви. Они особенно выделяются, потому что рядом с ними находятся герои другие, для которых их чувства — это все и больше, чем все.
Раневская — волшебная ночная бабочка, летящая всю жизнь на свет любви, всю жизнь рвущаяся к этому свету. Ничто не в состоянии ее удержать — ни тот же вишневый сад, ни дом, ни родина, ни даже единственная дочь.
И — Лопахин. Естественно, можно задать вопрос в самом общем виде: почему Лопахин не способен к любви, отчего не наделен талантом любить? Но на общий вопрос и ответ будет общим. Гораздо важнее вопрос конкретный: почему Лопахин не любит Варю? Почему не может полюбить ее?
В тексте имеется достаточно сведений. У Чехова описано все очень подробно, об этом, в конце концов, говорят сами Варя и Лопахин.
Лопахин не раз упоминает, что он не в состоянии ничего не делать, быть ничем не занятым. Самым страшным наказанием для него было бы, если бы он вдруг лишился своих занятий и дел, если бы ему запретили работать. Мы, кстати, так и не узнаем, где он живет. Чехов скрыл это потому, что это принципиально не важно: совершенно очевидно, Лопахин совсем и не бывает там, где его дом, где он должен жить, он бесконечно в разъездах, все время в Харькове,
- 130 -
на торгах, на аукционах, в банке... «Он богатеет, занят делом, ему не до меня», — говорит о Лопахине Варя. «Ему не до меня» — это важное сведение о Лопахине.
Но в то же время все вокруг знают, что Лопахин женится на Варе. Во всяком случае, так все говорят, свыклись с такой мыслью. С ней свыкся и сам Лопахин — хотя, думается, пришла она к нему именно от «всех вокруг». Время от времени Лопахин вспоминал, по-видимому, о Варе, виделся с ней. Те встречи он хранит в своей памяти: «В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно...»
Согласитесь: сказано не просто так и совсем, конечно, не о погоде. «Если припомните...» — это Лопахин не о снеге. И Варя должна что-то вспомнить. Фразы написаны так, что и нам кажется: Варя действительно вспомнила тот прерванный год назад свой разговор с Лопахиным. Однако он как-то очень конкретно и сразу возвращает ее в сегодняшний день. Говорит о сегодняшней погоде, о морозе...
Тема вспыхнула и тут же погасла. И ясно почему: последние месяцы Лопахин жил совсем другим, тем, чем он не жил никогда. Последние месяцы — это Раневская, ее проблемы и заботы, ее терзания и ее настроения.
Неверно играть Лопахина влюбленным в Раневскую, играть его страсть к ней, влечение. Здесь не любовная подоплека, не вспыхнувшее и неведомое доселе Лопахину чувство.
Здесь все сложнее. Вспомните, как говорит он о Раневской в первом акте. Как прекрасно, как волшебно говорит! Раневская для него — идеал всего самого чудесного, человек, каких он никогда в жизни больше не встречал. Лопахин убежден: таких людей больше нет. Она — единственная!
Кстати, к тем его словам в первом акте мы должны относиться не просто как к словам, меланхолическим воспоминаниям Лопахина. Они не слова, а — действие, сильное, мощное, драматическое действие. В нем раскрывается весь Лопахин, свойства его натуры и души. Его слова — действия его души, если так можно сказать.
После нескольких месяцев, когда Лопахин жил только Раневской, только вишневым садом и неумолимо приближающейся датой 21 августа, он ощутил какую-то немыслимую пустоту.
Можно представить себе, как хотел он в четвертом акте поговорить с Раневской, попрощаться с ней, шампанского купил, как обступала его, охватывала неминуемая пустота. Но в этом акте Раневская не говорит с ним совсем. Не смотрит даже на него. В четвертом акте до Лопахина вообще никому нет дела. И когда Раневская все-таки обратится к нему, слова ее будут совсем не теми, каких он ждал: «Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала... выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь». Что значит: «по всему видно»? Из чего это было видно? Как это увидела Раневская? Когда?
Но он готов. Готов сделать предложение Варе — раз таково желание Раневской. Ему самому не скоро пришла бы в голову такая идея. Но вот этого хочет Раневская, и он — в который раз уже! — готов доставить ей радость.
Ему здесь показалось, что Раневская останется, что она на самом деле будет счастлива услышать его слова, обращенные к Варе, она же «мечтала...», и он уверен, что она будет при этом: «...без вас я, чувствую, не сделаю предложения».
Но Раневская уходит, а Лопахин остается с Варей и оказывается таким, каким он был всегда. Не умеющим объясняться с женщинами, не знающим, с чего начать. Он не знал этого никогда. Никогда не умел. Сделать предложение — для него шаг, требующий чего-то совсем ему неведомого, на него нужно решиться: «Покончим сразу — и баста...»
И еще нужно помнить, какой здесь, в этой сцене Лопахин. У него не получилось помочь Раневской. Его идеи оказались напрасными. И даже то, что именно он купил вишневый сад, даже это никак не коснулось Раневской. Плюс ко всему Лопахин знает, что он больше никогда не увидит ее. И что его идеал, его мечта останутся теперь всего лишь воспоминаниями.
Нужно помнить и то, что Лопахин никогда в своей жизни не лгал, ни в одной фразе, ни в одном слове. И вот, что сейчас, как теперь сказать Варе о своих чувствах к ней? О чувствах, которых нет.
Сцена исполнена огромного драматизма, невыносимых мук. Это ситуация, которую не дано разрешить ни Варе, ни Лопахину. И потому просто знамением, спасительным знаком судьбы оказывается неожиданный голос из сада, зовущий Лопахина.
На такой финал сцены Вари и Лопахина накладывается еще один, перечеркивающий все и навсегда. Входит Раневская и произносит всего три слова: первое — «Что?», а потом, после паузы — «Надо ехать». Как безжалостно и страшно звучат они сейчас, именно сейчас.
«Вишневый сад» начинается словами Лопахина: «Пришел поезд, слава богу. Который час?»
Нужно понять, вдуматься в каждое слово. Почему Лопахин говорит именно так? Почему сначала: «Пришел поезд...»? Почему не сначала: «Который час?», а потом: «Пришел поезд»? Как это написано грамматически? Закрытый это синтаксис или открытый? Есть там многоточие или нет? Кого Лопахин спрашивает? Смотрит на Дуняшу, когда задает свой вопрос, или нет, где находится она — рядом, в стороне? И т. д. и т. п.
- 131 -
Следует задавать вопросы обо всем, о каждом слове, каждой запятой, каждом двоеточии или тире. Для меня часто бывает важно, сколько вообще в пьесе фраз, предложений? Сколько их у того или иного персонажа? Почему именно столько — не меньше и не больше. Кстати, гений Чехова, помимо всего прочего, в удивительно точном расчете словесных проявлений героя. Причем сколько бы фраз ни принадлежало персонажу, много или мало, — его биография и судьба оказываются абсолютно полно написанными в том точном количестве фраз, которые ему даны Чеховым.
Вся роль Медведенко, например, всего двадцать три предложения. Но разве из этих двадцати трех предложений не возникает воссозданная в деталях, до мелочей жизнь и судьба? Не нужно ничего больше — как раз столько, сколько написано. В этом — гений Чехова.
Я уже говорил, но скажу снова, потому что говорю об этом всегда: к чеховским пьесам следует подходить с убежденностью, что в них нет ни одного слова случайного. Во втором акте Лопахин, вспомнив об отце, скажет: он «меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой». Почему Чехов написал именно так? Почему не дал Лопахину монолог, в котором тот рассказал бы о своем отце подробно, детально?
Вопросы, вопросы, вопросы... Каждый раз я ловлю себя на ощущении, что в пьесах, которые вроде бы я давно уже знаю на память, передо мной открывается бездна неясного, невыясненного, вдруг возникают передо мной новые вопросы. Мне стыдно признаться, я много раз ставил «Чайку», но вот, только во время репетиций в Комеди Франсэз, обратил внимание, что пьеса кончается многоточием. «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...» Не точка, не восклицательный знак — многоточие. И это же не случайно, это финал. Значит, это особый финал, не такой, как если бы стояла точка.
Вернемся к Лопахину. Уже в первых фразах должно быть ясно: он бесконечно несчастен, что проспал, не встретил Раневскую на вокзале. Он ведь специально приехал в имение, чтобы отсюда отправиться на вокзал. И приехал заблаговременно, чтобы успеть, не опоздать. И еще много раз станет он сокрушаться и ощущать случившееся, как событие воистину трагическое.
Почему все это так? Что за всем этим стоит?
Мы должны помнить, ибо так написано у Чехова: Лопахин изо всех сил стремится быть духовным человеком. В каждом слове Лопахина — тоска по духовности, стремление к красоте. И ощущение своей обделенности всем этим и какая-то поразительная, неизвестно откуда взявшаяся у него, сына крепостного, тяга к возвышенному. Ко всему, что олицетворяет для него Раневская.
Потому он так искренне и с таким неподдельным отчаянием согласится с ней, бросившей свой упрек: «Как вы все серо живете, как много говорите ненужного». Может быть, менее всего она имела в виду Лопахина, но он соглашается мгновенно. «Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...» А потом еще добавит о себе: «Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья».
Но почему же, почему он должен так огорчаться из-за своего почерка, он ведь купец, зачем ему почерк каллиграфический? Почему он так огорчается в первом акте, что заснул над книгой? «Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул».
Лопахин поразительно тонко чувствует существо подлинного аристократизма, истинной духовности. И для него невыносимы никакие имитации всего этого. И в себе и в других. К себе он безжалостен: «Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд...» Ему смешна Дуняша: и одевается, как барышня, и прическа тоже. «Так нельзя. Надо себя помнить».
Во фразе «Надо себя помнить» и в тяге к прекрасному, восхищении, преклонении перед Раневской — в этом весь Лопахин. Не потому ли он и не может полюбить Варю?