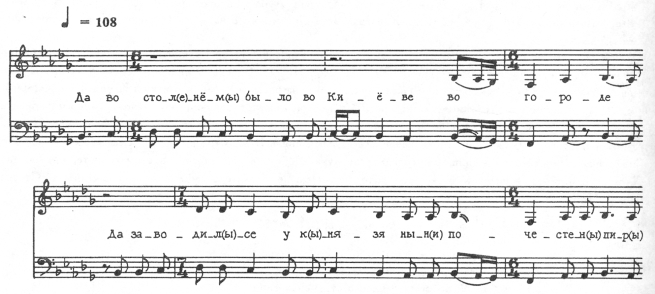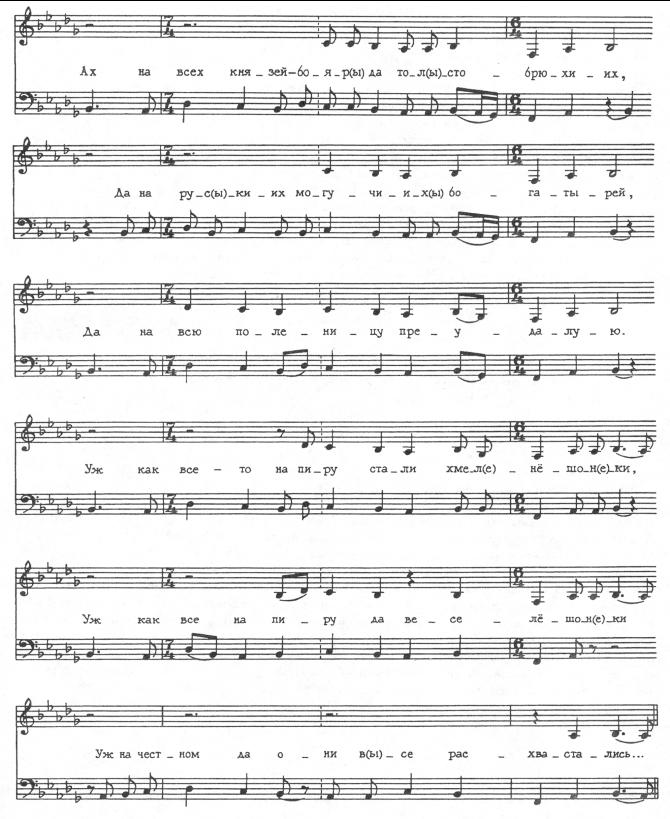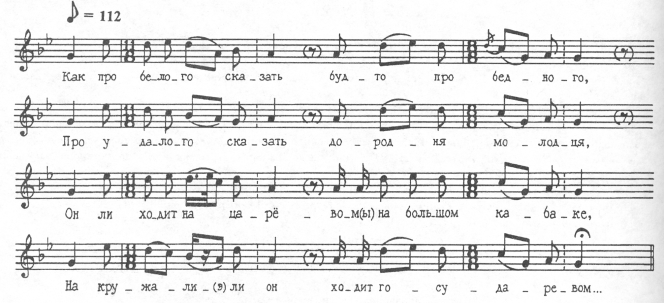- 443 -
КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ БЫЛИН
В комментариях всем группам былин предпосланы преамбулы, содержащие сведения об ареале распространения данного сюжета, специфике вариантов, версий и редакций, местных особенностях сюжета.
Кроме сообщений о первоисточниках публикуемых текстов и основных паспортных данных, учтены замечания сказителей и собирателей, а также дана характеристика каждого текста.
Названия сюжетных групп (гнезд) былин принадлежат научной традиции. Названия отдельных текстов былин даны исполнителями и соответствуют первоисточникам. Квадратными скобками обозначены названия, данные собирателями как основные или уточняющие.
В разделе «Разночтения» указаны номера строк публикуемого текста и даны разночтения, встречающиеся в сказанном варианте или в опубликованных ранее текстах данной былины. Здесь учитываются случаи пропуска, замены или перестановки слов и строк былины, приводящие к нарушению композиции или смысловым изменениям; случаи замены или пропусков союзов, предлогов, частиц и междометий; случаи изменения формы и времени глаголов, падежных окончаний существительных, суффиксов прилагательных, которые вносят новые смысловые или эмоциональные оттенки. К разночтениям относятся и случаи постановки ударений в словах, и «ё», не встречающиеся в основном тексте. Фонетические замены типа «палицу-палицю», «русский-руський» и др. не указываются, так как специально рассматриваются в текстологической справке (кроме случаев, когда они встречаются в строке или отрывке былины, показанных как пример разночтений).
Ссылки на номера былин даются по настоящему изданию. Кроме условных сокращений, предназначенных для всех разделов тома, в Комментариях используются следующие сокращения:
авг. — август коммент. — комментарий рожд. — рождение(ния) апр. — апрель
кор. — коробка
рукоп. — рукопись
вм. — вместо
л. — лист
с. — страница
вол. — волость
лир. — лирическая(ие)
сел. — село, селение
ВСГ — Всесоюзная студия маш. — машинопись след. — следующий(ая, ие) грамзаписей «Мелодия» м/ф — магнитофонная запись см. — смотри выс. — выселок
наст. изд. — настоящее издание
соб. — собиратель
г. — год (года)
нап. — напев
сост. — составитель
г. р. — год рождения
напр. — например
ср. — сравни
Д. — деревня
об. — оборот
с/с — сельский совет
Дек. — декабрь
окт. — октябрь
ст. — сторона
ДЛ — фонд дисков
лаборатории ИРЛИоп. — опись
т. — том
Дор. — дорожка
п. — папка
тетр. — тетрадь
Др. — другие
перебел. — перебеленная
т. п. — тому подобное
Ед. хр. — единица хранения
полев. — полевая
у. — уезд
Зап. — записано, запись
пос. — поселок
ф. — фонд
Ист. — историческая(ие)
прилож. — приложение
ф. эксп. — фольклорная
экспедицияКолл. — коллекция
примеч. — примечание
цит. — цитируется, цитата
Кас. — кассета
Р. — разряд
ЭУ — указатель этнич. и
географ. названийКн. — книга
р. — река
I ФВ — фонд фоноваликов ИРЛИ
Ком. — комиссия
р-н — район
VI МФ — фонд магнитофонных
пленок ИРЛИ
- 444 -
СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ (№ 165—169)
Большинство записей этой былины сделано в бывшей Олонецкой губернии (особенно популярна она на Пудоге), из других районов имеются единичные варианты. На Печоре записано 2 полных текста, 2 незавершенных (повествование прерывается на сцене сватовства) и 2 отрывка (запев былины). Ни в одном из них действие не приурочено к Киеву, не упоминается князь Владимир (в 3 вариантах его заменяет «король литовский», еще в одном — «князь Иван Семенович», этническая принадлежность которого не указана); традиционное имя невесты «Забава Путятична» заменено «Аннушкой Потятичной». О строительстве теремов женихом говорится лишь в одной записи (но в другом контексте), в двух они фигурируют как принадлежащие отцу невесты. Все это — явные признаки разрушения былины. В то же время у печорских сказителей встречаются отдельные мотивы, возможно, являющиеся следами древнейших версий и редакций сюжета. Вариант А. Осташова (№ 165) заканчивается увозом Яннушки Путятишны (о связи этого эпизода с архаичным обычаем умыкания невесты см. Аст., I, с. 631). В былине А. Носовой (№ 167) звучит тема предсвадебных испытаний — жених получает задание за одну ночь построить терем и церковь (обычно Соловей Будимирович сооружает терема по собственной инициативе). В печорских записях в запеве былины и описании чудесного корабля закрепились некоторые оригинальные детали: упоминаются «долга дорожечка сибирская», «мать быстра река» Смородинка, впадающая в Волгу; используется формула «на дереве флюгарка шатаетца, как лютая змея извиваетца». Богатство жениха в большинстве текстов характеризуется такой подробностью: «Впереди его Соло́вья тут сукна́ стелят, а по́д пету Со́ловью во трубу́ вертя́т». (Эта формула обычна в былине в Дюке, но на Печоре она встречается лишь в одном устном по происхождению варианте — № 138; см. также одну из записей «Соломана» — № 275).
№ 165
Онч., № 8 «Соловей Будимирович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
Один из немногих вариантов былины, в котором жених увозит невесту, пользуясь тем, что она сама пришла на его корабль. (Поначалу действие развивается в традиционном плане: Соловей Будимирович подносит родителям Яннушки богатые подарки и сообщает о своем намерении свататься.) Описываемые события приурочены к «земле литовской», но связь с киевским циклом не утрачена окончательно (см. отчество невесты «Путятишна» и замену королевского титула княжеским в строках 29, 43, 53).
№ 166
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 28—30 (полев.), тетр. 3, л. 20—21 об. (перебел.); Аст., I, № 67 [«Соловей Будимирович».]
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Гаврилы Ивановича, 50 лет.
Спето лишь самое начало былины с целью показать напев. Текст не закончен. По композиции он повторяет предыдущий вариант, дополняя его мотивом трех теремов, в которые жених заходит по пути к литовскому королю (см. также № 169). Своеобразный вариант вступления записан от Поздеева Г. В., который не мог сказать, из какой былины эти стихи:
Широко ли Волга мутна́ текёт,
Как мутной текёт, в прибылу́ идёт,
В прибылу́ идёт,
Устьем выпало во синё морё(Аст., I. с. 632)
- 445 -
Разночтения Аст., I, № 67
53
Дарил ему ещо другу́ пару
№ 167
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 143—145, маш.; БП, № 6 «Про Василия Буслаева» [«Соловей Будимирович»].
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
Единственный печорский вариант, включающий рассказ о строительстве терема (но по заданию отца невесты) и завершающийся женитьбой героя. В тексте содержится большинство деталей и формул, прикрепившихся на Печоре к этому сюжету. Но все имена собственные, за исключением Волги, не традиционны: место Соловья Будимировича занял Васильюшко Буслаевич, из других сюжетов заимствованы названия города «Карачанова» («Илья Муромец и Соловей-разбойник»), «земли Индейской», имя «матушки Златыгорки» («Илья Муромец и Сокольник»); отчество «Папична» встречается в книжной по происхождению былине о Добрыне, записанной от этой исполнительницы (см. наш коммент. к № 31). Порой допускаются логические неувязки (герой приплыл из «земли Индейской», а его слуги — «тридцать три русских бога́тыря»), переосмысляются древние поэтические образы (вместо «муравлена чердака» на корабле Соловья стоит «избушка изукрашена»).
Разночтения БП, № 6
86
Выдавал любимую красавицу
№ 168
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 50, маш.; БП, № 28 «Старина» [«Соловей Будимирович»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Хабариха Усть-Цилемского р-на — от Осташова Якова Андреевича, 65 лет.
Традиционный печорский запев былины «Соловей Будимирович».
№ 169
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 423, л. 563—565, маш.; БП., № 36 «Старина «Соловей Будимирович». ФА VI МФ, 208. 2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 18 июля 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.
Вариант обрывается на сватовстве Соловья Будимировича к племяннице литовского короля Анне Потятичне. «Смутное припоминание Киева как места действия проглядывает в наименовании княгини матерью Евпраксией, а короля литовского — князем. Упоминание о теремах, через которые проходит Соловей Будимирович, направляясь к князю, текст близок к варианту, записанному в 1929 г. (№ 165 нашего издания — Сост.). Традиционные зачин и описание корабля и его прибытия в гавань, вообще хорошо сохраненные печорской традицией, в данном варианте особенно богаты художественными деталями. Текст, хотя и не закончен, представляет образец прекрасного эпического стиля» (БП, с. 538).
Разночтения БП, № 36
2
Как широк-ы переезд через синё́ морё́
3
Через синё́ морё, как широка ли мать-Волга да под Казань пошла
- 446 -
5
Тут протекала, пробегала да мать быстра́ река
7
Она устьем-то пала да в Волгу-матушку
8
Ах как Волга-то пала да во синё́ морё́
13
Баско-хорошо кораблик изукрашеной
14
Ах как нос-де корма да позолоченой
55
Ах щелчат-молчат, да богу молятсе
СОРОК КАЛИК (№ 170—175)
За исключением текста из сборника Кирши Данилова, все записи былины сделаны на европейском Севере России; особенно популярна она на Кулое. Печорские тексты рядом деталей перекликаются с мезенским и кулойскими (упоминание озера Маслеева, от которого идут калики; описание их остановок в пути — «клюки-посохи они да порастыкали, а бершатые-ты сумочки развешали» и др.). Но есть и отличия: нет пения «Еленьского стиха», от которого валятся с ног князь Владимир, Добрыня и Алеша; главный герой в 4 вариантах назван Касьяном (ср. прионежскую редакцию сюжета), а в пятом — Самсоном Колыбановичем (в соседних районах распространено имя Михайло Михайловича); княгиня Апраксия зазывает его в отдельную комнату якобы для того, чтобы дать милостыню; недовольная несговорчивостью калики, она подкладывает в его суму чашу князя Владимира (в большинстве мезенских и кулойских записей — «братынечку серебряну»); описывая наказание каликами Алеши Поповича, сказители используют ту же формулу, которая в аналогичной ситуации часто встречается в печорских записях «Ильи и Сокольника» («давали Олеше по тяпышу, прибавили по алабышу») — эта формула есть и в одном из мезенских текстов — Аст., I, 4.
№ 170
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 2 «Про калик перехожих»; Онч., № 47 «Калики перехожие».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Димитрия Карповича, 40—45 лет.
Текст в целом традиционный, за исключением необычной развязки: калик перехожих преследует «видение» — Касьян стоит на пути до тех пор, пока они не хоронят его «по христианскому обычаю». Унижение Алеши Поповича, избитого каликами, передано с помощью краткой, но выразительной формулы: «Але конь-от бежит да коровою, молодец ле сидит да вороною». (Эти образы использованы в одном из устьцилемских вариантов «Ильи и Сокольника» — № 87.) Интересно решение калик не судить нарушителя «заповеди великой» княжеским судом, а судить «судом калическим» (ср. близкие по содержанию формулы в некоторых кулойских записях — Григ., II, 11, 75). Эпитет «Красота Касьян да сын Степанович» встречается еще в одном печорском варианте (см. следующую запись).
№ 171
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 51—60 об. (полев.), тетр. 5, л. 32—38 (перебел.); Аст., I, № 99 [«Сорок калик»].
Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкого нац. округа — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.
Былина записана со слов и выправлена при пении. Спетый текст значительно отличается от сказанного. Эту былину Дитятева помнила нетвердо и при исполнении сбивалась. В полевой и перебеленной записях добавленные при пении места заключены в круглые скобки, опущенные — в квадратные.
- 447 -
При пении добавлялись (пропускались) частицы, местоимения, союзы, приставки и т. п., напр.:
Рассказ
Пение
16
исповесили
повесили
18, 65
Уж ты здравствуй
Здравствуй
31
Приворачивайте
А приворачивайте
44
Закопать его ноне
Закопать его
61
Ей крест ле кладет
Крест кладет
62
Поклон-от ведет
Поклон ведет
99
Спроси у их
И спроси их
Наиболее существенные отличия сказанного варианта:
2
Да сорок калик перехожиих
5
Пошли они в Ерусалим-град
6
Богу молитьця и светой гробнице поклонитьця
9
Навстречу едет солнышко Выла‹димир› — царь на добро́м коне́
10
Конь под им белым белой
11
А сам на коне серы́м серо́й
12
Идут навстречу добрые молодцы калики перехожие
13
отсутствует
Вместо 14, 15
Испотыкали клюки-посохи в матушку сыру землю
17
И приходят к солнышку В‹ладимиру›
Между 18 и 19
В‹ладымир› — кн‹язь› ст‹ольне› к‹иевский›
21
Говорит солнышко Владимыр-князь
22
З‹дравствуй›, удалы добры молодцы
23
Куда вы пошли-поехали
После 23
Нет у меня себе ницего
24
отсутствует
25
Пошли мы в Ерусалим-град
27, 28
отсутствуют
32
Ко моей кнегины матери Опраксее
33
И подаст она вам моло‹сыньку› подушевную
34
отсутствует
35
Собрались калики перехожие
36, 37
отсутствуют
Вместо 40, 41, 42
порядок 42, 40, 41
43
Того нам судить своим судо́м по по... (неразборчиво)
45
Езык-от выйдет теменем
46
Оци ясные вынуть косицами
Вместо 47, 48
Приходят они в стольный Киев-град
50
отсутствует
51
Просят у окошечка косявщета
54
Дай нам хош гривенку золота
Между 54 и 55
Говорит ли мать Опраксея таково́ слово́:
«Един калика был как есе́н соко́л»
56
Прошу милости к себе во двор калик перехожиих
- 448 -
Между 57 и 58
Эти калики отвечали ей:
«Нельзя нам на двор войти,
Есь у нас заповедь великая:
Кто у нас ‹в городе соврёт-солгёт,
И кто у нас в городе заворуется,
И кто у нас в городе забледуется,
Того нам судить» и т. д.
58
Посылали они добра молодца Самсона Колыбановича
Вместо 59, 60
Заходит он в гридню в светлую
63, 64
отсутствуют
Между 68 и 69
«Милости просим молодца
В гридню во светлую»
Он говорит ...
«Ой ты ой еси, мать к‹негина› Опраксея,
У нас положена заповедь великая:
Кто у нас в городе» и т. д.
72
отсутствует
73
Если ты нейдешь в... (неразборчиво)
74
Дай мне суму бархатну
Между 76 и 77
Отдала эту суму
77, 78
отсутствуют
80
отсутствует
84
Из которой он пил-ел
91
Украли твою цяру золотую
Вместо 92, 93
И говорит солнышко Владымир-князь таково́ слово́
96
Снаряди своего коня доброго
97
Сядь на коня и поедь в поле чистое
102
Выходил вон на улицу
104
Снаряжал своего добра коня
107
Настигает калик перехожиих
109
Вы блядь ворона пустопёрая
Между 112 и 113
без которой ‹Владымир› не ест не пьет
114
Остановились калики перехожие
116
отсутствует
117
Дали все по алабушу и по потяпушу
136
Снарядил коня доброго
Вместо 137 и 138
Сел на коня, поехал во чисто поле
140
отсутствует
141
Кругом переехал калик же
144
Здравствуйте, удалы добры молодцы
152
Обыскали они сумы бархатны
155
отсутствует
Вместо 159—164
Пошли они тогда в Ерусалим-град,
Да эти калики перехожие,
Входят в Христову божью церковь
Да ‹видят› того же Самсона Колыбановича.
Самсон сын Колыбанович стоит Бог‹а› мо‹лит›,
Они пали ему в ноги —
Да тут Самсону смерть случилася, стали прощаться.
- 449 -
Различия между полевой, перебеленной записями и публикацией (Аст., I):
7
нет в перебел. тетр.
17
последнее слово в полев. зап. неразборчиво, в перебел. осталось нерасшифровано (стоит «?»), в Аст., I — «челобитием».
24
в полев. зап. после слова «Отвечают» неразборчивое написание; в перебел. и Аст., I — «как».
29
последнее слово в полев. зап. неразборчиво, в перебел. стоит «?», в Аст., I — «ницего».
71
последнее слово в полев. зап. написано сокращенно «сп...»,
в перебел. — «спать», в Аст., I — «спаленку».74
после слов «Нейдешь в гридню» — в полев. зап. неразборчиво,
в перебел. — «светлую», в Аст., I — «тёплу спаленку».76
после слов «чару золотую» в полев. зап. — «во сум...»,
в перебел. — «во суму бархатну», Аст., I — «во сумочку».78
в полев. зап. — «На тое же кр‹ыльцо›...» (неразборчиво),
в перебел. — «На тое же крыльцо красное»,
Аст., I — «На тое же крыльцо на прекрасное».
103
в полев. зап. — строка неразборчивая, стоит «?»,
в перебел. — не расшифровано,
Аст., I — На тот же пошёл на конюшен двор.126
в полев. зап.: «Снаряди и т. д.».
136
в полев. зап.: «и т. д.».
Одна из двух записей этой былины на Нижней Печоре. По композиции ничем существенным не отличается от других печорских текстов, лишь развязка иная: дойдя до «Ерусалима», калики видят в церкви воскресшего Самсона (то же в № 174 — ср. пинежскую запись — Григ., I, 44). Центральный эпизод былины — неудачные попытки Апраксии совратить калику — передан кратко. «Самсон, оказывается, был раньше в связи с Апраксией; внесение этой детали мотивирует поведение Апраксии» (Аст., I, с. 636).
№ 172
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 36 об. — 38 (полев.), тетр. 3, л. 26—27 об. (перебел.); Аст., I, № 62 [«Сорок калик».]
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.
«Текст сокращенный, скомканный и незаконченный. Восходит к той же редакции былины, к которой относится ‹...› текст, записанный Ончуковым (№ 170 наст. изд.). Сохранились в точности отдельные стихи» (Аст., I, с. 636).
Разночтения Аст., I, № 62
23
Вдруг не белые лебеди воскликали
№ 173
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 8 об. — 9 (полев.), тетр. 3, л. 103, 103 об. (перебел.); п. 1, № 43, маш.; Аст., I, с. 637 «Про калик».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Ивана Григорьевича, 40 лет.
Запись с неполными строками в полевом и перебеленном тексте. Угловыми скобками обозначены слова, внесенные А. М. Астаховой при публикации в «Былинах Севера».
- 450 -
См. биографическую заметку о И. Г. Носове, с. 456.
Традиционное для Печоры начало былины о сорока каликах; главный герой, как и в большинстве других записей, назван Касьяном.
№ 174
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 71 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1. ед. хр. 43, л. 10—12, рукоп. «Сорок калик со каликою».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73-х лет.
Былину перенял от Пономарева Ф. М.
Исполнитель придерживается традиционной для Печоры сюжетной схемы, но еще больше упрощает ее. В тексте выпущены зачин с упоминанием озера Маслеева, некоторые эпизоды, связанные с Киевом; остается только догадываться, что княгиня Апраксия подложила княжескую чару в подорожную сумку Касьяна, а князь хватился пропажи и послал Алешу Поповича вдогонку за подозреваемыми в воровстве богомольцами. В образах калик перехожих нет ничего богатырского — они безропотно дают себя обыскать. Необычна конкретность просьбы, обращенной к князю Владимиру: дать милостыню «хоть не кажну калику по пети рублей».
№ 175
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 116, маш.; «Сорок калик». БП, № 32 [«О каликах»].
Зап. Сапожниковой Д. Я.: авг. 1942 г., д. Крестовка Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Макара Ивановича, 66 лет.
Отрывок сохраняет текст, записанный от отца сказителя И. Е. Чупрова (№ 172). Отличия незначительны (БП, с. 536). «Нижняя Мала Галица» — перенос из печорской редакции «Дюка».
СТАВР ГОДИНОВИЧ (№ 176—179)
Исследователи выделяют две версии сюжета: более древнюю, представленную урало-сибирскими записями (в ней жена Ставра приезжает в Киев в качестве посла иноземного царя с требованием дани, успешно выдерживает испытания стрельбой из лука и борьбой), и более позднюю прионежскую (здесь героиня выступает в роли жениха племянницы или дочери князя Владимира, к прежним состязаниям добавляются испытания посла баней и постелью). Две печорские записи (№ 176, 178) в основном примыкают к урало-сибирской версии: в них нет сватовства к племяннице князя; Василиса Микулична разыгрывает роль посла, которому мать или жена Ставра поручили его выкупить; не упоминаются испытания посла баней и постелью. На связь с сибирской версией указывает также формула: «А не дать Ставра — прогневить посла» (князю нечего опасаться слуг Ставра, приехавших к нему с богатыми подарками, а от настроения «грозного посла» чужеземного царя зависит его благополучие). Последний по времени записи (1964 г.) текст В. Лагеева занимает промежуточное положение между урало-сибирской и прионежской версиями, однако связан он не столько с устной традицией, сколько с печатными текстами (см. наш коммент. к № 179). Своеобразен текст № 177, не укладывающийся ни в одну из указанных выше версий (см. коммент. к этому варианту).
№ 176
Онч., № 23 «Ставер Годинович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского р-на — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
- 451 -
Выпущенный собирателем при публикации отрывок — хвастовство Ставра — восстановлен в подстрочнике. Самый полный печорский вариант «Ставра», восходящий к устной традиции. К состязаниям в стрельбе из лука и борьбе добавлена игра в шахматы — эпизод, известный по Сборнику Кирши Данилова (№ 15) и некоторым прионежским текстам (ср. № 177). Сказитель использует мотивы из других былин (рассказ о шубе, которую Ставр волочит по полу, и клевете бояр перенесен из второй версии «Ильи Муромца и Калина-царя»; борьба и игра в шахматы изображены так же, как в печорских записях «Добрыни и Василия Казимировича», и лишь стрельба из лука описана по-иному).
№ 177
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 8—8 об., рукоп. «Ставра сын Годинов».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Контаминация былин о Ставре Годиновиче и Бутмане. Эпизоды из «Бутмана» (строки 1—41) мотивируют заключение героя в темницу (он хвастает не богатством и женой, как обычно в «Ставре Годиновиче», а своей силой и меткостью). Следы завязки, сходной с № 176, сохранились в реплике Ставра «Не говорил я, солнышко, таковы слова» (Бутман никогда не отрекается от своих речей, а Ставру в варианте П. Поздеева приходится опровергать клевету бояр). В дальнейшем действие в обоих текстах развивается по одинаковой схеме: жена Ставра переодевается в мужское платье, просит у князя Владимира позволения выкупить его пленника, успешно выдерживает испытания игрой в шахматы, стрельбой и борьбой; мотива сватовства нет. В деталях и подробностях — некоторые отличия. В былине И. Осташова жена Ставра (переодетая) называется «Васинькой Окуловицем», а не «Ивановичем» (ср. № 178); иначе описано переодевание, выбор князем борцов, стрелков и игроков в шахматы; на других художественных образах построен иносказательный намек, помогающий Ставру узнать свою жену (строка 145). Лучники стреляют не в кольцо, как у П. Поздеева, а в «петёнышко» (одно из древних значений этого слова — «метка, знак» — см. Даль, т. 3, с. 533). В былине И. Осташова не сохранилось никаких следов так называемой сибирской версии сюжета.
№ 178
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 51—55, маш. «Ставр Годинович»; БП, № 27 [«Про Ставра»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Хабариха Усть-Цилемского р-на — от Осташова Якова Андреевича, 65 лет.
В тексте переплетаются мотивы былин о Дюке Степановиче и Ставре Годиновиче. Смешение этих былин встречается и в мезенских вариантах (Григ., III, 34; Аст., I, 35). С первым сюжетом связана активная роль матери героя (в ее уста вложен наказ не хвастаться на пиру, она посылает свою невестку в Киев выкупать сына), эпизод с «калачиком крупитцатым», с которого Ставёр обламывает корочки. Но основу данного варианта составляют традиционные эпизоды из «Ставра» в редакции, близкой к тексту № 176. Некоторые мотивы опущены: нет переодевания героини в мужское платье, хотя князь Владимир принимает ее за «добра молодца»; не описываются состязания в борьбе и стрельбе из лука. Действие, как обычно в этом сюжете, приурочено к Киеву, но Ставёр живёт «в Новом во городе». «Раньше сказитель знал отдельно былины о Ставре и Дюке». (БП, с. 535).
Разночтения БП, № 27
6
Он стал да просить да благословеньица
26
Он седлал седло черка́льское
34
Удалой доброй молодец в стремена́х сидит
- 452 -
№ 179
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 502.1; 503.1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, маш., № 3 «Ставер Годинович».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет, и его жены Кирилловой Евдокии Ниловны, 64 г.
См. звуковое прилож. № 2.
Во время пения после 153 строки исполнитель сбился; строка 196: Не ... уж не ...
Самый полный и логичный вариант «Ставра» из северо-восточных районов. Композиция продуманна, стиль отточен. В. Лагеев отлично владеет былинным стихом, обладает обширным запасом поэтических формул. Однако с местной былинной традицией текст связывают лишь элементы формы. Сюжетная схема, содержание и оформление основных эпизодов восходят к книжному источнику. В былине переплетаются мотивы урало-сибирской и прионежской версий сюжета. (Жена Ставра едет в Киев как «грозён посол собаки царя Калина» с требованием «даней-невыплат» — ср. с уральской версией, — но затем соглашается простить долги, если Владимир отдаст племянницу в жены мнимому послу — ср. прионежские записи.) Комбинация мотивов, ряд деталей и формул позволяют указать два фольклорных варианта как основу печатного текста: былина Сборника Кирши Данилова (№ 15) и вариант заонежского сказителя А. Чукова (Гильф., 151). С Киршей Даниловым печорскую запись роднят: формула «перепали тут-то весточки нехорошия» (о заточении Ставра), подробный рассказ о встрече «грозного посла» с послами князя Владимира; содержание их разговора, формула «дани-невыплаты за двенадцать лет, за каждый год по три тысячи»; оригинальные детали в описании стрельбы из лука; реакция Владимира на результаты каждого состязания («плюнул на сыру землю»); близка формула «отдал с руки да на руки». С вариантом А. Чукова перекликаются или почти совпадают раздумья Василисы о том, как освободить мужа (строки 58—61); указание на то, что она оставила свою дружину под Киевом; объяснение мрачного настроения посла предчувствием смерти одного из родителей; недовольство игрой «гусельщиков» и просьба поискать музыканта среди «затюремщиков»; решение Василисы вернуться в Киев, чтобы «свадьбу доигрывать». Часть этих формул и деталей у прионежских певцов встречается, но такая комбинация есть лишь у А. Чукова. Косвенное свидетельство книжного происхождения текста — упоминание царя Калина, имя которого практически не известно устной былинной традиции Печоры.
В. Лагеев не однажды обращался к изданиям былин (см. наш коммент. к № 38, 242). Интересно, что единственный полный стихотворный вариант «Ставра Годиновича», записанный на Мезени (Аст., I, 35), до мелочей повторяет композицию лагеевского текста. Исполнитель — М. В. Семенов — часть своего репертуара усвоил из книг (Аст., I, с. 250). Видимо, былину о Ставре он заучил по тому же источнику, что и печорский певец.
Отрывок из былины «Ставр Годинович» В. И. Лагеев и Е. Н. Кириллова исполнили на другой напев (ПИЯЛИ, КЗ мф 509, 5а):
- 453 -
- 454 -
ИВАН ГОДИНОВИЧ (№ 180—183)
Былина зафиксирована почти во всех районах бытования русского эпоса, композиционная основа ее сравнительно устойчива. Печорские записи (4 варианта) частично перекликаются с текстами из других северо-восточных регионов — расправа богатыря с невестой «происходит всегда у воды, и ей предшествует приказ Ивана Годиновича дать ему напиться» (Аст., I, с. 586); отец невесты вынужден уступить силе, чем вызывает неудовольствие дочери. Кроме того, для печорской редакции сюжета характерны особенности, повторяющиеся во всех записях: имя невесты — «Маремьяна» (в одном варианте «Марина»), отца — «Федор Черниговский»; Иван Годинович отправляется в Чернигов в сопровождении других русских богатырей, но затем остается в шатре, поручая сватовство спутникам; на обратном пути богатырям «перепала дорожечка кровавая, поперечная», Иван Годинович едет по ней один с невестой и встречает соперника (или отправляет по кровавому следу товарищей и остается один на один с прежним женихом Маремьяны); Илья Муромец пытается отговорить его от этого решения; отправившись в шатер «опочин держать», соперник Ивана Годиновича и Маремьяна «не закрыли полу правую»; привязанного к дубу богатыря освобождает Маремьяна. На Мезени и Кулое в подавляющем большинстве текстов герой добывает невесту в одиночку, мотив «дорожки кровавой» оказывается поэтому излишним (но он зафиксирован на Выгозере, на Алтае и предшествует сватовству в варианте из Сборника Кирши Данилова). Оригинальна формула отказа Федора Черниговского, отмеченная только на Печоре:
Не Иванушка поставил тонку пленочку,
Не Иванушке попала в пленку уточка, —
Васильюшко поставил тонку пленочку,
Окулову попала в пленку уточка.Сходство печорских текстов «Ивана Годиновича» столь значительно, что не исключено их близкое генетическое родство (все они записаны на Нижней Печоре).
№ 180
Онч., № 80 «Иван Горденов».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., сел. Великая Виска Пустозерской вол. — от Дитятева Алексея Ивановича, 71 г.
Содержание и последовательность основных эпизодов традиционны для Печоры. А. Дитятев акцентирует внимание на враждебном отношении невесты к сватам: только угроза отца срубить голову заставляет ее смириться со своей участью. Однако она отказывается ехать «на их конях». Как и в текстах И. Маркова, в комментируемом тексте по кровавому следу отправляются спутники Ивана Годиновича, их разделение на «десяточки» встречается также в алтайской традиции (Гул., 6). Оригинальный мотив — заготовка в дорогу запасов (вина, пива, «харчу хлебного») и обещание заплатить за них князю Владимиру — известен еще по одной печорской записи (№ 182), в других он представлен в усеченном виде (без обещания платы). В тексте встречаются заимствования из других былинных сюжетов: Добрыня собирает богатырей в Киев, разбрасывая по полю «ерлыки скорописцеты» (ср. былины о татарском нашествии), соперник Ивана Годиновича назван Василием Окуловичем (см. также следующий текст), а внешне он уподоблен Тугарину или Идолищу (иногда такая же формула используется печорскими певцами для описания внешности вражеского посла в былинах о татарском нашествии на Киев); описание поединка, видимо, перенесено из «Алеши Поповича и Тугарина» (ср. № 115). Необычен финал былины — герой уезжает «в пещеры во великия».
№ 181
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 7—7 об., рукоп.; ед. хр. 10, л. 1, 2, маш.; Л., 1939, № 7; Л., 1979, № 16 «Про Ивана Горденовича».
- 455 -
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Существенных отклонений от местной редакции сюжета нет. Соперник Ивана Годиновича, как и в предыдущем тексте, назван Василием Окуловичем, невеста — паленицей преудалой. В сцене пира у князя Владимира чувствуется влияние былины «Дунай» (невесту называет не сам Иван Годинович, как обычно, а Добрыня, который 12 лет жил в Чернигове). Федор Черниговский осознается исполнителем как иноверец («Молиться у них, право, некому»). Невеста еще более открыто, чем в предыдущем варианте, проявляет свою враждебность к киевским богатырям — в пути она покушается на Добрыню (см. также № 183). Чудесное избавление героя от смерти певец, видимо, связывал с помощью его товарищей, но прямо об этом в тексте не сказано (строки 247—249). Любопытно осмысление городского слова «супружница» как иностранного (строки 53, 73). Самоубийство Ивана Годиновича, потерпевшего неудачу в сватовстве, встречается в одном из кулойских вариантов (Григ., II, 6). Учителем В. Тайбарейского был Ф. Пономарев — отец одного из сказителей, от которого записана эта былина (см. № 183).
Разночтения Л., 1939, № 7 и Л., 1979, № 16
6
Все на честном прирасхвастались (1939, 1979)
7
Иной-ёт хвастал красным золотом (1939, 1979)
11—15
вместо «новой» — «иной» (1939, 1979)
16
Как умный-то хвастал старой матерью (1939, 1979)
52
Ну, по-русски мне назвать — жену венчальную (1939, 1979)
54
Чтоб была она переводна и собой статна (1979)
56
Как походочка у ней была б павиная (1939, 1979)
64
Вот из-за того застолья нонь середнего (1979)
67
Вставал тогда Добрыня на резвы ноги (1979)
90
Тут говорил Добрыня Микитич млад (1979)
107
отсутствует (1939, 1979)
114
отсутствует (1979)
141
Оставил тут коня неприказана (1979)
152, 153
перестановка строк: 153, 152 (1979)
160
Уж ты ой еси, ворона пустоперая (1939, 1979)
171, 172
отсутствуют (1979)
175
Наезжала она на Добрынюшку Микитича (1979)
190
Опять пировали трое суточек (1979)
199
И поехали они в стольный Киев-град (1939, 1979)
211—219
отсутствуют (1979)
218
отсутствует (1939)
223
Оборол Иван Горденович Василья Окуловича (1939, 1979)
241
отсутствует (1979
289
отсутствует (1939, 1979)
291
Поздравляет тогда его Илья Муромец (1939, 1979)
295
Выходил Иван тогда вон на улицу (1939, 1979)
№ 182
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 1, 2, маш.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 2—2 об., рукоп.; Л., 1979, № 21 «Про Ивана Годиновича» (отрывок).
Зап. Леонтьевым Н. П.: 1938 г., д. Голубково Нижнепечорского р-на — от Маркова Игнатия Терентьевича, 80 лет.
- 456 -
Строки 19 и 22, отсутствующие в рукоп., даны по Л., 1979, № 21.
Вариант типичен для печорской традиции, особенно близок тексту А. Дитятева (см. № 180): обещание Ивана Годеновича заплатить за дорожные припасы, разделение киевских богатырей на «десяточки», их поездки по «дороженьке кровавой». Князя Владимира заменил «дядюшка Микитушка»; возможно, поэтому в роли свата выступает «Добрынюшка Микитич», а не Дунай или Илья Муромец. Имя соперника Ивана Годеновича «Василий Батуевич» (ср. «Батуй Кайманович» в № 183) звучит более традиционно, нежели «Василий Окулович» в двух предшествующих текстах. Федор Черниговский изображен как иноземный царь — у него во дворце пируют «пановья». Несмотря на отточенность формул, эпическую обстоятельность повествования, в былине заметны признаки разрушения: ничего не сказано об отъезде Добрыни с его «десяточком», нет боя соперничающих женихов, Василия Каймановича стрелой поражают голуби.
Разночтения Л., 1979, № 21
10
Да святорусских могучих богатырей
11
Во первом-то было во десяточке
13
Во втором-то было во десяточке
15
Во третьем-то было во десяточке
21
Только видели в поле курева стоит
37
Утирается белым полотенышком
42
Он со всякими угрозами великими
49—217
отсутствуют
Примеч. соб.: «Оригинал этой, полностью записанной мною былины, к сожалению, утрачен» (Л., 1979, с. 334).
№ 183
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 22, л. 113—126, маш.; БП, № 70 «Иван Горденович». ФА VI МФ, 337.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 10 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.
Текст интересен редкой в печорском материале возможностью сопоставить варианты одной былины, определенно восходящие к общему источнику (учителем В. Тайбарейского — № 181 и А. Пономарева был отец последнего). Сравнение обеих записей свидетельствует о вдумчивом, творческом отношении Пономарева-младшего к устному эпическому наследию. В целом придерживаясь обычной для Печоры композиционной схемы, он попытался устранить «темные места», характерные для этого сюжета, уточнить психологические мотивировки некоторых поступков былинных героев. Маремьяна осознается сказителем как нерусская (Батуй Кайманович упрекает ее: «Почему же ты пошла да за чуженина?»), она активно противится сватовству киевлян, не хочет ехать на одном коне с Добрыней, дважды нападает на него; стремясь поиздеваться над Иваном Годиновичем, опозорить его, она предлагает Батую открыть в шатре «двери наполу». Спасение богатыря еще определеннее, чем в тексте Тайбарейского, объясняется помощью Ильи и Добрыни. «Илья Муромец, прощаясь с Иваном, наказывает ему вспомнить его с Добрыней, если ему придется плохо, и когда это случается и Иван вспоминает товарищей, прилетают два ворона, своим граем мешающие спать Батую и его жене. ‹...› Поражение Батуя его же стрелой и мотивировано тем, что чудесные вороны — это Илья Муромец и Добрыня, явившиеся на помощь» (БП, с. 547). Но самая удачная находка Пономарева — указание на то, что «дорожку кровавую „пропустил“ Батуй Кайманович, стремясь отбить свою невесту» (параллелей к этому мотиву в других записях нет). Нововведения сказителя логичны, но все они переводят повествование из героико-эпического в волшебно-сказочный план. В портрете невесты и характеристике двух дочерей Федора Черниговского чувствуется влияние былины «Дунай» (строки 65—70). «Имя соперника то же, что имя вражеского короля в былине того же исполнителя о Василии Казимировиче» (БП, с. 548); в варианте Тайбарейского он назван Василием Окуловичем, как и в первой по
- 457 -
времени печорской записи этой былины. В описании нападения Маремьяны на Добрыню звучат отголоски былины «Святогор и Илья Муромец», которая входила в репертуар А. Пономарева (в опубликованном тексте этот эпизод пропущен — № 8). Сюжет «Добрыня и Настасья», содержащий аналогичную сцену, Пономареву не был известен и вообще не входил в устный репертуар печорцев (см. коммент. к этому сюжету).
Разночтения БП, № 70
14
отсутствует
15 (16)
Он ничем бы, детина, да не похвалится
18 (19)
Тут выходит наш Владимир да наше солнышко
59
Я бы знаю себе да богосужену
98 (99)
Они стали пировать, они стали столовать
268 (269)
Он скакал же теперь да на коня добра
316 (317)
Говорили они мне-ка наказывали
Цифра в скобках означает № строки по настоящей публикации, не совпадающей с БП.
ДАНИЛО ЛОВЧАНИН (№ 184)
Несмотря на широкую географию записей (Зимний берег, Кулой, Мезень, Печора, Пудога, Поволжье, Терек), былина относится к числу сравнительно редких. Наибольшее количество записей сделано на Кулое и Мезени, из других районов имеются лишь единичные варианты. Основная версия сюжета завершается гибелью Данилы Ловчанина и его жены; на Кулое, наряду с этой версией, известна и другая — с благополучной развязкой. В именах собственных, содержании и оформлении отдельных эпизодов многие тексты заметно отличаются друг от друга; в то же время чуть ли не буквальные совпадения обнаруживаются в былинах, записанных в разных районах европейской части России. Эта эпическая песня испытала сильное влияние волшебных сказок (сюжет близок к АТ 465А, система образов-персонажей, многие эпизоды, формулы также близки к сказкам).
На Печоре Н. Е. Ончуков записал один полный текст и разночтения к нему. В полном варианте опущен ряд эпизодов, имеющихся в записях из других регионов; но, судя по дополнениям, сделанным четырьмя певцами, прежде этот сюжет был популярным на Печоре и разрабатывался подробнее. Примечательная особенность печорских записей — отчество Данилы «Староильевич», которое одна из исполнительниц объяснила родством богатыря с Ильей Муромцем (Данила — сын «старого», как на Печоре называют любимого былинного героя).
№ 184
Онч., № 36 «Данило Староильевич».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Рочева Егора Ивановича, 61 г.
В подстрочнике собирателем даны отрывки былины, по-иному спетые А. Ф. Вокуевым (Онч. с. 162—163, 165, 167—168).
К строке 42:
Так говори, как в трубу труби». —
«Есть у нас в чистом поли шатер стоит,
А живет тут Данилко Староильевич...»
К строке 71:
А послали-ту Олешиньку Поповиця
К строке 86:
«Ты не пей-ко-ся у князя да зелена вина,
Не пропей-ко-сь ты, Данилко, своя разума,
Поберегись-ко ты, Данилко, да доброй молодец»
- 458 -
К строке 161:
Приказала она взять шолков аркан,
Приказала она взять хлебцы подорожныя,
Приказала она взять Бельку-собачку
Примеч. соб.: «Анисим Вокуев пел немного, а конец рассказал так:
Приехал Данилко ко синему морю, ко тихой заводи и запрятал он своего коня доброго. Бельку спустил, ходит Белька коло́ синя моря и приманиват гусей-лебедей и малых утянышей и носит хозяину, а Данилко сам под скрытием. Тогда завидел дикой прыщ, захотел он от собачки отбить гусей и утянышей, тогда стал подходить за собачкой, а Данилко направил аркан. Подошел прыщ. Данилко изноровился и кинул в него арканом; накинул, прихватил, привезал к сыру дубу. Скакал, билса дикой прыщ, не мог сорвать шолков аркан. Тогда подобралса к нему Данилко, стал привязывать ко добру коню, и ведёт его за своим добрым конем о синё морё. А этот Вижа снаредил свой черлен караб досматривать Данилу, и увидал Вижа из трубы подзорноей, что ведёт Данилко дика прыща. Тогда находит кораб супротив его, начали палить, стрелять в Данила, а он натенул свой тугой лук и направил свою калену стрелу, стрелил на черлен караб, убил он много людей тремя стрелками, а больше у его не было. Тогда Данила с карабля застрелили, взели его добра коня и дика прыща и привели ко князю Владимеру. Послали опеть Олёшиньку Поповича по Овдотью дочь Викуличну. Олёша ей обсказал, что ее хотят за князя взять. Она поехала и говорит Владимеру-князю: „Покажите мне Данила Староильича, я посмотрю его“. Приказал князь. Повели ее. Посмотрела Овдотья Данилу и всё она усмотрела, что не сам собой помер, а что побит он от рук человеческих. Схватила востро копье, ткнула она тупым кончем в землю, на вострой конеч сама пала белой грудью своей. „Где лежит, говорит, блад есен сокол, тут лежи лебедь белая — не доставайся князю Владимеру!“
Присутствовавший при рассказе Вокуева Г. Чупров сказал, что он слыхал, что Владимир, услыхав об этом, сказал: „Ладно, говорил стар казак: изведите ясна сокола, не поймать бела лебедя“.
А бывший тут же И. Булыгин добавил: „Время тибе, Вижа, в котли кипеть“. Следовательно, он слыхал, что Вижу в наказание сварили.
Ф. Чуркина говорила, что Вижа было убежал, но его поймали, посадили на ворота и расстреляли кислым молоком. Она же сделала предположение, что Данило Староильевич чуть ли был не сын „старо́го“, как обычно зовут на Печоре стар казака Илью Муромца. Что-то вроде того она слыхала от стариков» (Онч., с. 168).
В былине Е. Рочева отсутствует ряд традиционных эпизодов, которые, судя по косвенным данным, имелись в прототексте (нет описания охоты, заступничества Ильи Муромца, попыток жены Данилы дать ему достаточное для битвы количество стрел). Необычен для былин и, видимо, перенесен из волшебных сказок способ укрощения «зверя вопрыща» (он описан в наказе Авдотьи своему мужу — строки 160—173). «Заповедь» супругов: «А которой-де помрёт, дак тут другой лягёт» — перенос из былины о Михаиле Потыке. Оригинальна форма учтивого отказа Данилы от княжеского угощения:
У кого эта цяра нынь в руках право,
У кого-де в руках, да нынь тому в устах.Записанные Ончуковым дополнения примечательны тем, что сразу 4 сказителя слышали когда-то эту былину, хотя и не знали ее полностью. Очевидно, во второй половине XIX в. сюжет был известен многим местным певцам; в печорской редакции Данилу предательски убивал советчик князя Владимира Визя («Вижа, Важа») Лазурьевич, Илья Муромец пытался предотвратить трагедию (см. реплику Г. Чупрова), а Авдотья Никулична хотела снарядить мужа всем необходимым (в битве с посланными против него воинами Даниле не хватает стрел — эта деталь есть и в тексте Е. Рочева, и в дополнениях О. Вокуева). В реплике Ф. Чуркиной (Вижу «посадили на ворота и расстреляли кислым молоком») сказалось презрительное отношение местных певцов к этому персонажу, а сам иронический образ позаимствован из популярных на Печоре произведений пародийного характера.
- 459 -
ХОТЕН БЛУДОВИЧ (№ 185—189)
На Печоре сделано 5 записей этой былины — больше, чем в любом другом северо-восточном районе, причем все варианты стихотворные и довольно полные. 4 из них записаны в Усть-Цилемском районе, 1 — на Нижней Печоре; последняя по времени фиксация сюжета относится к 1955 г.
По мнению исследователей, «печорские варианты больше других отходят от древнейшей основы» (Аст., I, с. 640), представляют собой позднюю ступень эволюции сюжета (НБ, с. 427, 437—438). В местной редакции сюжета конфликт полностью переводится в этический план, его ядро составляет не противоборство Хотена и братьев невесты, а месть героя за оскорбление своей матери. В связи с этим роль антипода переходит к матери невесты, которая в печорских записях устойчиво именуется «Мариной» (лишь в одном варианте допущена перестановка имен — мать Хотена названа «Маремьяной», а ее традиционное имя «Овдотья» закрепилось за матерью невесты — см. № 187). Ее поступки во многом определяют завязку действия и дальнейшее его развитие; дочери и сыновьям Марины отводится пассивная роль.
Имя невесты варьируется («Аннушка», «Чавина Чусавицна», «Савишна Чусавишна»; в двух текстах она не названа по имени); она ничем не проявляет своего отношения к сватовству, не произносит ни единой фразы и не совершает никаких действий. Как естественное развитие наметившейся на Печоре тенденции воспринимается необычный финал одного из текстов: Хотен убивает Маринку, а о результатах сватовства ничего не сообщается (№ 186).
Во всех печорских записях былины братья невесты не участвуют в борьбе с Хотеном. В одном варианте они отказываются биться с ним («Как Фатенкова смерть да ечунь страшная» — № 186), в другом живут далеко от матери (она обращается к ним за помощью лишь после двух неудачных попыток справиться с Хотеном, но сыновья не хотят рисковать своими «буйными головами» — № 187), в третьем сыновей Марины замещают зятья, которые тоже уклоняются от борьбы (№ 185). В двух текстах братья невесты вообще не упоминаются.
Социальные мотивы в местной редакции сюжета не развиты, матери жениха и невесты равны по своему общественному положению («боярыни», «вдовы купечески»), и лишь в пренебрежительном отзыве Марины о Хотене можно усмотреть глухие намеки на имущественное неравенство. В отличие от сказителей из других районов, печорские певцы не проявили особого стремления к «киевизации» данной былины, ограничившись стандартным указанием на Киев как место действия (а в двух вариантах нет и этого — № 188, 189). В печорской редакции не упоминается слуга Хотена, который играет довольно активную роль в ряде прионежских и пинежских текстов, нет также популярного в этой былине мотива обсыпания копья золотом (выкуп за освобождение плененных Хотеном братьев невесты).
Помимо своеобразной трактовки конфликта, устойчивого имени матери невесты, отсутствия некоторых популярных мотивов для печорской редакции сюжета характерно использование поэтических формул и деталей, ставших приметами местной традиции. Марина нанимает против Хотена голей кабацких, которые часто фигурируют на Печоре в разных былинных сюжетах. Устойчиво по вариантам обращение матери Хотена к Марине: «Зачем нам людьми заменятисе, зачем добрыма засылатисе? ‹...› Не можно ли их (детей) вмистя свести ‹...› родство завести?»
Во всех трех текстах, в которых упоминаются сыновья или зятья Марины, побоявшиеся выступить против Хотена, она проклинает их (см., напр., строки 133—140 в № 185).
Этот поэтичный, полный внутреннего драматизма монолог — один из редких в русском эпосе примеров прямого изображения чувств и переживаний героев (ср. жалобу Добрыни на свою участь и ответ его матери в былине «Добрыня и Алеша», сетования князя Романа на старость в прионежских записях «Наезда литовцев»). В варианте А. Осташова (№ 186) проклятие Маринки удачно связывается с сюжетным действием: она хотела бы, чтобы на «подводной кошоцьке розбойной» нашел свою смерть ненавистный ей Фатенко. Аналогичная формула есть в одном из мезенских текстов (Григ. III, 373). Это — не случайное совпадение: несмотря на более развернутый, детализированный характер, мезенская редакция сюжета дает самые близкие параллели к печорской.
- 460 -
№ 185
Онч., № 46 «Фатенко».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Дмитрия Карповича, 40—45 лет.
В подстрочнике восстановлен выпущенный Н. Е. Ончуковым при публикации отрывок былины (строки 17—33) как «подробный рассказ совершенно в тех же выражениях» (Онч., с. 194).
Текст содержит все основные особенности печорской редакции сюжета. Голей кабацких Д. Дуркин изображает подчеркнуто негативно — это падкая на даровую выпивку и деньги толпа, вооруженная чем попало; победить такого противника для Хотена не составило особого труда. Впрочем, сам бой богатыря с наемниками Марины сказитель описывает с помощью формулы, заимствованной из героических былин об отражении вражеского нашествия (голи наскоро вооружились «стегами-аншпуками»).
Немногочисленные нововведения сказителя не вписываются в традиционную сюжетную канву. Замена 9 сыновей Марины дочерями повлекла за собой бытовые неточности, неубедительные мотивировки. Все зятья живут в доме тещи, что необычно для патриархальной семьи, дочери Марины в критический момент оказываются «в гостях»; традиционное проклятие сыновьям «переадресовано» зятьям и становится явно неуместным. Наконец, инициатива примирения с Хотеном исходит от зятьев, которые непричастны к завязке конфликта.
№ 186
Онч., № 9 «Фатенко»; НБ, № 60.
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
Вплоть до финала действие в этом варианте развивается по традиционной схеме с использованием формул и деталей, характерных для местной редакции сюжета. Как и в других печорских текстах, братья невесты практически не участвуют в столкновении с Хотеном, инициатива полностью переходит к их матери. Подробно разрабатывая начальные эпизоды былины, исполнитель заметно упрощает вторую часть: Маринке так и не удается выставить «поединщика», и она оказывается во власти Хотена. Необычная развязка — убийство Маринки — нисколько не противоречит идейной направленности печорской редакции сюжета: при перенесении акцента на ссору двух вдов такой финал вполне уместен, а дальнейшее развитие темы сватовства оказывается излишним. Предположение, что «и характер убийства (разрывание на части), и имя — Маринка — указывают на влияние других былин, в частности — былины о Добрыне и Маринке» (Аст., I, с. 640), не подтверждается новыми записями. Как уже говорилось, имя «Маринка» обычно для местной редакции сюжета; кроме того, ни в одном печорском варианте «Добрыни и Маринки» нет описания расправы, подобного тому, который использовал А. Осташов. Сказитель называет мать Хотена «дочь Облудишна» (обычно ее именуют «Блудовой вдовой»). Это — не обмолвка, так как соответствующие изменения внесены в устойчивую формулу-монолог Маринки. Введенное в него нетрадиционное сравнение Хотена с «верблюдищем» — явно позднее.
№ 187
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 13—22 об. (полев.), тетр. 5, л. 12—18 (перебел.); Аст., I, № 98 [«Фатенко»]; НБ, № 61.
Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска Ненецкий нац. округ — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.
Былина была сначала рассказана, затем спета. Оба варианта значительно отличаются друг от друга. В полевой записи круглыми скобками отмечены добавления и изменения при пении, квадратными — принадлежащее сказанному варианту. Слева на поле цифрами обозначен порядок спетых стихов, не совпадающих со сказанными.
- 461 -
Публикуется спетый вариант по полевой записи.
Сказанный вариант
1
Во стольнем славном городе во Киёве
2
Жил солнышко В‹ладим›ир князь
3
Было пированьё-столованьё почесен пир
4
отсутствует
Вместо 5, 6, 7
порядок строк 6, 7, 5
Между 7 и 8
Сидят на пиру напиваютца
Вместо 9—12
порядок строк 11, 12, 9, 10
9
Сидели они за столом за середниим
Между 12 и 13
У Овдотьи была дочь прекрасная красавица
У М‹аремьян›ы был сын тоже красавец
13
Посваталась Маремьяна к Овдотьиной дочери
14
За любимого своего сына за Фатенушка
15
Обругала Овдотья у ей сына Фатенушка
16
У тя муж был блудищо
17
И сын у тебя будет чудищо
21
отсутствует
23
отсутствует
Между 24 и 25
Из-за дубова стола́ вон на юлицу
26
Пошатнулось у Владимира гриньское царьсво
33
отсутствует
34
Уж ты ой еси, солнышко Владимир-князь
38, 39
отсутствует
Между 41 и 42
У ей была дочь любимая
У меня сын Фатенушка
42
Посваталась я у Овдотьи на дочери
45
Муж-то у тебя был блудищо
46
Да и сын-то у тебя чудищо
52
отсутствует
53
Идёт-то Маремьяна чисты́м полё́м
60
Уж и как ты идешь рано со чесна́ пира́
64
отсутствует
71
Друга была Маремьяна, блудова́ вдова́
73
За любимого за сына за Фатенушку
75
У тебя муж был блудищо
76
И сын у тебя был чудищо
Вместо 83—86
86, 84, 83, 85
85
Белые руки его да размахалися
87
Пошел-то Фатенко на конюшен двор
Вместо 90, 91
Во седёлушко черка́льчето
Во узду во тацьяную
Между 92 и 93
Ради при́прежи лошадиныя
Не оставил бы его конь в чисто́м поли
99
Поехал Фатенко во чисто́ поле
100
отсутствует
104
отсутствует
- 462 -
108
Не буйны-то ветры сповя́нули
114
Разорю твой дом со дна́ на́верх
118
На одно плечо кунью шубу
123
Уж вы ой еси, голи кабацки и толстобрюхи
125
отсутствует
132
Как травой берёт
133
отсутствует
153
Сворочу дом со дна́ наверх
Между 153 и 154
Тут-то Ов‹доть›и ‹за беду встает›
За в‹еликую› д‹осаду› п‹оказалосе›
163
отсутствует
Вместо 164, 165
Говорит Овдотья таково́ слово́
168
И бросила эти камешки в синё морё
Помимо отмеченных расхождений сказанный вариант отличается от спетого и более мелкими деталями, напр., при пении изменялись формы слов: «одна» — «ёдна», «кирпищат» — «кирпищет», «улицу» — «юлицу», «оци» — «очи» и т. п.; добавлялись частицы, местоимения, союзы, напр.:
Спетый вариант
Сказанный вариант
3
Да было
Было
8
Тут сидели
Сидели
12
Другая Маремьяна
А другая Маремьяна
22
Да тут-то
Тут-то
30
Уж как же
Как же
31, 32, 61, 62
при пении
начинаются со слова
«Али»
159
Не едем
Што не едем
и т. п.Разночтения в полевой, перебеленной записях и публикации (Аст., I):
21
в полев. — «когда жёрьнышко не...» (далее неразборчиво),
в перебел. — «когда жёрьнышко не найдет, тогда голодом живет»,
Аст., I — «когда жёрьнышко не найдет, тогда голодом».
Вместо 143, 144, 145
в полев. зап. — «то же самое».
Между 146 и 147
в полев. зап. — «то же, все то же, 3-й раз»,
151
в полев. — «Дав... мне в ‹поединщи›ка»,
в перебел. — «Давай-ко мне в поле поединщика».
«Печатаемый вариант довольно близок к устьцилемскому в записи Ончукова (№ 185 в нашем издании — Сост.), заключает те же основные эпизоды, но более развертывает моменты былинной гиперболизации: когда, напр., в гневе обиженная Маремьяна — мать Фатенка, встает, шатается весь дом; к голям Чусова вдова обращается два раза, и оба раза Фатенко побеждает. Вариант заключает более поздние бытовые детали: Чусова вдова обращается к помощи сыновей посредством «писемицька». Сыновья «отписывают» ей. По печорской традиции в описании пира упоминаются «бояра кособрюхие» (Аст., I, с. 640—641). Как уже отмечалось, П. Дитятева поменяла имена вдов («Маремьянка» созвучно «Марине» — так на Печоре обычно называют мать невесты, а «Офимья» — традиционное для этой былины имя матери Хотена). Исполнительница попыталась
- 463 -
активизировать роль князя Владимира, но диалог князя с Маремьяной ничем не мотивирован и сам ничего не мотивирует, без нужды дублируя сюжетно необходимый разговор Хотена с матерью. В тексте удачно использовано троекратное повторение с наращением — Хотен трижды бросает «палицу буёвую» и «вскрывает двор» Овдотьи «по тёсу», «по потолку», «по ёкошкам». «Да скоро поётце — долго сказываетця» (обычно «долго» или «тихо деется») — переделка сказочной формулы; Дитятева употребила ее два раза, меняя местами наречия (строки 53, 105; см. также строку 182 в ее былине о первой поездке Ильи Муромца — № 191).
№ 188
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 139—142, маш.; БП, № 5 «Фатенко»; НБ, № 62.
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
В начальных эпизодах былины (до строки 86) действие развивается по традиционной для печорской редакции сюжета схеме, певица охотно прибегает к развернутым повторам, детализированным описаниям. Впрочем, иногда она заменяет эпические формулы простым указанием на действие героя («Обулся, оделся он по-хорошему»), вводит в былину строки из свадебных причитаний (строки 29—31 — см. об этом БП, с. 527). Почти все эпизоды, составляющие основную часть сюжета, опущены, развязка максимально приближена к завязке. Этому способствует введение в былину общеэпической постоянной формулы наговаривания на стрелу и богатырской стрельбы. В эпизоде, когда «испуганная Маринка ‹...› выводит дочь на улицу и отдает ее Фатенке», подчас без достаточных оснований видят влияние былины о Добрыне и Маринке (НБ, с. 438). Заговаривания стрелы нет ни в одной печорской записи «Добрыни и Маринки», для местной традиции характерен другой мотив — богатырь промахивается и нечаянно убивает любовника Маринки (см. коммент. к № 24, 25, 26 и др. в нашем издании). В финале текста использована популярная сказочная формула.
№ 189
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 406, л. 513—517, маш.; РФ, II, 1957, с. 265—267; БП, № 41 «Про Фатена». ФА VI МФ, 212.1; РФ, II, 1957, нап. с. 271; БРМЭ, № 63, нап. с. 317.
Зап. Колпаковой Н. П.: 23 авг. 1955 г., д. Кривомежная Усть-Цилемского р-на — от Носова Лазаря Михайловича, 76 лет.
Опорные эпизоды, составляющие основу сюжета, те же, что и в предшествующей записи. Близость вариантов, видимо, обусловлена постоянным общением исполнителей (Лазарь и Анастасия Носовы — муж и жена). Однако буквального совпадения в текстах супругов нет. Вариант Л. Носова отличается от предыдущего другим именем невесты («Савишна Чусавишна»), «творческими вариациями некоторых эпизодов, делающими их еще более выразительными» (БП, с. 539); вторая часть былины тоже до предела упрощена, но действие в ней развивается по традиционной схеме.
Разночтения РФ и БП, № 41
6
Не велику и не малую — полтора ведра (РФ)
9
Уж что же нам людьмы с тобой заменятисе (БП)
16
А вместя́х-то их свести дак сватовсьво-то завести (БП)
17
Уж как тут нонче Маринке да за беду-то стало (БП)
21
Как по всем-де по столам, столам дубовыим (БП)
25
Как у мня-то ведь есть дак дорога́ доче́рь (БП)
43
Повеся́ дёржи́т свою дак буйну голову (БП)
44
Потопя дёржит свои дак очи ясные (БП)
68
Подносила я Маринке да Чусово́ю вдовы (БП)
93
Как зерна́-то не найдет — живет тут в голоде (БП)
- 464 -
Между 96 и 97
Как отвязывала своёго да коня доброго (БП)
110
Как ведь тут-то выходила Маринка да вон из терема (БП)
При вторичной записи былины на магнитофон исполнителем не спеты строки 32, 42—44, 55, 70—80. Варианты строк в звукозаписи:
50, 51
Уж как едет моя маменька не по-старому
Уж как едет ведь родимая не по-прежнему
56
Выбегаёт он дак и маменьку нонь всё спрашиваёт
58
Уж и вся-де ты ведь едешь да не по-прежному
94, 95
Уж как тут нынче Овдотии да за беду стало
За великую ей досаду да показалось
ИВАН ГОСТИНЫЙ СЫН (№ 190—194)
Сюжет зафиксирован собирателями в большинстве эпических центров европейского Севера, в Поволжье, на Дону, Урале, в Западной Сибири и на Нижней Колыме, но общее число записей сравнительно невелико. Скромное место занимает эта былина и в репертуаре Печоры — за всю историю собирания удалось записать четыре полных варианта (в низовьях реки и в среднем ее течении) и один отрывок. Из соседних районов (Мезень, Кулой, Зимний берег) записей нет, а ближайшие в географическом отношении пинежские варианты безыменны и по своей композиции тяготеют к прионежским и кенозерским. Несмотря на ограниченность материала, можно говорить о существовании печорской версии былины, которую современный исследователь сюжета считает древнейшей (НБ., с. 55—60). Самая характерная ее особенность — подробное описание скачки Ивана гостиного сына из Киева в Чернигов и обратно, отсутствующее в других версиях и редакциях (лишь в донских вариантах рассказывается о состязании конями, но в нем участвует и князь Владимир). В Чернигове герой требует у местных попов «ярлыки скорописчаты» — документальное подтверждение выполнения им условий состязания (уложиться между заутреней и обедней). Далее печорские сказители осложняют традиционный сюжет, вводя в былину серию дополнительных эпизодов в духе сказочного повествования (князь отказывается платить «залог», задает Ивану новые задачи, которые тот с помощью своего коня успешно решает). Влияние стихии волшебных сказок, характерное для всех версий этой былины, в печорских записях особенно заметно. По существу они представляют собой типично сказочное повествование, вставленное в эпическую «рамку».
№ 190
Онч., № 22 «Иван Гостинович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
Для былин об Иване гостином сыне характерно динамичное развитие действия, объем текстов редко превышает 100 строк. Вариант П. Поздеева разросся почти до 500 строк, прежде всего за счет наращивания традиционного сюжета сказочными эпизодами. Проиграв спор, князь Владимир трижды «накидывает» на героя «службу тяжелую», выпуская против его коня отборных жеребцов. Конь Ивана Гостиновича всякий раз разгоняет или убивает княжеских лошадей. Эти эпизоды несколько тяжеловесны, однообразны, что не свойственно былинам; но наличие целого ряда чеканных эпических формул (напр., строки 236—244) свидетельствует о давней традиции песенно-стихотворного исполнения. Уникально последнее испытание — попытки «имальников» укротить богатырского коня. Нарушение князем Владимиром норм былинного этикета (отказ уплатить проигранный заклад) — черта позднейшая, но она согласовывается с общей тенденцией печорской традиции к снижению образа князя. (См. также противопоставление Владимира богатырям в мотиве поручительства — строки 51—55.) Психологизация некоторых ситуаций и чрезмерная антропоморфизация коней (диалог «названых братьев», заключительная реплика князя) — очевидно, результат личного творчества сказителя.
- 465 -
№ 191
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 24—34 (полев.), тетр. 5, л. 5—11 (перебел.) — «Состязание молодца конями с князем Владимиром»; Аст., I, № 96 [«Состязание Добрыни с князем Владимиром»].
Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкий нац. округ — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.
Былина была сначала рассказана, потом спета. Оба варианта значительно отличаются друг от друга. Публикуется спетый вариант по полевой записи, где круглыми скобками отмечены добавления и изменения, внесенные при пении, квадратными — принадлежащее сказанному варианту.
Сказанный вариант
1
Во городе во Киеве
2
У ласкова солнышка Владимира
3
Водилса почесен пир
Между 3 и 4
Про многих бояр людей добрыих
Между 4 и 5
Про тех королей королевскиих
7—15
отсутствуют
16
Говорит солнышко Владымер-князь
19, 20
отсутствуют
Вместо 23—28
27, 28, 23, 24, 25, 26
Между 29 и 30
Из того стола из середнего
Между 30 и 31
Вставаёт он да на резвы́ ноги́
И кланеетца Владымыру челобитием
31
Солнышко Владымир-князь
Между 31 и 32
Клади-тко ты сто рублей со тысячей
А я о своёй буйно́й головушке
Между 35 и 36
Клади-тко ты сто рублей со т‹ысечей›
Отошел у Владымира почесен пир
36
Пошёл Добрынюшка во чисто́ полё
После 40
Я билса с князем о велик зало́г
Вместо 41—46
45, 46, 41, 42, 43, 44
47
Говорит-то ему добрый конь м‹аленький› б‹урушко)-кос‹матецько›
Между 47 и 48
Говорит ему таковы́ слова́
48
отсутствует
54
Садитса Добрынюшка на добра́ коня́
57
отсутствует
61
отсутствует
65
Князь кладёт сто рублей со тысечей
69, 70
отсутствуют
72
отсутствует
74
отсутствует
Вместо 96—98
Приехал Добрыня ко храму ко божьему
И слезавает он с добра́ коня
Заходит во храм божий
Вместо 102, 103
103, 102
107
Штобы съездить от города до города
111
Росписались они ему скору грамотку
- 466 -
112
Топеря детинушка пошел вон на юлицу
113
Садитса Добрыня на добра́ коня
123
отсутствует
126
отсутствует
127
Вот солнышко Владымыр-князь
129
отсутствует
133
Милости прошу Добрынюшка ко мне на почесен пир
Между 133 и примеч. сказителя
Пошел-то у Владымыра почесен пир
Для Добрынюшки Микитичя
139
отсутствует
142
Говорит ему Владымыр таково́ слово́
144
Продай-ко мне бурушка косматецька
145
А Д‹обрынюш›ка говорит на то
153
И выпустите 30 жеребцей неучёныих
155
И заедат его бурушка косматецька
157, 158
отсутствуют
161
отсутствует
171
Тогда Владымиру за беду́ стало
174
Выпустите трех жеребцей неучёныих
176
отсутствует
Вместо 177, 178
они побежали и вести нет
188
вставаёт стар казак Илья Муромец
189, 191, 193
отсутствуют
206
Тут-то бурушко россердился
212
Лежал-то Добрынюшка три часа мертво́й
210
Маленький детина, не похвастывай
211
А молодой Добрыня, не похвастывай
Более мелкие различия между сказанным и пропетым вариантами сводятся к следующему: изменение формы слов («у ласкова» — «ю ласкова», «обеднею» — «обеднюю», «едет» — «поехал», «отцы» — «ётцы», «пусть» — «пущай» и т. п.), добавление или выпадение отдельных коротких слов:
Спетый вариант
Сказанный вариант
5
Тут вси
Вси
6
Да вси
Вси
27
Я сто кладу
Сто кладу и т. п.
Разночтения в полевой, перебеленной записях и публикацией (Аст., I):
9
не дописано в полев. тетради, вычеркнуто в перебел.;
12—15
конечные глаголы восстановлены, как в Аст., I, т. колл. в полев. тетр. записаны только начала строк, очень неразборчиво, в перебел. концы строк не расшифрованы, имеется приписка «посмотреть по другим сборникам?»;
23
в полев. тетр. — начала строки нет: «...от города до города»,
в перебел. — строка отсутствует,
Аст., I — «Съездить от города до города»;
69, 70
восстановлено по перебел. рукоп. В полев. — «Да три дев и т. д»;
108, 109
восстановлены по перебел. рук. В полев. — «Да три и т. д»;
116—120
восстановлены по перебел. рукоп. и предыдущим строкам полев.;
- 467 -
Между 124 и 125 после примеч.
в полев. тетр. строка «Несёт-то ‹тысячу› на буйно́й головы́»,
сказителя.:
выпущенная в перебел. рукоп. и в Аст., I;
После 146
в перебел. тетр. вставлена строка «Несёт-то тысячу на буйно́й головы́» и поставлен «?»;
163—166
восстановлены по перебел. рукоп.
Текст в основном повторяет сюжетную схему записи Ончукова, дополняя ее некоторыми интересными подробностями. В роли главного героя выступает Добрыня, который берет расписку у попов не только в Чернигове, но и в Киеве; еще более развернуто и красочно описание богатырской скачки (строки 91—103). Дитятева последовательно противопоставляет князя Владимира киевским богатырям (по воле князя утверждаются неравные условия состязания: он закладывает деньги, а соперник рискует «своей буйной головушкой»; выигранный заклад Добрыня получает только по настоянию Ильи Муромца и Самсона). В сказочный по содержанию сюжет введены некоторые мотивы сказок, не встречающиеся в других записях (использована формула «Не долго поетца, скоро скажетца»; конь заранее предупреждает Добрыню, что князь не захочет расплачиваться в случае проигрыша; в финале былины бурушко наказывает нерадивого хозяина — ср. № 192). Оговорка сказителя, назвавшего «царищем» (строка 155), отчасти закономерна — Владимир в этом тексте напоминает не столько былинного князя, сколько сказочного царя. Выразительна формула отказа продать коня (строки 159—160).
№ 192
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 3—3 об., рукоп. «Про Ивана Годеновича».
Зам. Леонтьевым Н. П.; 1938 г., выселок Красное Куйского колхоза «Красное знамя» Нижнепечорского р-на — от Карманова Григория Андреевича, 57 лет.
Былина записана со слов.
В тексте нет подробного описания скачки, не говорится о «ярлыках скорописчатых», которые требует герой у черниговских попов, но остальные особенности печорской версии сюжета представлены довольно полно. Вторая часть былины логичнее и стройнее по композиции, богаче формулами, нежели соответствующие эпизоды в самом полном печорском варианте П. Поздеева (№ 190). Главный герой назван Иваном Годеновичем, это повлекло за собой указание на его родственные связи с князем Владимиром (см. строку 30). В тексте подчеркиваются богатырские качества Ивана: на княжеском пиру он сидит за передним столом, на месте богатырском (строки 26—27), а после скачки приходит на пир незваным, считая, что такой поступок только прибавит ему чести (строки 81, 82 — формула уникальна). Наказание конем своего хозяина есть еще в одной печорской записи (№ 191); видимо, этот эпизод был и в тексте учителя Г. Карманова, но у него самого вызывал недоумение (см. ремарку сказителя к строке 209). Эпитет «три-девяносто равномерных верст» (строка 18, см. также строку 25 в следующем тексте) — искаженное «мерных верст».
№ 193
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 10—10 об., рукоп. «Про Ивана Гостиновича».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Былину перенял от Ф. М. Пономарева.
Вариант обычен для печорской традиции, содержит все основные особенности местной версии сюжета. Вторая часть былины передана кратко — князь Владимир отдает «деньги выездны» после первого же дополнительного испытания. Перед началом скачки Иван Гостинович требует у князя «поручителя» (строка 45) — мотив необычный, но вполне уместный в этой былине, в печорских вариантах которой князь Владимир грубо нарушает договоренность.
- 468 -
№ 194
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 4, маш. (дата записи не указана); Леонт., 1979, № 22 «Про Ивана Годиновича» (отрывок).
Зап. Леонтьевым Н. П.: лето 1940 г., д. Подчерем — от Мезенцевой Марфы Ильиничны, 70 лет.
Начало былины, описывающее хвастовство на пиру у князя Владимира. Детали, содержащиеся в монологе князя, позволяют отнести этот фрагмент к сюжету «Иван Гостиный сын». Главный герой назван Иваном Годиновичем (ср. № 192, а также Гильф., 307, Миллер, 72).
Разночтения Л., 1979, № 22
16
Первый жеребец — да сивогривчатый
17
Второй жеребец — синегривчатый
19
Буромца против нет
22, 23
отсутствуют
СУХМАН (№ 195)
Сравнительно редкая былина, единичные ее варианты известны из разных областей России — от Поморья до Алтая и Енисейского края; в ряде других эпических песен Сухман иногда выступает в роли второстепенного персонажа. Все северно-русские и енисейский тексты принадлежат к одной версии сюжета, от которой заметно отличается алтайская версия, представленная единственным вариантом. Некоторые сказители восприняли эту былину не из устной традиции, а из книги.
№ 195
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 8, л. 40—42, маш.; БП, № 80 «Про Сухмана». ФА VI МФ, 329.4.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Былина о Сухмане не типична для печорской традиции (см. БП, с. 550).
Единственная печорская запись редкой былины. На ее бытование сильное воздействие оказали многократные перепечатки варианта одного из пудожских сказителей (Рыбн., 148). К этому источнику восходит и текст Кузьмина, в репертуаре которого много книжных по происхождению былин (см. БП, с. 216, 549—553). Печорский певец повторяет сюжетную схему пудожского варианта, опуская или сокращая некоторые эпизоды (поездка на охоту к трем «тихим заводям» на море; отправление богатырей для проверки «заработков Сухмантьевых», запоздалое предложение герою княжеской награды); он использует те же формулы (описание пира, диалог с Непрой-рекой и др.), иногда заменяя в них отдельные слова («супруга» вместо «молодая жена»; «тюрьма», «темна камера» вместо «глубок погреб» и т. п.). Возможно, замены принадлежат не Кузьмину, а редактору печатного текста. Следы литературной обработки просматриваются в заключительных стихах былины: «А Сухман-река да будь Днепре-реке, будь Днепре-реке да ты родна сестра». (Этот мотив не характерен для устной эпической традиции, а в топонимических преданиях всегда учитывается грамматический род гидронимов; об искусственной стилизации свидетельствует также синтаксическая незавершенность первой строки.)
Разночтения БП, № 80
13
Белой лебеди он да не кушает
14
Как Владимир да князь стольнокиевский
- 469 -
ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА (№ 196—213)
Почти все записи былины о Василии Игнатьевиче сделаны на европейском Севере России, однако степень ее популярности не везде одинакова. В некоторых регионах этот сюжет занимает одно из первых мест в репертуаре былинщиков (Восточное Прионежье, Кулой, Мезень, Печора), в других представлен единичными записями (Выгозеро, Западное Прионежье, Кенозеро, Пинега, Зимний берег).
В свое время А. М. Астахова выделила две версии сюжета. «Варианты былины распадаются на две четко обозначенные группы: онежскую и мезенско-печорскую (к последней примыкают варианты пинежский и золотницкий). В онежских сюжет более прост и четок. В Киеве при нашествии Батыги не оказывается богатырей. Василий „упьянсливый“, „голь кабацкая“, стреляет по шатру врага и убивает „три лучшие головушки“: Батыга требует выдачи виновного. Василий едет к Батыге, обещает отдать ему Киев, получает от него рать и избивает ее. В мезенско-печорских вариантах сюжет осложнен взаимоотношением Василия и князя с боярами, в силу чего былина насыщается элементами социального протеста» (Аст., I, с. 561).
Новые записи былины и 6 кулойских вариантов, не учтенных А. М. Астаховой (Григ., II), в целом картины не меняют: в прионежских текстах не описывается столкновение Василия с боярами, почти обязательное в северо-восточных вариантах. Различия в мотивировке временного союза Василия Игнатьевича с татарами, разночтения в именах собственных, локализация оригинальных мотивов и формул позволяют выделить внутри северо-восточной версии несколько редакций сюжета. В большинстве мезенских текстов Василий Игнатьевич не только не приводит татар в Киев, как в других северо-восточных редакциях, но даже притворно не высказывает такого намерения, как в прионежской версии. Он убивает стрелой вражеского предводителя (а не его зятя или сына) и тут же расправляется с войском захватчиков (иногда с помощью Добрыни Никитича и Алеши Поповича). Лишь в двух вариантах с верхней Мезени, примыкающей к Печорскому краю, богатырь ведет татар на Киев грабить князей-бояр (кроме Владимира и Апраксии), потом ссорится с ними при дележе добычи и уничтожает всю «силу» (Григ., III, 59, 65). Причины ненависти Василия к боярам ни в одном из текстов не указываются. Главного героя былины мезенские сказители называют «Васькой, горькой пьяницей», татарского посла — «Идолищем», имя вражеского предводителя варьируется: чаще всего «Кудреянище» («Кудреванко») — видимо, перенос из духовного стиха о мучениях Егория Храброго (см. Аст., I, с. 562), в одном случае — «Бутыга» (ср. «Батыга» в прионежской версии), а в другом — «Скурлак», как в печорских записях. Узнав о нашествии татар на Киев, князь Владимир ищет, кто бы мог «пересметить» «силушку неверную»; на Василия Игнатьевича обычно указывает Добрыня Никитич (Алеша Попович, Михайло Данилович). Выпив поднесенную Владимиром чару вина, богатырь заявляет:
Уж я был же старик да девеноста лет,
Я тепере молодечь да двадцати годов.Кулойские варианты отличаются от мезенских прежде всего тем, что в них обязательным компонентом сюжета является открытое столкновение Василия с «боярами кособрюхими». Они насмехаются над его «гуней кабацкой», и богатырь снимает с одного из них соболиную шубу, отдавая взамен свою одежду (3 варианта из 6); во всех 4 полных текстах готовы откупиться от татар головой Василия Игнатьевича («Ты загрезил — да так отгреживай», «Ишша хто ноньце эти шутоцьки зашуцивал, да тому будёт шутоцьки отшуцивать»). В таком контексте временный союз богатыря с татарами (3 варианта) воспринимается как логичное развитие этого конфликта. Стрельба из лука изображается всего в 2 кулойских вариантах, и оба раза Василий убивает татарского царя; в 2 текстах во время поединка срубает голову его зятю. Главного героя былины, как и на Мезени, называют «Васькой, горькой пьяницей», его противника — чаще всего «Курганом», в отдельных вариантах — «Кудреванкой», «Баканищем»; в роли татарского посла обычно выступает «Панищо плехатое» (видимо, производное от обобщенного наименования приближенных иноземного царя — «пановья-улановья»). В некоторых кулойских текстах (Григ., II, 10, 58) встречается ряд оригинальных мотивов, не известных по записям других районов. В то же время отдельные детали и формулы кулойских былин перекликаются с мезенской и печорской традициями.
- 470 -
Пинежский (Григ., I, 105) и единственный золотицкий вариант, восходящий к устной традиции (Марков, 77), в основном повторяют сюжетную схему кулойской редакции.
Печорская редакция сюжета ближе к кулойской, нежели к мезенской, в ней еще более важную роль играет социальный конфликт. «В печорский вариант вводится еще „подсушина“, один из „голей“, который не хочет князю Владимиру указать нужного ему богатыря, так как он не с ними „думу думает“, а с „боярами кособрюхими“. Вообще наибольшей остротой отличаются печорские варианты», — отмечала А. М. Астахова. (Аст., I, с. 562).
Привлечение новых записей позволяет уточнить контуры местной редакции. Обычное имя главного героя — «Василий Игнатьевич» (в 2 случаях без отчества — «Васенька», «Василей»), частое на Мезени и Кулое прозвище «горька пьяница» есть лишь в одном кратком пересказе (кстати, и отчество героя здесь заменено — «Васенька Буслаевич»). Вражеское войско возглавляет Скурла-царь, татарский посол не называется по имени. Из 5 вариантов, содержащих описание стрельбы из лука, только в одном Василий убивает Скурлу, во всех остальных — его зятя Киршака. В печорских былинах разными средствами подчеркивается враждебность «князей-бояр» Василию Игнатьевичу: они открыто возмущаются честью, которую оказывает богатырю князь Владимир, угощая его в своем тереме (№ 196), трусливо выдают Василия татарам: «Кто беду загрезил, тот догрезивай», не желают признавать его заслуг перед Киевом: «Тебе сказано, Васенька, отказано», «Боле Васиньки не надобно», на что герой отвечает: «Еще ли я вам, Васинька, понадоблюсь». Характерно, что некоторые исполнители не ограничивались единичным указанием на конфликт богатыря с боярами и вводили в свои тексты по 3—4 формулы, идентичные или близкие по смыслу. Как закономерный итог этого длительного противостояния воспринимается расправа Василия с боярами, завершающая один из вариантов (№ 197). В духе печорской традиции переработал финал былины один из сказителей советского времени: не татары, а киевские бояре пытаются присвоить всю военную добычу, обделить богатыря-победителя, и только угроза физической расправы заставляет их отступить (№ 201).
В сниженном плане рисуют печорские певцы и образ князя Владимира. Во время татарского нашествия он откровенно растерян, лишен инициативы — спрашивает совета у княгини Апраксии (3 варианта), ведет трудные переговоры с «подсушинами» кабацкими и лишь с третьей попытки получает необходимую информацию. Последний эпизод известен только по печорским записям (4 варианта, еще в одном «подсушину» заменила «бабушка-задворенка»). Как и в других северо-восточных редакциях, князь не смеет перечить боярам. И хотя в 2 вариантах, изображающих временный союз Василия с татарами и захват Киева, богатырь обеспечивает безопасность князя Владимира (№ 196, 197), в гневе он готов и на него поднять руку (№ 196, 201). Для печорских записей характерно также употребление ряда оригинальных поэтических формул и прикрепление к этой былине «типических мест», которые в соседних районах в ней не встречаются. В запеве о турах (а им на Печоре открывается не только былина о Василии Игнатьевиче) обычно рисуется такая картина:
Выходила из ворот да красна девушка
В одной-де рубашечке без поеса,
Как в онных башмачках без чулочиньков. (9 вариантов)
Забродила она да по колен в воду,
А ище того поглубже выше поеса,
А ище того поглубже до белых грудей. (5 вариантов)На Мезени и Кулое первое описание не зарегистрировано, а второе не столь детализировано, в нем нет утроения («Забродила в Неву-реку по поесу» или «по колен в воду»). В мезенских и Кулойских текстах говорится, что у сына и зятя татарского царя силы по «сорок тысячей», а у него самого — «числа-сметы нет»; на Печоре эта эпическая формула слегка видоизменяется:
По праву руку собаки сорок тысецей,
По леву руку собаки сорок тысецей,
Позади его собаки числа-сметы нет.
- 471 -
(Аналогичное описание есть в одном из мезенских вариантов былины «Михайло Данилович» — Григ., III, 81). В некоторых печорских былинах встречаются формулы, не известные по записям из соседних районов. У пропившегося богатыря «ни креста у его нету, ни поеса» (3 варианта); остановившись под Киевом, Скурла-царь
Хорошо-де собака да шатры выставил,
Хорошо он, татарин, да верхи выкрасил. (3 варианта).Когда Василий Игнатьевич убивает стрелой его зятя, Скурла говорит: «На кого было надея, того черт (леший) побрал» (2 варианта). Таковы отличительные черты печорской редакции, позволяющие говорить о ней как о разновидности северо-восточной версии сюжета. Наиболее полно они представлены в 4 текстах, записанных на реке Пижме, левом притоке Печоры (№ 196, 197, 199, 201 нашего издания), но многие из них встречаются и в двух вариантах со Средней Печоры (№ 200, 202). Лишь последняя по времени запись — краткий пересказ былины — не содержит специфических примет печорской редакции сюжета и, возможно, не связана с устной традицией (см. коммент. к № 212).
Эти 7 текстов, которые безоговорочно можно отнести к сюжету «Василий Игнатьевич и Батыга», не дают полного представления о степени популярности былины — характерные для нее эпизоды, поэтические формулы, имена собственные встречаются еще в 8 печорских текстах. Многие из них фрагментарны, их сюжетную принадлежность трудно определить, поэтому исполнители и собиратели давали этим текстам разные названия — «Василий Игнатьев», «Илья Муромец и Скурлык», «Туры и турица», «Про „Маево“ побоище». Но в целом они составляют несколько переходных «ступенек» от традиционного сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» к былинам о татарском нашествии типа «Камское побоище». С первым сюжетом их роднит использование запева о турах (6 вариантов), который в разных регионах Русского Севера прочно закрепился за этой былиной; описание вражеского нашествия на Киев, имя татарского царя (в 6 вариантах — «Скурла», «Скурлык», «Скурлат» и лишь в 2 — «Кудреванко» и «Курвин-царь Смородович»), а также перенесение на Илью Муромца некоторых черт Василия Игнатьевича. С былиной о Камском побоище «пересекается» вторая часть произведения (на первый план выдвигается Илья Муромец, оживление перебитого татарского войска мотивируется хвастовством и святотатством братьев Долгополых).
Печорские тексты переходного типа образуют две группы родственных вариантов. В первой группе ближе других к сюжету «Василий Игнатьевич и Батыга» стоит начало былины, записанное от П. Маркова (№ 199). В нем содержатся традиционные для местной редакции сюжета мотивы и эпизоды — запев, описание нашествия татар во главе со Скурлой, наказ Скурлы своему послу. (Видимо, это сходство и побудило Н. Е. Ончукова дать отрывку название «Василий Игнатьев».) Вместе с тем сказитель использовал две формулы, которые не встречаются в печорских вариантах былины о Василии Игнатьевиче и обычны в текстах переходного типа. В описании вражеского нашествия после перечисления татарских предводителей говорится:
На всякого царя да силы по три тьмы,
На царевичей да по три тысечи.(Ср. № 203, 204). Детально описан выбор посла в строках 62—66. (Ср. № 207, 208, а также № 204, где эта формула видоизменена). Во втором тексте (№ 208) первые три эпизода те же, есть и аналогичное описание выбора посла (строки 42—47), а в конце исполнитель прозой сообщил, что Илья Муромец «прикосил... всю святу орду». Вариант № 207 до 49-й строки чуть ли не дословно совпадает с № 208 (оба сказителя из одной деревни), далее следует довольно подробный рассказ об отражении вражеского нашествия. Татарское войско избивают Илья Муромец и Добрыня Никитич; певец использовал некоторые мотивы из других былин об Илье. Начало текста № 204 аналогично трем первым (есть в нем и формула «по три тмы, по три тысеци», имя татарского царя «Скурло сын Смородович»). Но дальше события получают другой поворот: Илья Муромец лежит (видимо, в кабаке) «на печке на муравленке» под «худой рогозиной», он пропил свой крест, шубу и колпак, князь Владимир выкупает их у чумака-целовальника. Все эти подробности явно перенесены из былины о Василии Игнатьевиче, как и заключительный эпизод (Илья заговаривает стрелу и убивает ею Скурлу); о разгроме вражеского войска ничего не сообщается.
- 472 -
Самый развернутый вариант этой группы (№ 203) не имеет запева, но вся его первая часть идентична прокомментированным текстам (есть в нем и формула «по три тмы да по три тысечи»). Как и в ряде других текстов переходного типа, особо подчеркивается огромная сила татарского посла: Алеша Попович не может «сломать печать татарскую» на письме, содержащем ультиматум князю Владимиру; сделать это удалось лишь Илье Муромцу; рассерженный насмешками Ильи, посол хотел перевернуть княжеский терем: «Не сидел бы старой в переднём углу, повернул бы вверх дном всю хоромницу» (этот мотив есть также в № 204 и былине И. Дуркина «Про „Маево“ побоище» — № 105). Влиянием сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» можно объяснить то, что Илья Муромец дважды отказывает князю Владимиру в помощи («Ты не с нами ныне думу думаёшь, ты ле думаёшь с боярами да с толстобрюхими») и только после третьей просьбы выступает против татар вместе с другими русскими богатырями. Далее исполнитель прозой рассказал о победе над татарами, о хвастовстве братьев Долгополых и новой битве с восставшим вражеским войском.
Связь второй группы вариантов с комментируемым сюжетом не столь очевидна. Самый краткий текст (№ 209) состоит из запева о турах и описания нашествия вражеского царя, имя которого «Курвин-царь Смородович» созвучно имени «Скурло сын Смородович» в некоторых печорских вариантах (№ 198, 204 и др.), а в имени зятя «Кирпищик» угадывается «Киршак» — традиционное имя зятя в большинстве северо-восточных записей былины о Василии Игнатьевиче. От первой группы вариантов отрывок отличается тем, что в него введен новый персонаж: калика сушит платье и видит, как вражеское войско вторгается на Русь. Во втором тексте (№ 206) имена традиционные («Скурла-царь Смородович» и «Киршак»), действие развивается по такой же схеме, но подробностей больше: калика видит, как враги переправляются через Елисей-реку, спешит в Киев; Илья Муромец замечает калику в окно и намекает князю Владимиру на какой-то вещий сон; калику зазывают в княжеский терем для расспросов. Еще более развернут и детализирован третий текст — «Про „Маево“ побоище», записанный от устьцилемского сказителя П. Поздеева (№ 105). Как и в самом полном варианте первой группы (№ 203), в нем нет запева, действие сразу начинается с описания переправы «ёрды неверной», которую наблюдает остановившаяся на отдых «калика перехожая». Далее подробно рассказывается, как Илья Муромец видит калику в окно, велит зазвать ее в княжеский терем и угостить, расспрашивает о новостях и т. д. Основную часть текста составляет сюжет «Камское побоище» (сборы русских богатырей, подготовка к битве с воскресшей «силой»). Как и в двух вариантах первой группы, вражеский посол пытается перевернуть «гриню княженевскую», а с одним из них (№ 204) текст Поздеева (№ 105) перекликается с крайне редким в русском эпосе мотивом — вражеский царь заговаривает свое войско (строки 39—41). В том, что враги требуют «у князя виноватого», можно усмотреть глухой отголосок былины о Василии Игнатьевиче, который часто убивает стрелой зятя или сына татарского царя. Имя вражеского предводителя «Кудреванко» не свойственно печорской традиции, но обычно в мезенских и ряде кулойских записей былины о Василии Игнатьевиче.
На Печоре записан еще один текст — контаминированная былина об Илье Муромце (№ 49), — в котором калика перехожая предупреждает князя Владимира о нашествии «неприятеля со зятелком со Киршаком» (имя явно перенесено из сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга»). Характеристика Василия Игнатьевича и некоторые другие мотивы использованы также в позднем былинном новообразии «Про Ваську про вора, про Захарова» (см. коммент. к № 267), а запев о турах — в былине «Добрыня и Калин-царь» (№ 101). Наконец, в сводном пересказе Бажукова в начале последней части «Илья Муромец и Батый-царь» чувствуется несомненное влияние сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга», однако описание вражеского нашествия, имя татарского царя, прозвище богатыря «Василий-пьяница» явно позаимствованы из книги, а не из устной печорской традиции (подробнее см. наш коммент. к Прилож. II, № 7).
Приведенные выше факты свидетельствуют об интенсивной «диффузии» былинных сюжетов, о неоднократных попытках печорских сказителей ввести отдельные имена, мотивы и формулы из былины о Василии Игнатьевиче в другие эпические песни о татарском нашествии. Возможно, этот процесс отчасти был вызван забвением сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» в его классических формах — не случайно на реке Пижме, где он хорошо сохранился, не записано ни одного текста переходного типа. Следует отметить, что печорские певцы были не одиноки в своем стремлении использовать удачные художественные образы из былины о Василии Игнатьевиче
- 473 -
в родственных по тематике и идейной направленности сюжетах. И в других районах бытования русского эпоса зафиксированы единичные тексты такого рода (см. КД, 25; Рыбн., 7; Гильф., 138, 186; Григ., II, 64; III, 115 и др.).
№ 196
Онч., № 4 «Васька Игнатьев».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Чуркина (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. — от Чуркиной Федосьи Емельяновны (уроженки д. Аврамовской на р. Пижме), 55 лет.
«В старинах про Ваську Игнатьева и про Илью Муромца в опале Ф. Е. много, мне кажется, прибавляла от себя, по кр. м., передавала своими словами то, что не знала, как поется» (Онч., с. 4).
Один из лучших печорских вариантов этой былины, содержащий почти все мотивы и образы, характерные для местной редакции сюжета. Основное внимание сказительница уделяет конфликту Василия Игнатьевича с боярами, которым даже князь Владимир не смеет перечить («А князь и говорить не смет»). В тексте опущен эпизод стрельбы из лука; обиженный высокомерием бояр богатырь сразу отправляется в татарский лагерь и предлагает Скурле свои услуги. И хотя Василий предупреждает татар, чтобы они не трогали «князя со княгинею», «царский дворец» и «церкви божии», трусливым поведением Владимира он тоже не доволен и чуть было не расправился с князем (строки 215—220). В тексте не уточняется, является ли Василий киевским богатырем — княгиня Апраксия советует Владимиру сходить на царев кабак, посмотреть, нет ли там «русского богатыря». В большинстве других печорских записей определенно говорится, что князь ищет «заезжего богатыря». В ультиматум татарского царя введена угроза сжечь «царевы большие кабаки» — эта деталь оказывается вполне естественной и уместной в былине о богатыре из кабака.
Вариант Чуркиной исполнен на высоком художественном уровне, богат выразительными формулами, троекратными повторами. В портретном описании татарского посла использованы некоторые областные слова: «головище у его сильнёй пивной котёл», «А ручища у его как сильны граблища» (здесь «сильный» в значении «большой, огромный»), «А ножища у его как сильны кичижища» («кичига... молотило, заменяющее цеп: выгнутая, сручная палка, с плосковатым концом ‹...› Клюка, кочерга» — Даль, II, с. 112).
№ 197
Онч., № 18 «Василий Игнатьев».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Боровая (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. — от Осташовой Анны Денисовны, 62 г.
«Пела хорошо, знала старину твердо» (Онч., с. 69).
В основе текст традиционен, особенно близок к № 196, 201. Единственное существенное отличие — отсутствие эпизодов, описывающих временный союз Василия с татарами и захват Киева. Сцена ссоры богатыря с боярами, обычно предшествующая их разрыву и мотивирующая его, сохранена, однако помещена в конец былины и не совсем удачно вплетена в сюжетную ткань произведения (в финале Василий «убил всех бояр да толстобрюхих, его обещание „а ищэ ле я вам Васенька понадоблюсь“ осталось нереализованным»). Это можно объяснить частичным забвением былины сказительницей; видимо, в вариантах ее учителей действие развивалось по той же схеме, что и в других пижемских записях. В комментируемом тексте чтение ультиматума татарского царя поручается Добрыне (см. также № 201). Это — перенос из других сюжетов о татарском нашествии и былины о бое Ильи Муромца с сыном (ср., напр., № 68, 133). Такое заимствование логично, поскольку в печорских вариантах не говорится о том, что богатыри разъехались из Киева. Интересно противопоставление Василия Игнатьевича князю Владимиру: угощая героя былины богатырской чарой зелена вина,
Подаваёт-то солнышко обема рукми,
А берёт бы Василей единой рукой,
Кабы пьет-то Василей к едину духу.
- 474 -
Такой же художественный образ, призванный подчеркнуть физическую силу Василия, есть еще в одной пижемской записи (№ 201; ср. Кир., IV, с. 38 — Архангельский уезд).
№ 198
Онч., № 17 «Васька Игнатьев» (отрывок).
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Аврамовская (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. (записано в сел. Верхнее Бугаево Усть-Цилемской вол.) — от Чупрова Василия Авраамовича (Вася Малый), 78 лет.
Несмотря на отсутствие запева и начальных эпизодов, которые в других печорских вариантах излагаются очень подробно и обстоятельно, принадлежность текста к местной редакции сюжета не вызывает сомнений. Зафиксированная собирателем часть былины выдержана в духе местной традиции: на первый план выдвигается конфликт богатыря с киевскими боярами, использованы многие формулы, обычные для местной редакции сюжета. Есть в тексте В. Чупрова и оригинальные моменты: уговор с татарами не трогать в Киеве «царевы больши кабаки», некоторые подробности в описании штурма Киева (в частности, разрушение городских ворот), указание на то, что в последнем бою богатырь пощадил «силу полоненную», то есть своих земляков. Заступничество малолетнего сына татарского царя за русского богатыря — тоже редкий в былинах мотив (ср. алтайские записи «Ильи и Калина» — Гул., 2, Прилож. 1, № 1).
Как и ряд других пижемских сказителей (см. № 197, 201), В. Чупров в формуле заговаривания стрелы использует постоянный эпитет «дерево шаровое» — обычно «жаровое». («Жаровой лес ‹...› рослый, ‹...› с чистою лесиной или голоменем в ¾ роста всего дерева». — Даль, I, с. 526).
№ 199
Онч., № 87 «Василий Игнатьев» (отрывок).
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (записано в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
В строке 42 печатного текста, не имеющего рукописного оригинала, по-видимому, ошибочно появился нетипичный для русского фольклора эпитет «горный». Вероятна типографская опечатка.
Начало былины о нашествии татар на Киев примыкает к первой группе вариантов переходного типа. Название «Василий Игнатьев», по-видимому, дано Н. Е. Ончуковым, поскольку все записи этой былины в его сборнике озаглавлены одинаково, а отчество богатыря упомянуто лишь в 2 вариантах из 4. Упоминание в запеве «столба огненного» посредине Киева необычно для былин: видимо, образ навеян христианскими легендами о чудесах (ср. аналогичный по содержанию эпизод в одном из печорских вариантов былины «Садко» — № 251).
Подобно ряду других печорских сказителей, П. Марков подчеркивает необыкновенные физические качества татарского посла — он едет в Киев «полем ‹...› не дорогою» (в других вариантах — «через пашенки посеены» — № 196, «не путём, не дорогою» — № 204 и т. п.).
№ 200
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 7, л. 27 об. — 38 (полев.), тетр. 2, л. 44—51 (перебел.); Аст., I, № 68 [«Василий Игнатьев»].
Зап. Астаховой А. М.: 3 июля 1929 г., д. Коровий Ручей Усть-Цилемского р-на — от Носова Игнатия Дмитриевича, 62 г.
Былину усвоил от отца Дмитрия Игнатьевича Носова. Спето лишь начало (17 строк).
Обычный для местной традиции вариант, непосредственно примыкающий к пижемским записям этой былины. Текст содержит редкий на Печоре эпизод, популярный в других районах бытования сюжета — требование татар выдать «виноватого» и попытки бояр отвести от себя беду ценой предательства Василия Игнатьевича (см. также № 198). В то же время опущен рассказ о временном союзе богатыря с татарами — Василий сразу избивает
- 475 -
«силу-рать великую». После строки 88 очевидный пропуск — по логике развития действия Апраксия должна посоветовать князю Владимиру поискать в Киеве заезжего богатыря (ср. № 196, 201); без этого диалог князя с княгиней оказывается излишним. И. Носов использует довольно редкий в русском эпосе мотив: Скурлак отправляет послом в Киев татарина, который бывал на Руси, «говаривал по-руському», «толмачил по-немецькому». В стилистическом отношении былина выдержана в традиционном духе, однако исполнитель не стремился к строгому соблюдению троекратных повторов (строки 99—126, 130—158, 209—218), иногда употреблял слова, нехарактерные для былинного лексикона («водочка со наливочкой», «карман»), а в одной из ремарок упомянул героиню лубочных изданий Милитрису Кирбитьевну. В конце былины использована сказочная формула.
№ 201
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 16 об. — 24 об. (полев.), тетр. 3, л. 13—18 (перевел.); Аст., I, № 64 [«Василий Игнатьев»].
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Гаврилы Ивановича, 50 лет.
С пения записано начало, с 54 строки текст рассказан, но сказитель почти не сбивался с ритма (см. Аст., I, с. 562).
Вариант Г. Чупрова в основном не выходит за рамки печорской редакции сюжета, местами чуть ли не дословно повторяя более ранние пижемские записи (№ 196, 197). Во второй части былины сказитель отступает от обычной схемы повествования и путем перестановки традиционных мотивов усиливает антибоярскую направленность произведения. В тексте опущены эпизоды штурма Киева Василием Игнатьевичем в союзе с татарами; сразу после убийства одного из татарских предводителей богатырь расправляется с вражеским войском. Инициатива неправедного дележа военной добычи принадлежит все тем же «боярам толстобрюхим» (а не татарам, как в других вариантах), что приводит в ярость Василия Игнатьевича и толкает его на расправу с обидчиками. При таком переосмыслении финальных эпизодов естественным выглядит закрепление за самим героем традиционной формулы:
У бою у драки Васька первый был,
А у делу Васинька последний стал.В запеве былины одновременно названы два гидронима: «по матушке по Волге по Невы реки»; вероятно, один из них воспринимался певцом как имя нарицательное, а не собственное.
№ 202
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 19 об. — 23 (полев.), тетр. 4, л. 5—7; Аст., I, № 81 «Василий Игнатьев».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Поздеева Ивана Петровича, 64 г.
«Вариант представляет образец оформления уже полузабытой былины. Характерные его особенности: убыстренный темп повествования, пропуск запева и всех осложняющих эпизодов, показ героя в самом начале былины, внедрение сказочного персонажа — „бабушки-задворенки“. (У отца исполнителя, Петра Родионовича, „бабушка-задворенка“ фигурирует в былине о Добрыне и Маринке — Онч., 21 — № 23 — Сост.) Былину И. П. Поздеев усвоил от старинщика Ивана Родионовича Кислякова. От Петра Родионовича, отца, она записана не была» (Аст., I, с. 563).
Разночтения Аст., I, № 81; перебел.
1
Протегал Васенька свой ту́гой лук (перебел.)
56
Со своим со зятелком с Киршалком (Аст., I; перебел.)
- 476 -
№ 203
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 8, л. 32—34 об. (полев.), тетр. 2, л. 56—58 (перебел.); Аст., I, № 86 [«Илья Муромец и Скурлык»].
Зап. Астаховой А. М.: 6 июля 1929 г., д. Рощинский Ручей Усть-Цилемского р-на — от Поздеева Григория Васильевича, 45 лет.
Былину перенял от тестя — Лариона Ивановича Поташова.
В строке 25 полевой записи неясное написание и знак вопроса, в перебеленном тексте нет слов «в переднем углу».
В строке 26 полевой записи слово «ему» — со знаком вопроса, в перебеленном тексте — пропуск после первого слова.
Строки 30—33 в полевой записи имеют иной порядок, измененный самой собирательницей: 33, 32, 30, 31 (тетр. 8, л. 32 об.).
Самый полный из первой группы вариантов переходного типа, содержащих элементы сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» и былин о татарском нашествии с главным героем Ильей Муромцем.
№ 204
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 30—35 об. (полев.), тетр. 3, л. 68 об. — 72 (перебел.); Аст., I, № 89 «Два тура, два гнедых тура».
Зап. Астаховой А. М.: 19 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Николая Самсоновича, 79 лет.
Былина записана со слов; исполнитель петь отказался, сославшись на занятость (Аст., I, с. 563).
Текст близок к варианту Г. Поздеева (№ 203) и относится к первой группе вариантов переходного типа, включающих мотивы и образы сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» и былин о татарском нашествии, в которых роль главного героя отведена Илье Муромцу.
Разночтения Аст., I, 89
50
От того духу человеческого
№ 205
ИРЛИ, ФВ, 655.02. «Василий Игнатьевич и Батыга».
Зап. Гиппиусом Е. В. и Эвальд Э. В.: 14 июля 1929 г., д. Аврамовская — от Чупрова Еремея Провича, 39 лет.
В паспорте фонограммы ошибочная запись «Ай по матушке да ох по Волге (Чурила)» (см. Аст., I, с. 366).
Начало запева о турах из былины «Василий Игнатьевич и Батыга»; упомянуты сразу две реки — Волга и Нева.
№ 206
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 57—58, маш.; БП, № 15 «Два тура».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
Запев былины «Василий Игнатьевич и Батыга», осложненный эпизодами из былины о нашествии татар на Киев с Ильей Муромцем в главной роли.
- 477 -
Разночтения БП, № 15
50
Со тиим со зятиком со кривы́м бесо́м
51
Со тиим со сы́нишком со Ковшиком
№ 207
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 21—24, маш. «Про тура»; БП, № 20 «Про тура́ золота́ рога́» [«Илья Муромец и Скурлат-царь»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Алексея Ипатьевича, 68 лет.
Текст относится к первой группе вариантов переходного типа, в которых переплетаются элементы сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» и былин о татарском нашествии с Ильей Муромцем в главной роли. Во второй части произведения чувствуются импровизационные моменты, исполнитель нередко отступает от формульного стиля классических былин, вводя в свой вариант словесные обороты, характерные для разговорной речи (строки 94—95, 105—106, 112—113), а также новейшую лексику («ордена», «медали»). Выбор богатырей для заставы (строки 56—69) — перенос из былины о бое Ильи Муромца с сыном.
Разночтения БП, № 20
40
Расстава́ли тут они шатры да чернобархатны
75
На закусочку калач бел крупи́щатой
105
Зяли́сь они за работушку
№ 208
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 29—30, маш.; БП, № 21 «Про тура́» [«Илья Муромец и Скурлат-царь»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Дуркина Алексея Сергеевича, 75 лет.
Вариант очень близок к предыдущему и, по-видимому, генетически с ним связан (А. Ермолин и А. Дуркин — односельчане). Сюжет былины скомкан, разрушение коснулось и ее языка: «Саратынское поле» вместо «Сорочинского», «книга Голубенная» («голубиная»), «стул ремёщатой» («ременчатый»); сын и зять Скурлат-царя носят одно и то же имя, не свойственное печорским записям («Семёнушко»).
Разночтения БП, № 21
27
Со зятюшком Семёнушкой
№ 209
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 2, № 3, л. 14—15, рукоп.; БП, № 50 «Туры и турица».
Зап. Власовой З. И.: 29 июня 1955 г., д. Рощинский Ручей Усть-Цилемского р-на — от Поздеевой Татьяны Ивановны, 70 лет.
Текст примыкает к № 206, но содержит еще меньше подробностей.
Разночтения БП, № 50
3
Да два гнедых тура́, два круторогиих
19
Со своей книгой со евангелием
- 478 -
№ 210
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 27, л. 137—138, маш.; БП, № 65 «Старина» [«Василий Игнатьев»]. ФА VI МФ, 323.7; БРМЭ, № 61, нап. с. 312.
Зап. Колпаковой Н. П.: 31 июля 1956 г., д. Лабожское Нарьян-Марского р-на — от Ижемцева Тимофея Семеновича, 67 лет.
Отрывок былины: запев о турах и описание наступления Тугарина. Запись сделана на пароходе по пути в Лабожское.
Строки 7—8, 19 во время записи на магнитофон выпущены. Исполнитель спел их при первой попытке, без магнитофонной фиксации.
Обычное начало былины о Василии Игнатьевиче; вместо Скурлы вражеское войско возглавляет Тугарин, имя которого сравнительно редко встречается в печорских былинах.
Разночтения БП, № 65
18
Собирается силы да много-множество
После 22 ремарка:
(А вот дальше я спотел! Больше петь того уже не знаю...
Ну, ладно, довольно и тово́ уж — что делать!)
№ 211
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 509.6 «Туры».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Рощинский Ручей Усть-Цилемского р-на — от Поздеевой Татьяны Ивановны, 79 лет.
Начало запева о турах из былины «Василий Игнатьевич и Батыга».
№ 212
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 3, тетр. 1, № 14, л. 34—36, рукоп. «Про Васеньку Буслаевича» [«Игнатьевича»].
Зап. Лебедевым А. Н. и Селивановым Ф. М.: лето 1978 г., д. Трусово Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Мирона Степановича, 56 лет.
Примеч. соб.: «Перед исполнением М. С. сказал: „Былины читал, но эту — нет. Былину рассказывал (не пел!) отец, Степан Михайлович“. На вопрос — исполнял ли сам М. С. былину, он ответил: „Так, может быть, среди товарищей где-то приходилось“» (л. 36).
Текст сильно разрушен, но в нем сохранились некоторые эпические формулы и подробности, характерные для печорской редакции сюжета. (В частности, вся сцена в кабаке выдержана в духе местной традиции.) В то же время не исключено знакомство М. Носова с публикациями записей, сделанных в других районах. В его варианте герой назван «горькой пьяницей» (ни в одном другом печорском тексте этого прозвища нет), говорится, что в момент вражеского нашествия в Киеве не было богатырей (эта деталь тоже не характерна для местной традиции и кроме комментируемой записи встречается лишь в № 202). Отчество героя «Буслаевич» — один из явных признаков разрушения былины.
№ 213
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 12, № 85, л. 36—39, рукоп. «О Василии Буслаеве».
Зап. Голосновой Т. Б.: лето 1980 г., д. Карпушевка Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Ивана Егоровича, 83 г.
- 479 -
«Отец мой покойный, Егор Ефимович, пел эту старину, я от него слыхал. И еще кое от кого старых людей» (л. 39).
Примеч. соб.: «... с большим чувством И. Е. рассказывает о Василии Буслаеве, называя его Васенькой. Восхищался его силушкой. Пытается во время исполнения помогать себе жестами, мимикой отмечает состояние героя» (л. 78).
Строка 36 — в рукописи пропуск слова.
Текст сильно разрушен; полностью снят конфликт богатыря с боярами, заменено отчество главного героя («Васенька Буслаевич» вместо «Игнатьевич»); финальные эпизоды сочинены исполнителем и не имеют ничего общего с традиционным сюжетом (царь Смородович посылает в Киев «расписочку», князь Владимир подает победителю руку, снимает его с лошади и др.).
Начальные стихи представляют собой слегка переиначенный зачин популярной на Печоре исторической песни о смерти Скопина; его включение в былину ничем не мотивировано. Деформирован и запев о турах златорогих, однако в нем содержатся некоторые детали, характерные для местной редакции сюжета. О связи текста с устной традицией свидетельствуют также имя вражеского царя («из кудла царь Смородович» — искаженное «Скурла Смородович»), глухое упоминание шатра, «выстроенного» захватчиками под Киевом (ср. № 196, 197, 201). В последних строках угадывается мотив испытания силы, встречающийся в прионежских редакциях былин о наезде литовцев и о царе Соломоне (на Печоре данный мотив ни в одной из них не зафиксирован).
БУТМАН (№ 214—234)
По мнению исследователей, сюжет возник не ранее XVIII в., в форме эпической песни записывался только на Печоре (один вариант — в Усть-Цильме, все остальные — в деревнях по реке Пижме).
Используя отдельные мотивы, поэтические образы, имена собственные и фразеологию былин, исторических песен и преданий, печорские сказители создали оригинальный сюжет, не имеющий близких параллелей. «Вс. Миллер объяснял имя героя ‹...› влиянием олонецких преданий о Бутмане — владельце заонежских чугунных и меднолитейных заводов времени Петра I — Андрее Бутенанте фон Розенбуш. ‹...› От исторических преданий сохранились лишь имена и отголосок воспоминаний о сильной личности Бутмана, кроме того, смутные реминисценции легенды о каком-то покушении на жизнь Петра I в Шведской земле». (Аст., I, с. 556).
В процессе устного бытования связь «Бутмана» с конкретными историческими событиями еще больше ослабела. Петр I упоминается только в одном варианте Ончукова (№ 214) и одной записи 1929 г. (№ 219 — «царь сын Олексевиць»), в других текстах царь безымянен (используются характерные для исторических песен эпитеты «надежа православный царь», «белый царь») или заменяется былинным князем Владимиром (№ 216, 221, 223, 232), Иваном Васильевичем (№ 230, 231). Не все сказители помнили и самого Бутмана — в ряде вариантов его имя вообще не фигурирует (героя называют «добрым молодцем», «детиной» — № 218, 219, 220, 226 или сохраняется только в названии произведений (№ 223, 225). На характеристике главного героя сказалось влияние былин об Илье Муромце и голях кабацких, Василии Игнатьевиче; близость Бутмана к голям кабацким, сцена его опохмеливания в кабаке или в царских палатах, отказ от традиционной награды (золотая казна, города с пригородками и пр.) и просьба позволить «пить вина безденежно, бескопеечно. Не исключено, что все варианты песни о Бутмане восходят к одному источнику. Об этом свидетельствуют значительная удаленность мест ее записи от района бытования преданий о Петре и Бутмане (Печора — Заонежье), узкая локализация в нескольких деревнях по реке Пижме, стабильность сюжета и устойчивость диалогов, эпических формул, оригинальных подробностей (зачин, описание хвастовства Бутмана в кабаке, упоминание «придворных людей губернаторов», диалог героя с царем и др.). Большинство вариаций вызвано введением в тексты имен былинных персонажей и незначительными разночтениями в описаниях.
В составе контаминированного текста см. № 177 (запись сделана в низовьях Печоры).
- 480 -
№ 214
Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, «Новые былины из записей на Печоре», № 3, с. 314-317; Онч., № 14 «Бутман Колыбанович и царь Петр Алексеевич».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Чупровой Устиньи Филипповны, возраст не указан.
Примеч. соб.: «Устинья Чупрова из села Замежного, певшая мне эту старину, дальше не помнит, „но конец уже близко“, сказала она. Я списывал эту старину четыре раза и никто не мог ее допеть до конца. Анна Максимовна Поздеева, также из села Замежного на Пижме, досказала конец старины словами так: „Белой (А. П. ни разу не назвала героя Бутманом) пошел в кабак, а там его не спустили; он пнул ногой дверь, она и разлетелась на четыре жеребья. Пошел, взял сороковку (бочку) и вышел пить с товарищами. Допился до того, что опохмелиться у Васьки стало не на что“» (1903, с. 317).
Во вступительной заметке к публикациям былин в Изв. ОРЯС, 1903 г. Ончуков пишет о данном сюжете: «...„Бутман Колыбанович и царь Петр Алексеевич“ — вероятно, местная переделка былины про Василия Игнатьева-пьяницу, но участие в ней царя Петра делает эту былину настолько своеобразной, что „Бутмана Колыбановича“ может быть можно причислить к былинам новым» (с. 298).
В публикации 1904 г. — уточнение к пересказу конца былины А. М. Поздеевой: «...взял сороковку (бочку сорокаведерную)» (Онч., с. 62).
Пометка соб. к слову «буятные» (строка 35) — «так!» (1903, 1904).
В публикации 1903 г. строка 36: Подошли они, Бутману низко кланялись.
Самый полный вариант «Бутмана», ни в чем не отступающий от местной редакции сюжета, представленной значительным количеством более поздних записей. Действие приурочено к царствованию Петра I (он назван в тексте по имени и отчеству).
Отчество главного героя, видимо, появилось под влиянием «Самсона Колыбановича» — персонажа печорских былин об Илье Муромце и Калине-царе. (См. также текст № 215.)
У. Ф. Чупрова подчеркивает богатырскую силу Бутмана: слуги умалчивают о наказе царя «сковать, связать», «ко мне тащить» и почтительно приглашают героя на пир; от его топанья в кабаке «рассыпалась печь кирпичная».
Разночтения 1904
12
Уж я сметочкою царя посмеливе
26
Из рецей-то Бутман-сын похваляетсе
27
Уж я силушкою ноньце царя сильне
29
Как гореця его [царя] кров да разгорелосе
32
Он послал бы трех слуг да немилосливых
39
Пировать-столовать, да ества кушати
47
Мы тыпереця пойдем да на почесен пир
48
Подошли они ко гриням богатырьскиим
50
Он ставал перед царя да на резвы ноги
51
Как на те же коленки богатырьские
55
Уже што же я тибе ноньце наделал так
56
Уже што я тибе да напрокуцил так
59
Уж ты ходишь на церевом большом кабаки
63
Во рецях ты, детина, шибоват живёшь
78—80
... тибе ...
86, 87
... ерлыки ...
91
Он и взял ле он боцьку под праву руку
- 481 -
№ 215
Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, «Новые былины из записей на Печоре», с. 318, 319; Онч., № 16 «Бутман и царь Петр».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Тараса (фамилия, отчество и возраст не указаны).
В публикации 1903 г. примеч. соб.: 1) «Вызвавшийся до конца спеть былину Тарас (фамилия не записана) также из Замежного, уже прямо вплетал в старину Василья Игнатьева»; 2) К слову «не неб» в строке 1: «Не наб — в смысле не надо» говорят часто, но «не неб» слышал я единственный раз»; 3) после строки 5: «Дальше следует так же, как и у У. Чупровой: герой называется Бутманом Колыбановичем, но царь просто «надежой православным царем». Зато у Тараса совсем другой конец старины» (Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, с. 317—318). См. стихи 5—89 № 214.
В публикации 1904 г. примеч. к выпущенному отрывку после 37-й строки: «Три раза выносил по бочке Бутман и пировали они 9 суток» (Онч., с. 65).
Собиратель не записал всего текста; не ясно, изложил ли сказитель основные эпизоды «Бутмана». В зафиксированной части использованы мотивы из былин об Илье Муромце и голях кабацких, о Василии Игнатьевиче и Батыге (диалог Бутмана с чумаками-целовальниками, описание и имя пропившегося «Васеньки» и др.). В зачине чувствуется перекличка с балладой о молодце и горе-злочастии; в 3 строке традиционный эпитет «белый» переосмыслен исполнителем — «беглый».
Разночтения 1904
5
Он и ходит на царевом большом кабаки
9
Он пропил-де всю сбруню лошадиную
23
Кабы пеци кирпищиты розсыпались
24
Как хрустальня посуда розломалосе
35
Он и пнул эту боцьку правой ногой
40
Вы отдайте нам с Васькой коня доброго
№ 216
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 13 об. — 15 (полев.), тетр. 3, л. 9 об. — 10 (перебел.); Аст., I, № 58 «Про белого».
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Еремея Провича, 39 лет.
Запись на ФВ 14 июля 1929 Гиппиуса Е. В., Эвальд З. В. — ФА I ФВ, 655.1.
Печорская редакция варианта с некоторыми индивидуальными чертами в словесном оформлении былины. В варианте чувствуется дальнейший отход от исторических преданий о Петре и Бутмане, легших в основу сюжета (вместо Петра фигурирует князь Владимир; освобождение из плена в «орде поганой» заменено спасением от смерти на войне с турками). — Аст., I, с. 557.
См. о былине в биографической справке, с. 509.
Примеч. соб.: «Поет вместе с сыном прекрасно» (тетр. 10, л. 13 об.).
Примеч. соб. к строкам (Аст., I, с. 374):
29
Вариант при словесной передаче:
«Почему же ты, дурачонок, ходишь во царев кабак?»
31
Вариант:
«Из речей, дурачонок, вышибаешьсе».
Варианты Е. Чупрова и близкие к ним тексты Л. Чупрова (№ 221, 234 и др.) принадлежат к одному изводу, который дополняет печорскую редакцию сюжета некоторыми деталями. Разгневанный хвастовством
- 482 -
Бутмана, царь называет его «горькой пьяницей» (ср. мезенскую и кулойскую редакции сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга»), но, узнав в нем своего спасителя, предлагает необычную награду:
Я отдам тебе все корабли да всё со шлюпками,
А ты будёшь царём, я и слугой твоей.В первой записи от Е. Чупрова место царя занял былинный «солнышко Вылодимер-князь», во второй и третьей этой замены нет; при повторных исполнениях сказитель ввел в текст сцену опохмеливания Бутмана царем. Былина записывалась от Е. Чупрова трижды (см. № 222, 227).
Разночтения Аст., I, № 58
1
Как про белого сказать царя, сказать про бенного
№ 217
ИРЛИ, ФВ, 655.1. «Бутман».
Зап. Гиппиусом Е. В. и Эвальд З. В.: 14 июля 1929 г., д. Аврамовская — от Чупрова Еремея Провича, 39 лет.
Традиционное начало «Бутмана».
№ 218
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 2, л. 11 об. — 14 об. (полев.), тетр. 3, л. 38 об. — 40 (перебел.); Аст., I, № 54 [«Бутман»], нап. VIII.
Зап. Астаховой А. М.: 12 июля 1929 г., сел. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Поздеевой Анны Максимовны, 70 лет.
Запись на ФВ 14 июля 1929 г. Гиппиуса Е. В., Эвальд З. В. — ФА I ФВ, 645.1:
В полевой записи — «молодца», «сороковками;» в перебеленной — «молодца», «сороковками».
В строке 57 убрана опечатка «бежденежно»: напеч. «безденежно» (так в полевой записи).
- 483 -
А. Поздеева повторяет сюжетную схему варианта своей односельчанки У. Чупровой (№ 214), «но почти наполовину сокращает повествование. Сокращение падает главным образом на стихи, поясняющие, кому из действующих лиц принадлежит та или иная прямая речь, или на детали описания» (Аст., I, с. 557). Герой песни и «православный царь» не названы по именам; под влиянием былинных «бояр кособрюхих» последний эпитет прикрепился и к «губернаторам».
Разночтения Аст., I, № 54
3
Он ли ходит на царевом на бо́льшом ка́баке
6
Он не цярами пьёт да не стаканами
№ 219
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 2, л. 3 об. — 5 (полев.), тетр. 3, л. 33—34 об. (перебел); Аст., I, № 56 [«Бутман»].
Зап. Астаховой А. М.: 12 июля 1929 г., с. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Тороповой Татьяны Григорьевны, 87 лет.
Былину исполнительница сначала рассказала, затем спела. — Аст., I, с. 557. Напев такой же, как у Еремея Чупрова и А. М. Поздеевой (см. № 217, 218).
Примеч. соб. к строке 29:
«Здесь задумалась, стала затрудняться»;
к строке 41:
«Тут опять забыла, как извинялся...»;
к строке 47:
«До сих пор спела. Сказала: „Не знаю боле“».
В полевую запись внесены добавления.
В полевой записи: «уж», «сороковоцьки», «бочьки» и «бочка»; в перебеленной: «уш», «сороковоцьки», «сороковоцки», «бочьки» и «бочки».
Единственная, кроме ончуковской (№ 214), запись, в которой действие определенно приурочено к петровскому времени (царь хоть и не назван по имени, но отчество его «Олексевиць»).
Как и в большинстве других вариантов, царь приказывает слугам «связать-сковать» расхваставшегося в кабаке героя, но они не рискуют применить силу и зовут «доброго молодца» к царю на пир.
№ 220
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 2, № 100, л. 176—178, рукоп.; БП, № 48 «Добрыня» [«Бутман»]. ФА VI МФ, 222.6.
Зап. Власовой З. И.: 28 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Михеева Акима Евпсихеевича, 89 лет.
В рукописи строка 29 заключена в круглые скобки без пояснения.
Единственный текст «Бутмана», записанный за пределами реки Пижмы.
Исполнитель в основном придерживается традиционной сюжетной схемы, лишь в двух случаях отклоняется от традиции (главный герой назван Добрыней; царь хватает саблю и хочет срубить ему голову за хвастливые речи).
Разночтения БП, № 48
16, 48
Уж ты гой еси, надёжа, православный царь
17
Ты не быть нас казнить, дай речи вымолвить
30
Закипелась у царя да кровь горячая
34
Уж и стали его звать к самому царю
49
Ты не быть мне казнить, дай речи вымолвить
После 61
ремарка исполнителя отсутствует
- 484 -
№ 221
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 413, л. 535—537, маш.; БП, № 52 «Про Батмана». ФА VI МФ, 219.12
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1955 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 52 г.
Былину усвоил в детстве от деда Семена Денисовича Чупрова (записей былин от С. Д. Чупрова нет).
Вариант, близкий редакции былины Е. П. Чупрова (№ 222).
Варианты относятся к тому же изводу сюжета, что и тексты Е. Чупрова (№ 216, 222), записи сделаны от обоих сказителей в 1955 г. «Вследствие сближения с былиной о Василии Игнатьеве Бутман во второй части начинает именоваться Васькой и Васенькой ‹...› а это имя притянуло и отчество — Буслаевич» (БП, с. 543). Повторные записи — см. № 228, 229, 234.
Разночтения БП, № 52
48
Подает ему обеи́м рукми́
49
Он берет ее одино́й рукой
55
Подает ему обеи́м рукми́
№ 222
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 418, л. 555—556, маш.: БП, № 54 «Про Бутмана». ФА VI МФ, 218.5.; нотная расшифровка сделана Ф. В. Соколовым: колл. 160, п. 1, л. 546.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1955 г., д. Абрамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Еремея Провича, 67 лет.
В записи 1929 г. (№ 216) вместо царя упоминается князь Владимир.
См. коммент. к № 216.
№ 223
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 400, л. 497, маш.; БП, № 61 «Про Бутмана». ФА VI МФ, 214.4.
Зап. Колпаковой Н. П.: 27 июля 1955 г., д. Скитская Усть-Цилемского р-на — от Осташовой Федосьи Федотовны, 52 г.
Примеч. соб.: «Кроме этого отрывка ничего не помнит» (л. 497).
Начало «Бутмана», близкое к тексту № 224, записанному в той же деревне. Несмотря на упоминание в первой строке «старого», исполнительница не забыла традиционного имени Бутмана, но царя назвала князем Владимиром.
№ 224
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 422, л. 562, маш.; БП, № 60 «Про старого» [«Бутман»]. ФА VI МФ, 215.1.
Зап. Колпаковой Н. П.: 28 июля 1955 г., д. Скитская Усть-Цилемского р-на — от Антонова Сидора Ниловича, 63 г., и Антоновой Агафьи Григорьевны, 47 лет.
Начало былины о Бутмане, дальше исполнители не вспомнили. Вторая половина каждой строфы пелась двумя исполнителями.
«Стихи 10—11 не имеют соответствий ни в одном из других вариантов» (БП, с. 544).
Начало эпической песни о Бутмане. Имя главного героя утрачено, исполнители назвали свой текст «Про старого» — так на Печоре именуют Илью Муромца (№ 58, 59, 70, 110).
- 485 -
№ 225
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 420, л. 560, маш.; БП, № 58 «Про Бутмана». ФА VI МФ, 217.10.
Зап. Колпаковой Н. П.: 30 июля 1955 г., д. Степановская Усть-Цилемского р-на — от Бобрецова Демида Фатеевича, 71 г.
Отрывок из начала былины. Примеч. соб.: «Больше ничего из этой старины не помнит» (л. 560).
№ 226
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 415, л. 546, маш.; БП, № 55 «Как про белого сказать» [«Бутман»]. ФА VI МФ, 219.16.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1955 г., д. Абрамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Малафея Ивановича, 68 лет, и Чупрова Семена Ивановича, 67 лет.
Начало былины о Бутмане, сокращенное по сравнению с другими текстами. Кроме начала, исполнители ничего не вспомнили. — БП, с. 543.
№ 227
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 511.2; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 9, маш. «Бутман».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Боровская Пижемского с/с Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Еремея Провича, 77 лет.
Третья по счету запись этой былины от Е. Чупрова (см. коммент. к № 216). На фонограмме нет строки 6.
См. звуковое прилож. № 5.
№ 228
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 515.2; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 11, маш. «Бутман».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Боровская Пижемского с/с Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 61 г., и Чупровой Анны Лукичны, 52 г.
Повторная запись (см. коммент. к № 221).
№ 229
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 2, № 5, л. 6 об. — 9 об., рукоп. «Бутман».
Зап. Голубковым М. М.: лето 1978 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 75 лет.
См. о нем коммент. к былине № 232.
Примеч. соб.: «Вариант былины см. на кас. 15 (78—26)».
Повторная запись (см. коммент. к № 221).
№ 230
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 1, № 2, л. 1 об. — 2 об., рукоп. «О Бутмане».
Зап. Голубковым М. М. и Харитоновой В. И.: лето 1978 г., д. Замежное Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Мяндиной Евдокии Малафеевны, 51 г. (уроженки д. Абрамовской).
Примеч. соб.: 1) «Данную былину усвоила от отца — Чупрова Малафеея Ивановича», 2) «Этот вариант былины был исполнен по первой просьбе. Вечером того же дня была сделана запись былины на м/ф. Второй
- 486 -
вариант былины оказался значительно полнее» (см. № 231). 3) По словам исполнительницы, эта былина и былина «Про старого» (см. № 92, 93) еще поются в их семье (л. 2 об.).
Обычный для местной традиции вариант; имя царя «Иван Васильевич», возможно, перенесено из исторических песен. (См. также повторную запись — № 231.)
№ 231
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 1, № 4, л. 9—9 об., рукоп., м./ф, кас. 78—26 «Про Бутмана».
Зап. Голубковым М. М. и Харитоновой В. И.; лето 1978 г., д. Замежное Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Мяндиной Евдокии Малафеевны, 51 г. (уроженки д. Абрамовской).
См. коммент. к былине № 230.
№ 232
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 2, № 4, л. 5-6, рукоп. «Бутман».
Зап. Голубковым М. М.: лето 1978 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Ивана Климовича, 63 г.
Примеч. соб.: «Обычно Иван Климович один старины не поет, а «подхватывает с конца», т. е. подпевает своему односельчанину Леонтию Тимофеевичу Чупрову, старинщику, знаменитому по всей Пижме. Таким подходом к пению былин и можно обьяснить неполноту этого варианта» (л. 6).
№ 233
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 2, № 3, л. 4 об. — 5 рукоп., «Про старого» [«Бутман»].
Зап. Голубковым М. М.: лето 1978 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупровой Анастасии Федотовны, 77 лет.
Примеч. соб.: «Вариант см. на кассете 78-26».
Традиционное начало «Бутмана».
№ 234
ИРЛИ, ФК ЛМК, 36.8 «Бутман» — из архива Ю. Е. Красовской.
Зап. Красовской Ю. Е.: июль 1980 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на (на р. Пижме) — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 77 лет, и Чупровой Анны Лукичны, 68 лет.
Примеч. соб.: «Слово „пьяница“ подчеркнуто распевается с двумя „н“».
Четвертая по счету запись «Бутмана» от этого сказителя. (См. коммент. к № 221.)
ПОТАП АРТАМОНОВИЧ (№ 235, 236)
Былина известна в двух записях с Нижней Печоры. По содержанию очень близка к редкому сюжету «Суровец-Суздалец», основу которого составляют популярные мотивы, часто встречающиеся в эпических песнях об отражении татарского нашествия на Киев. Отличия от «Суровца-Суздальца» не носят принципиального характера: нет диалога богатыря с вещим вороном (этот мотив вообще не характерен для местной традиции, его нет даже в «Козарине», где он чуть ли не обязателен); действие прикрепляется к известным эпическим центрам Киеву или Новгороду; враги именуются «проклятой Литвой», но наряду с этим этнонимом употребляется другой — «татары поганые». В обоих вариантах Скурла Смородович или Шкурлак (традиционное на Печоре имя
- 487 -
предводителя вражеского войска) несколько раз предлагает герою перейти к нему на службу, обещая за это не только наградить золотой казной, но и отдать «во супружество» свою дочь; Потап завершает разгром врагов, используя вместо оружия телегу (ср. один из нижнепечорских текстов «Дуная» — № 119). Сюжет интересен как важное дополнение к циклу былин о татарском нашествии — в нем содержится ряд эпизодов не зарегистрированной на Печоре первой версии «Ильи Муромца и Калина-царя» (временное пленение богатыря, попытки иноземного царя склонить его на свою сторону и уничтожение вражеского войска).
№ 235
Онч., № 72 «Потап Артамонович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., сел. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.
Вариант Н. Шалькова стройнее по композиции, традиционнее по содержанию и стилю, нежели 2-я запись былины. В нем немало развернутых эпических формул (укор коню, описание сборов героя на битву и седлания коня и др.), последовательно соблюдаются троекратные повторения (трехдневный бой Потапа с татарами, три «перекопы глубокия», три попытки Скурлы Смородовича подкупить пленного богатыря). В развитии действия активная роль отведена богатырскому коню: он будит хозяина и сообщает ему о нашествии врагов, предупреждает о вырытых татарами подкопах, освобождает скованного Потапа Артамоновича (ср. некоторые записи «Ильи Муромца и Калина-царя», напр., Гильф., 57). Отправляясь в чистое поле, герой берет с собой бочки с вином и обозы хлеба. Этот мотив встречается в ряде других печорских записей (см. № 181, 183, 245, 272).
В Онч., 1904 — строка 60: ... латы рибулатныя (см. строку 64).
№ 236
Онч., № 96 «Потап Иванович 12-ти лет».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Нарыга (на р. Печоре) Пустозерской вол., (зап. в сел. Пустозерске) — от Никонова Василия Артамоновича, возраст не указан.
При совпадении основы сюжета текст гораздо беднее предыдущего подробностями (нет описания выезда богатыря, не развернута формула угрозы вражеского царя и др.). Действие прикреплено к Новгороду, у героя иное отчество — Потап Иванович. Традиционный способ пленения богатыря с помощью замаскированных подкопов заменен реально-бытовым — татары связывают спящего богатыря, а чудесное избавление от оков мотивируется вмешательством небесных сил (по молитве героя «с рук-то, с ног железа обвалилисе»).
ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ И НОВГОРОДЦЫ (№ 237—242)
В печорской традиции былина о молодости Василия Буслаева занимает скромное место. За все годы собирания удалось записать 6 текстов (в том числе 2 отрывка), причем только 2 из них содержат все основные компоненты сюжета, но оба явно связаны с книжными источниками (см. наш коммент. к № 240, 242). В вариантах С. Хабарова и П. Маркова (№ 237, 238) опущены начальные эпизоды; В. Никонов, напротив, смог вспомнить лишь начало сюжета (№ 239), эти же эпизоды введены Н. Шальковым в былину «Поездка Василия Буслаева» (см. № 235). Смутными воспоминаниями о молодости героя начинается пересказ С. Носова «Смерть Василия Буслаевича» (см. № 249 в нашем издании). Иногда имя Василия Буслаева переносится в другие былины: он замещает Василия Казимировича (№ 16), Василия Игнатьевича (№ 212, 213), Соловья Будимировича (№ 167). Характерно, что почти все тексты, восходящие к устной традиции, записаны Н. Ончуковым на рубеже XIX и XX вв. Аналогичная картина бытования этого сюжета наблюдается и в соседнем Мезенско-Кулойском крае (правда, единственный полноценный вариант «Василия Буслаева и новгородцев» записан здесь позднее — в 20-х гг. нашего века — Аст., I, № 14).
- 488 -
Печорские тексты не лишены известного своеобразия. У Василия Буслаева три названных брата (в Сборнике КД и зависимых от него вариантах, а также в ряде северо-русских записей, восходящих к устным источникам, в дружине новгородского удальца «тридцать молодцев без единого»), устойчивы их имена — «Костя Новоторженин», «Фома Толстый, ремесленный», «Потанюшка Хроменький». Мамельфа Тимофеевна не просто запирает своего сына в погребах, но и заковывает его. Когда новгородцы просят ее унять разбушевавшегося Василия, она отвечает:
Уж вы ой, нонь еси да люди добрыя!
Уж вы что надо мной насмехаетесь?
У мня спит-то бы чадо, не пробудитсе,
В крепких-то железах, во тяжелыих.Как и в тексте КД, старик Антоний поучает молодого богатыря: «Не выпить те воды из Волховой-реки, не выбить те людей да из Нова-города».
Эти подробности известны и мезенской былинной традиции; некоторые другие характерны только для печорских вариантов. В них, за исключением книжных по происхождению текстов, не упоминается «ось тележная»; пытающегося остановить его старца Василий убивает «сырым дубом», который он вырвал с корнем на берегу Волхова. В пылу схватки с новгородцами богатырь не замечает родной матери, ухватившей его за ногу:
Да што трепича за ногой волочитце?
Да што за онуча привязаласе?Победив горожан, Василий Буслаев заставляет обсыпать «черленой вяз» золотой казной. (Аналогичный выкуп — обсыпать золотом копье или «ратовье», «костыль» — требует Хотен Блудович во многих вариантах, записанных в разных районах; иногда этот мотив переносится и в другие сюжеты — см. НБ, с. 435. Однако на Печоре он встречается только в былинах о Василии Буслаеве.)
№ 237
Онч., № 94 «Василий Буслаев»; НБ, № 14.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Пылемец (на р. Печоре) Пустозерской вол. (зап. на рыболовной тони на р. Печоре) — от Хабарова Степана Фодоровича, 69 лет.
В тексте нет традиционной экспозиции, начинается он, как и № 238, описанием пира, на котором герой бросил вызов новгородцам («побью да славной Новгород»). Однако в отличие от П. Маркова С. Хабаров строго соблюдает обычный порядок следования эпизодов. Некоторые подробности заставляют полагать, что сказитель не считал Василия Буслаева коренным новгородцем. Герой его былины живет за городом, бой с новгородцами происходит на «нейтральной территории» — в чистом поле. Судя по финалу этого варианта, Василий добивается власти над Новгородом. Проиграв «войну», горожане не ограничились выкупом, но и «покорились» богатырю. Одним из лейтмотивов произведения становятся упреки Василию в том, что он «выдал дружинушку хоробрую» — послал ее в бой, а сам «приюпрятался». С этими словами богатыря будит «девица душа красная», незаслуженными упреками мотивируется его столкновение с «женщиной снарядною» и расправа со «старчищем Перегрюмищом». Второй эпизод уникален и, по всей вероятности, создан Хабаровым или его непосредственным предшественником.
Исполнитель склонен к детализированным описаниям (см., напр., колоритную картину заковывания Василия в «железа заналецные)», но порой перегружает былину ненужными повторами и подробностями (спешащий на выручку дружине Василий «белешинькё ‹...› умываетсе, тонким белым полотенцем утираетсе», одевает «кунью шубу» и т. д.
В тексте немало лексических модернизмов «карета», «воин», «война», «стражи», «комната», «слуги придворные», «просят нижающо, со покорностью» и др.).
- 489 -
№ 238
Онч., № 88 «Василий Буслаев в Новгороде»; НБ, № 13.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июль 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
Примеч. соб.: «Начала старины П. Г. М. не вспомнил» (Онч., с. 346).
В строке 28 после слова — «переменныя» — Так!
В строке 45 — ...тё мед...
П. Марков — один из немногих русских сказителей, знавших обе былины о Василии Буслаеве и исполнявших их раздельно, как самостоятельные произведения (см. № 244 в нашем издании). Повествование открывается картиной пира и спора Василия с новгородцами (традиционное начало сюжета исполнитель не мог вспомнить). Впрочем, путем перестановки эпизодов он ввел в свой вариант подробное описание набора дружины и испытания Василием его будущих побратимов. Благодаря этому «набор дружины здесь представлен как отбор для кулачного боя» (НБ, с. 382). Перестановка эпизодов привела к смещению некоторых идейных акцентов. Соперничество героя с новгородцами осмысляется как спортивное состязание, борьба за обладание «призом» — выкупом. Неожиданное применение найдено традиционному описанию насильственного вторжения Василия Буслаева на пир-братчину — у Маркова названым братьям приходятся брать штурмом городские ворота. Видимо, Марков не считал Василия новгородцем. Во второй части произведения сюжетное действие развивается по такой же схеме, что и в былине С. Хабарова (см. предыдущий текст). Некоторые детали и подробности, о которых говорилось в общем обзоре печорских записей, встречаются только в этих двух вариантах, что свидетельствует об их генетичестком родстве. Комментируемый текст интересен редким для печорской традиции сохранением некоторых реалий новгородского быта. В нем упоминаются «Волхова-река», братчина, кулачный бой; к Василию Буслаеву на угощение собирается ремесленный люд: «шильники, мыльники, игольники», в состав его дружины входит «Фома-то Толстой, сам ремесленной».
№ 239
Онч., № 97 «Василий Буслаев в Новгороде» (отрывок).
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Нарыга (на р. Печоре) Пустозерской вол. (зап. в сел. Пустозерске) — от Никонова Василия Артамоновича, возраст не указан.
Отрывок интересен как своеобразное дополнение к двум предшествующим текстам, в которых отсутствует начало сюжета. Он свидетельствует о том, что в прошлом печорские певцы и в начале былины использовали немало ярких деталей, подробно и неторопливо рассказывали о развитии событий. Оригинальна и выразительна формула испытания дружинников ударом вяза по голове:
Кой удар унесёт, того к себе берёт,
Кой удар не унесёт, того проць пошлёт.Традиционны для Печоры имена соратников Василия Буслаева. Формула:
На колене ерлыцьки-грамоты росписывает,
По дорожецькам грамоты розмётывает, —видимо, пересена из былины о бое Ильи Муромца с Сокольником, где она обычна в печорских записях.
№ 240
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 2, л. 3—9, маш.; БП, № 86 «Василий Буслаевич». ФА VI МФ, 331.9.
Зап. Колпаковой Н. П.: 6 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
- 490 -
См. № 241 (предварительная запись начала этой былины).
Комментируя первую публикацию этого текста, А. М. Астахова отмечала, что вариант Т. Кузьмина «заключает отдельные детали, которыми перекликается с былинами из других районов. Таковы: упоминание об отце, который жил с Новгородом и Псковом в мире ‹...› просьба новгородцев к старчищу Андронищу унять Василия ‹...› изображение Андронища ‹...› рассказ о том, как мать унимает Василия» (БП, с. 553). Суммируя свои наблюдения, автор не исключает возможной связи былины Кузьмина с книгой. Это предположение перерастает в уверенность, так как печорский сказитель использует немало других редких, а то и уникальных, деталей, которые впервые были зафиксированы собирателями за сотни километров от его родных мест. Так, ни в одном другом северо-восточном варианте былины (кроме текста В. Лагеева, который тоже восходит к печатному источнику — см. № 242) не встречается формула:
Еще званым-то гостям еще место есть,
А незваному гостю ноне места нет.Зато есть она в ряде прионежских записей, в частности, у пудожских певцов Н. Прохорова (Гильф., 54) и колодозерского старика (Рыбн., 169). А ответная реплика Василия Буслаева: «Еше званым гостям да места много надобно...» имеется только у Н. Прохорова и Т. Кузьмина. На зависимость комментируемого варианта от прохоровского указывает еще одно совпадение: богатырь признается матери, что в пылу боя «второпях да по озорности» (у пудожского сказителя — «второпях есть во озарности») он чуть было не убил ее.
В былине Кузьмина чувствуется также влияние текста КД (№ 10). «Потаня Хроменькой просит пришедшую за водой «девушку-чернавушку» позвать на помощь Василия Буслаева; «побросала девка ведрица, разметала коромыслица»; ударив Андронища тележной осью по колоколу, «заглянул Василий верно нонь под колокол — а у деда очи вылезли». Возможно, к этому же источнику восходят и некоторые другие детали, известные не только по КД, но не зафиксированные на Печоре.
В тексте Кузьмина нет специфических деталей, характерных для печорских записей этой былины, нет и местных общеэпических формул. В то же время в нем немало оборотов, чуждых былинной традиции: «молодой-то боец», «пива пенного», «милости прошу ко мне закусывати», «синь кафтанчик ‹...› не сколыхнется», «сам тридцатым сел детиною», «старинный дед», «плечи старые», «он велел по убиенным панихиды петь». Подобными выражениями пестрят стилизации конца XIX — начала XX в., печатавшиеся в массовых изданиях, где составители путем компиляций конструировали сводные тексты, дополняя их стилистическими «украшениями» собственного сочинения. Видимо, к одному из таких текстов и восходит вариант Кузьмина: с устной традицией Печоры у него нет точек соприкосновения.
Разночтения БП, № 86
26
Наварил тот Василий да пива пенного
27
Накурил тот Василий да зелена́ вина
№ 241
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 14, л. 65—67, маш; БП, № 86а «Василий Буслаевич». Звукозаписи нет.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Отрывок былины о бое Василия Буслаева с новгородцами, исполненный в порядке припоминания (см. № 240).
Разночтения БП, № 86 а
16
Говорит сын Буслаевич
- 491 -
№ 242
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 507.1, 508.1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, маш., № 2 «Василий Буслаевич»; ФА VI МФ, 769 копия; НБ, № 15, нап. 14. См. звуковое прилож. № 3.
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет.
Комментируемый текст стоит особняком среди печорских записей былины о молодости Василия Буслаева. Во-первых, вариант В. Лагеева — единственная фиксация этого сюжета на Средней Печоре; во-вторых, в нем содержится немало своеобразных эпизодов и мотивов, не отмеченных собирателями не только на Печоре, но и во всем северо-восточном суперрегионе, а в ряде случаев вообще не известных устной былинной традиции. Высказано предположение о генетической связи текста с книжным источником: «Весьма вероятно, что Лагеев (или тот, у кого он выучился былине) знаком с левшинской литературной обработкой. ‹...› На это указывает сходство некоторых деталей: мужики новгородские боятся, что Василий заберет „под свои руки весь Новгород“, старики советуют напоить Василия на пиру, чтобы узнать его мысли (Лагеев: «Стукнул об пол трижды посохом»; Левшин: «Трижды ударяет о пол посохом»), Василия призывают выпить за Новгород чару досуха, все члены васькиной дружины платье носят с одного плеча, пьют-едят с одного стола и т. д. Другие детали связывают данный текст с текстом Сборника Кирши Данилова: например, „дань“ новгородцев Василию — „с хлебника — по хлебику, с калачника — по калачику“» (НБ, с. 383). С обоими печатными источниками текст Лагеева роднят и другие буквальные совпадения или близкие по смыслу формулы. В пересказе Левшина новгородские посадники собираются «во теремы тайницкие», начинают «большой совет и думу крепкую», «стар-матер человек» предлагает позвать Василия на пир и найти повод для конфликта: «поднесем мы ему братину вина заморского; буде не станет пить, ин он зло мыслит; буде выпьет, во хмелю он промолвится»; выслушав похвальбу богатыря, новгородская знать в ультимативной форме предлагает ему покинуть город: «на утро ты иди из земли нашей; не пойдешь, ин погоним тебя не счестию» (НБ, с. 142—147). В былине печорского сказителя новгородские мужики «собирались дак [в] место тайноё, стали думать они думу крепкую»; «старчище» советует устроить пир и не позвать на него Василия: «не придёт на пир, то Васька мыслит зло на нас, а придет он к нам, то во хмелю дак он промолвитце»; поссорившись с Буслаевым, новгородцы заявляют ему: «А тепериче тебе нет у нас места в городи».
В ряде эпизодов и формул обнаруживается несомненное влияние текста КД. Теснимые новгородцами побратимы Василия Буслаева просят его служанку позвать на помощь хозяина: «Ты не выдайко ле нас дак на побоище» (КД: «Не подай нас у дела у ратнова, у тово часу смертнова!»); служанка «побросала ведёрышка» (КД: «А и спишь ли, Василий, или так лежишь?»); ударив «Ондронища» осью тележной, «заглянул тогда Василей-от под колокол. А у Ондронища во лбу глаз, видно, век не было ли» (КД: «Заглянул он, Василей, старца под колоколом — а и во лбе глаз уже веку нету»); проиграв кулачный бой, новгородцы «помирилися с Васильём и покорилися» (КД: «А уж мужики покорилися, покорилися и помирилися»). Почти все оригинальные эпизоды и детали варианта Лагеева связаны с литературной обработкой Левшина, либо со Сборником Кирши Данилова. Некоторые эпические формулы, известные по записям из Прионежья или северо-восточных районов, скорее всего, тоже попали в комментируемый текст не из устной традиции, поскольку встречаются у КД. Это — упоминание «оси тележной», которую герой использует вместо оружия (ср. Рыбн., 150, 198 и др.); на Печоре эта деталь встречается только у Т. Кузьмина, текст которого также зависим от КД (№ 240); формула «незваному [гостю] места нет» (ср. Григ., 54, 141; на Печоре есть только у Кузьмина); иносказательное предупреждение богатыря, обращенное к Ондронищу: «А я не дал тебе ле яица о Христова дни, так же дам же я тебе яица о Петрова дни!» (ср. Рыбн., 150, Гильф., 54; на Печоре эта формула не зафиксирована). Обращает на себя внимание еще одна оригинальная деталь: решив созвать новгородцев к себе на пир, Василий Буслаев
писал ‹...› ярлыки да скорописчаты,
И привязывал ко стрелочкам каленыим,
И стрелял-де он стрелочки по Новгороду.
- 492 -
Эта деталь есть только в одном варианте былины о Василии Буслаеве, записанном от колодозерского старика на Пудоге (Рыбн., 169). Но она вполне могла попасть и в устную традицию, и в популярные издания былин через хрестоматию А. Оксенова «Народная поэзия» (М., 1894), в которой был опубликован текст пудожского сказителя (с. 102-110). Такой же «богатырский» способ передачи информации на расстояние описан в ряде пудожских и кенозерско-каргопольских вариантов «Дюка» (Рыбн., 202, Гильф., 225, 230 и др.). Показательно, что имена всех трех сподвижников Василия Буслаева, в том числе и нетрадиционное для Печоры имя «Фома горбатенькой» совпадает с именами в тексте того же колодозерского старика, а первые строки — с началом варианта заонежского певца Т. Иевлева:
А как жил Буслав да девяносто лет,
Да и зуба во рти нет(Гильф., 103)
Отмеченные выше совпадения вовсе не означают, что В. Лагеев или его учитель держал в руках сборники Левшина, Кирши Данилова, Рыбникова и Гильфердинга. Компилятивный характер комментируемого варианта свидетельствует о том, что он связан с печатным текстом сводного типа.
ПОЕЗДКА ВАСИЛИЯ БУСЛАЕВА В ИЕРУСАЛИМ (№ 243—249)
Как и на Мезени, этот сюжет занимает в эпическом репертуаре Печоры гораздо более заметное место, нежели былина о молодости Василия Буслаева. Общее количество записей сравнительно невелико — 7, но 5 текстов — полные, и лишь 1 прозаический пересказ; в одном случае Н. Ончуков прослушал всю былину, но записал только начало (№ 246). Кроме того, А. Осташов в сюжете «Добрыня и Василий Казимирович» заменил главных героев Василием Буслаевым и его традиционными спутниками и включил в былину основные эпизоды «Поездки Василия Буслаева» (см. № 16). 4 варианта и контаминация Осташова записаны на Средней Печоре, 3 — в устье реки (один из них, очевидно, восходит к печатному источнику — см. коммент. к № 248). Основные эпизоды былины — сборы и отъезд Василия Буслаева с дружиной в Иерусалим, встреча с черепом и предсказание гибели богатыря, купание в Иордан-реке, перепрыгивание через «сер горюч камень» и смерть героя — устойчиво повторяются в разных районах бытования русского эпоса; разночтения, как правило, касаются не сюжетообразующих элементов, а поэтических формул, имен собственных, отдельных мотивов, не являющихся сюжетно необходимыми. Несмотря на разнообразие в деталях и подробностях, «четких областных групп нет» (Аст., I, с. 559), на всем европейском Севере России былина бытовала в одной версии.
На общем фоне печорские и во многом примыкающие к ним мезенские варианты отличаются наибольшим своеобразием, что позволяет выделить особую редакцию сюжета. Некоторые ее элементы чаще фиксировались на Мезени, другие — на Печоре, третьи хорошо известны в обоих регионах. Большой интерес в этом плане представляет текст П. Маркова: в основном оставаясь в русле печорской традиции, он содержит немало деталей и подробностей, зафиксированных только на Мезени (см. коммент. к № 244). Поездка Василия Буслаева в Иерусалим почти повсеместно изображается как морское путешествие, но само оно обычно не привлекает внимание сказителей. В текстах с Печоры и Мезени подробно описываются все этапы плавания Василия и его дружины, морские приключения героя нередко становятся одним из сюжетных узлов произведения. Особенно велик их удельный вес в печорских вариантах. В лучших из них мать предупреждает богатыря о трех заставах, которые встретятся ему на пути в Иерусалим: «мужики-новотокмяна», «субой быстёр да вал густой» и «кресты евангельски» на горах; рассказывается о преодолении этих застав. Василий Буслаев тщательно снаряжает свой корабль в дальнее плавание, а иногда строит новый (этот мотив встречается в печорских записях); в былине отмечается, как мореплаватели распределяют между собой обязанности на судне (становятся на корме, «окол парусов», «ко якорю», «ко вороту»). Используя традиционную формулу (слова Василия Буслаева): «Ты сибе бы спала, да сибе видела», печорские певцы дополняют ее ответной репликой: «Я сибе спала, да Ваське (тебе) видела».
- 493 -
Так отвечают Буслаеву его мать, когда он не слушает ее предупреждений; старуха в Иерусалиме, удерживающая богатыря от кощунственного, по ее мнению, купания в Иордан-реке; «сухая кость, суха голова человеческа», предрекающая ему скорую смерть. Увидев на горе череп, Василий говорит: «Если ты руська глава, я тебя погребу, а неверна глава — я тебя прокляну» («мы погалимся» — в контаминированном тексте А. Осташова). На Мезени этот мотив есть только в варианте М. Антонова (Аст., I, 14). Голова обычно предсказывает: «Я лежу по леву руку крестов (камешка), а ты будешь лежать по праву руку». В некоторых печорских текстах содержится глухой намек на героическое прошлое погибшего богатыря, над останками которого «галится» Василий Буслаев. Это — еще одно свидетельство несомненной близости к мезенской традиции, для которой характерен развернутый диалог Буслаева с черепом и рассказ последнего о борьбе с «сорочиной долгополой». (Из печорских певцов об этой борьбе вскользь упоминает П. Марков, но гора, на которой Василий находит череп, обычно именуется «Сорочинской».)
№ 243
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 7, с. 326—330; Онч., № 28 «Васька Буслаев».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
«Старина записана со слов» (Онч., Изв. ОРЯС, 1902, с. 330).
Типичный для Печоры текст, в котором содержатся почти все специфические мотивы и детали, свойственные местной традиции. Особенно подробно разрабатываются «морские мотивы»: великолепно описание корабля, который Василий строит и оснащает для поездки в Иерусалим, лаконично и выразительно рассказано о борьбе корабельщиков с морской стихией. Сказитель хорошо владеет традиционными приемами композиции, былинным стихом, располагает обширным запасом эпических формул. Лишь однажды П. Поздеев позволил себе ввести в былину просторечное выражение: с трудом преодолев коварный «субой» (водоворот, сильное течение), мореплаватели «прочухались». В лексике былины отразились некоторые черты печорского быта (упоминаются «дерёвца кедровые», «лисица печорская»).
Разночтения 1904
9
Подал он ей во первой након
51
... по той лисице по почерскоей
56
Паруса были тонка полотнены
№ 244
Онч., № 89 «Василий Буслаев в Иерусалим ездил»; НБ, № 21.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
В Онч., № 89 в строке 251 — ... втаропы ..; в строке 259 — Как нету на коробля черных бровей.
Среди печорских записей вариант П. Маркова занимает особое место — именно в нем содержится наибольшее количество оригинальных мотивов и подробностей, свидетельствующих о близком родстве печорской и мезенской обработок данного сюжета. В тексте имеются почти все детали, составляющие специфику печорской традиции (имена спутников Буслаева; рассказ о строительстве корабля и подробностях плавания, о распределении обязанностей между корабельщиками; упоминание застав на пути в Иерусалим; формула «Я сибе-то спала да тибе видела»). Особенно много текстуальных совпадений с вариантом П. Поздеева (ср., напр., первые строки былины Маркова и строки 6, 7 в былине его земляка). Другие редкие детали роднят комментируемый текст с мезенской традицией. В ответ на предупреждения матери об опасностях морского путешествия в Иерусалим Василий заявляет:
- 494 -
«Субой-от быстёр дак мы перегребём, розбой-от велик дак мы поклонимся» (ср. Григ., III, 74 и Аст., I, 14); увидев «сер горюч камень», он сокрушается, что «Потанюшка Хроменькёй» не сможет через него перепрыгнуть: «Вперёд ему скочить, назад не отскочить» (ср. те же мезенские варианты, а также Григ., III, 3 и 18). Но особенно показателен диалог Василия Буслаева с черепом богатыря, погибшего в битве с «Сорочиной долгополой, Чудью двоеглазой» (строки 116—134). В большинстве мезенских текстов развернутый рассказ черепа о своем прошлом является важным идейно-композиционным узлом былины, «как бы противопоставляет бессмысленность ухарских поступков Василия героизму новгородца Василия Глебовича, погибшего в борьбе с внешними врагами» (НБ, с. 387). Самую близкую параллель к формуле Маркова «Сорочина долгополая, Чудь да двоеглазая» находим в былине «Добрыня чудь покорил» (сюжет «Добрыня и Алеша») из сборника Кирши Данилова: «Кто бы ‹...› вырубил чудь белоглазую, прекратил сорочину долгополую» (КД, 21); ср. «Цюдь билоглазая, ‹...› долгополая» в кенозерском варианте былины о гибели богатырей (СЧ., 215).
Кроме перечисленных выше мотивов, на принадлежность печорской и мезенской обработок этой былины к одной редакции сюжета указывает еще одно важное обстоятельство — среди всех записей, сделанных в северо-восточных районах, самыми полными и самыми близкими являются комментируемый текст и вариант мезенского сказителя М. Антонова (Аст., I, 14). За исключением формул «Я сибе-то спала да тибе видела», «Сорочина долгополая, Чудь да двоеглазая» и указания на строительство корабля Василием, все отмеченные в комментарии особенности варианта П. Маркова имеются в былине М. Антонова, а некоторые оригинальные мотивы встречаются только в этих текстах. У Маркова Омельфа Тимофеевна, провожая сына в Иерусалим, говорит о «прямоежжой» и «не ближноей» дорогах:
Кривой ездой ехать ровно три годы,
Прямой ездой ехать нынь три месяца.У Антонова:
Да знаю дорогу очень дальнию,
Да та дорога тихосмирная,
Вперёд итти будет три года,
И назад итти будет три года,
Пройдёт того времени шесть годов.
Да знаю дорогу премоеждную:
Да вперёд итти будет полгода
И назад итти будет полгода,
Пройти тому времени будет и год поры.Как и подобает истинному богатырю, Василий Буслаев отправляется более опасным, но коротким «премым путем». Выслушав исповедь черепа и предсказание своей скорой гибели, Василий спрашивает:
Ужли голова в тебе враг мутит?
’ тебе враг-от мутит, да в тебе бес говорит?В мезенском варианте:
Ты сама говоришь или бес мутит?
Только в этих двух текстах погибший богатырь назван по имени, причем он оказывается тезкой главного героя («Василий, сын Хлебович» у Антонова, «Василий сын Игнатьевич» у Маркова), видимо, отчество перенесено из былины «Василий Игнатьевич и Батыга», которая входит в репертуар сказителя (см. № 199).
Как и в других текстах Маркова, в былине о поездке Василия Буслаева в Иерусалим встречаются очень редкие и даже уникальные эпизоды, поражающие своим художественным совершенством формулы. Напр., лаконична, необычна по своему синтаксису обобщающая сентенция Омельфы Тимофеевны: «Кому думно спасатца, дак можно и здесь спастись». Редкий мотив использован в финале былины: в знак траура по Василию его дружинники снимают на корабле «флюгароцьку», вынимают из него «есны оци», «черны брови», а мать богатыря по этим
- 495 -
приметам догадывается: «Видно нету на кораблике хозяина». Некоторые эпитеты в комментируемом тексте свидетельствуют о географической осведомленности печорцев: «(по) соболю черному, не здешнему — сибирскому», «по бобру сизому, не здешнему — закаменьскому» («Закаменьский» — либо от названия реки Камы, либо от древнего названия Уральского хребта, который русские именовали «Каменным Поясом», или «Камнем»).
№ 245
Онч., № 74 «Василий Буслаев».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., с. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.
Примеч. соб. к слову «чернов» в строке 69: черн-нов?
Текст Н. П. Шалькова представляет собой контаминацию двух сюжетов, но от первой былины сохранилось лишь начало (смерть старого Буслая, его наставление сыну, выбор дружины). Традиционные советы матери, которая ссылается на жизненный опыт своего покойного супруга, оформлены как развернутый предсмертный наказ отца сыну. Старый Буслай не только поучает Василия, как надо строить свои отношения с новгородцами, но и регламентирует его поведение в Иерусалиме; даже сама поездка богатыря «ко святым местам» трактуется как выполнение отцовского завета: «Свезёт пусть положеньице великоё». Мотивировка делает контаминацию логичной и художественно оправданной. В рассказе о путешествии Василия Буслаева использованы распространенные на Печоре мотивы и подробности: строительство корабля и развернутое описание плавания, формула «Ты сибе бы спала да сибе видела»; горы, на которых Василий находит «голову человеческу», названы «Сорочинскими»; традиционны имена спутников главного героя. О знакомстве исполнителя с особенностями плавания на больших морских судах говорит упоминание шлюпки. Как и в некоторых мезенских текстах (Григ., III, 74; Аст., I, 14), корабль «остоялся» на глубоком месте — Василию суждено сложить голову на Сорочинских горах. (В других печорских записях этот мотив отсутствует.) Родной город Буслаева в былине остается безымянным — очевидно, топоним «Новгород» Шалькову не был известен (в другом новгородском сюжете «Садко» сказитель заменил его «Рязанью» — см. № 251). Н. Шальков строго придерживается традиционной эпической стилистики, единственное отклонение от нормы — не характерное для былин словосочетание «указы строгие» (под влиянием исторических песен его нередко использовали в разных былинах и другие сказители — см., напр., Гильф., 13, 69, 206).
№ 246
Онч., № 48 «Василий Буслаев» (отрывок).
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Дмитрия Карповича, 40—45 лет.
Н. Ончуков прослушал всю былину, но записал лишь необычное ее начало, сославшись на традиционность содержания варианта Д. Дуркина: «Дальше идет обычное описание поездки В. Б. в Иерусалим и потому оно не приводится» (Онч., с. 204). В публикуемом отрывке привлекают внимание три момента. Дуркин не упоминает Новгород, заменяя его Рязанью (видимо, механический перенос из былины о молодости Добрыни). С аналогичной заменой встречаемся в былине печорского сказителя Н. Шалькова «Садко» (см. № 251) и в одном из мезенских вариантов «Поездки Василия Буслаева» (Григ., III, 3). В комментируемом тексте Василий Буслаев объявляется «строителем» и «управителем» Рязани. Не исключено, что Д. Дуркин, подобно С. Хабарову (см. коммент. к № 237), трактовал конфликт богатыря с новгородцами как борьбу за власть в городе. Последняя строка записанного Ончуковым фрагмента свидетельствует о том, что дальнейшее описание поездки богатыря в Иерусалим действительно обычно для Печоры (Василий строит «черлен караб»).
- 496 -
№ 247
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 64, маш. «Про Чурилу»; БП, № 18 «Про Чурилку» [«Смерть Василия Буслаева»].
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
Несмотря на фрагментарность текста, содержащего всего 25 строк, в нем сохранились некоторые детали, типичные для печорской традиции. Упоминаются три заставы на пути героя, хотя и не говорится, что они собой представляют; использована формула «Русска глава — да погрести тя надо, а погана голову — да проклясти надо»; череп предсказывает богатырю: «Я лежу подле правый бок камешка, а ты ляжешь под левый бок». Василия Буслаева в былине заменил «Чурилка», ничего не говорится о его дружине, не упомянут Иерусалим, а само путешествие совершается на коне, а не на корабле, как обычно. Путаница имен богатырей характерна для А. Шишоловой (см. № 28, 145).
№ 248
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 3, л. 10—11, маш.; БП, № 87 «Смерть Василия Буслаевича». Звукозаписи нет.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет
Вторая былина Т. Кузьмина о Василии Буслаеве, как и первая (см. коммент. к № 240), восходит к книжному источнику: в ней нет ни одной местной эпической формулы, ни одной детали, характерной для печорско-мезенской редакции сюжета. В ряде эпизодов бесспорна зависимость варианта от Сборника Кирши Данилова (КД, 19). Почти буквально совпадают в этих двух текстах укоризненный монолог богатыря, череп которого Василий пнул ногой (строки 13—15 у Кузьмина, 246—252 у КД); надпись на камне: «Кто у камня будет тешиться, тот и сломит буйную головушку» (Кузьмин), «А кто-де у камня станет тешиться ‹...› сломить будет буйну голову» (КД); а также описание «скакания» через камень: спутники Василия прыгают поперек камня, а он — вдоль (в других северо-восточный вариантах богатырь скачет «назад глазами» или «взад пятмы»). Не традиционно для Печоры и Мезени название «Фавор-гора» (обычно — «гора Сорочинская»); оно могло попасть в комментируемый текст через книгу из прионежских записей (Рыбн., 151, 198 и др.).
№ 249
Арх. ФК МГУ 1980, тетр. 1, № 361, л. 74 об. — 75, № 249 рукоп. «Смерть Василия Буслаевича».
Зап. Ивановай А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочная на р. Пижме).
Примеч. соб.: 1) С. А. Носов назвал былину «коротким сказом о Василии Буслаеве»; 2) «Былину исполнял по собственной записи, написанной накануне, чтобы не сбиться» (л. 74 об.).
Краткий пересказ былины, в котором сохранились лишь смутные воспоминания о некоторых эпизодах из обоих сюжетов о Василии Буслаеве. Характерные для печорской традиции детали отсутствуют.
САДКО (№ 250—259)
На всем Северо-Востоке европейской части России Печора — единственный район, в котором собирателям удалось зафиксировать сравнительно активное бытование былины «Садко»: 8 вариантов (5 — в дореволюционное время). Печорской традиции известны все три части сюжета: «Садко получает богатство» (входит в состав 1 текста), «Садко состязается с Новгородом» (7) и «Садко в подводном царстве» (5). Лишь в одном
- 497 -
из вариантов заключительные эпизоды переданы прозой (№ 255). В соседних регионах записи единичны, причем не все тексты полноценны (рассказаны прозой, зависят от книжных источников). Единственный мезенский вариант — краткий прозаический пересказ — записан лишь в 1971 г. (Институт этнографии РАН, Архангельский отряд 1971 г.). Пинежский пересказ былины (Аст., II, Прилож. II, № 1) имеет сказочное оформление, содержит первую и третью части сюжета и явно создан на основе вариантов пудожанина А. Сорокина (Рыбн., 194, Гильф., 70). Былины Крюковых восходят к тому же источнику (см. об этом: НБ, с. 403—405). С устной традицией Зимнего берега можно связывать 2 варианта — Марк., 95; Марков, Маслов, Богословский, I, № 17) в первом нет второй части сюжета, во втором — первой). Единственная кулойская запись рассказывает лишь о состязании Садко с Новгородом (Григ., II, 18).
Печорские записи выглядят предпочтительнее, однако и в них заметны отход от древнейших редакций сюжета, противоречия, явные пропуски. Это признаки угасания традиции, разрушения былины о Садко, «понижение ее поэтического уровня» на протяжении последних полутора веков во всех районах бытования. (Аст., I, с. 626). Беднее всего на Печоре представлена первая часть сюжета («Садко получает богатство»), имеющаяся только в одном тексте (№ 255). Наибольшей популярностью у местных певцов пользовалась вторая часть сюжета. Рассказа о состязании Садко с Новгородом нет только в тексте Т. Кузьмина (№ 258), еще в одном варианте действие перенесено за четыре моря, а соперником Садко является «царь заморский». Здесь события получают неожиданный поворот, обусловленный переосмыслением конфликта; смещение идейных акцентов повлекло за собой и необычную развязку, не характерную для записей в других районах. Своеобразие печорских вариантов «Садко» позволило их выделить в особую версию (см.: Аст., I, с. 626—627, НБ, с. 393—394). В отличие от ряда прионежских записей и текста из Сборника Кирши Данилова, где Садко бросает вызов Новгороду только получив сказочные сокровища и заручившись поддержкой могучего покровителя (морского царя или персонифицированного Ильмень-озера), в большинстве печорских вариантов нет указаний на его исключительное богатство, характеристика имущественного положения Садко ограничивается постоянным эпитетом «купец богатый». Поводом для спора служит бахвальство героя на пиру:
Я в Нове-граде товары да все повыкуплю,
Да на матушку на Волхов да все повывожу,
Кабы тридцеть ле кораблей понагружу.(Формула очень устойчива в печорских былинах и почти в таком же виде встречается в двух текстах соседних районов — Григ., II, 18 и Марков, 95). Сказители с некоторой иронией описывают состояние героя, словно предваряя этим его неудачу на первом этапе состязания с Новгородом:
Из ума-то Садко вышибаитце,
Из рецей-то Садко прошибаетце.(№ 251)
Да пошел-де Садко да запечалилса,
Повеся-де идет да буйной головы,
Потупя держит да очи ясныи.(№ 254)
В роли соперника Садко неизменно выступает «поп, отец духовный» (кроме одного варианта, в котором действие перенесено в заморские страны). Вскоре герой убеждается, что ему не под силу соперничать с Новгородом в богатстве. И тут он получает неожиданную поддержку христианских святых (Микола-святитель — в 4 вариантах, безыменные святители, богородица или «старик, как бел куропать») — они принимают сторону не попа, «слуги божьего», а его противника. Делается это за обещание Садко построить церковь (лишь в одном тексте эта деталь опущена — № 256). Внезапное обогащение героя не описывается, а констатируется: «Тут у Садко казны прибыло». Во всех печорских текстах Садко выигрывает спор. По такой же схеме развиваются события в кулойском варианте.
- 498 -
Судя по всему, печорская версия этого сюжета сравнительно молода: резкое противопоставление былинного героя и православного попа — своеобразный художественный отклик на обострение отношений между старообрядцами и официальным православием. (Не случайно в одном из вариантов Садко обещает украсить новую церковь «золочёныма иконами старообрядческими» — № 255.) К концу XIX в. новая обработка былины получила на Печоре широкое распространение, полностью вытеснила предшествующую ей версию сюжета; местные певцы создали целый ряд оригинальных формул, которые зафиксированы в разных уголках обширного региона.
Третья, заключительная, часть сюжета на Печоре фиксировалась гораздо реже (5 вариантов из 8), а в одном использованы отдельные мотивы: остановка корабля среди моря, поиски «кошоцьки подводноей» и метание жребиев (№ 252). В прочих текстах сильно варьируется развитие действия, мотивировка событий. Лишь однажды остановка кораблей объясняется тем, что Садко не платил дани морскому царю (№ 250), в других вариантах мотивировка отсутствует, либо переосмыслена в свете событий, изображенных во второй части сюжета, герой не построил церковь, как обещал, и за это подвергся новому испытанию (№ 251, 252). В роли советчика выступает морская царица, явившиеся во сне «жона старо-матера» или Микола Можайский; в одном варианте Садко сам догадывается, как ему поступить. За исключением варианта Т. Кузьмина (№ 258), в определенной мере связанного с печатным источником, в печорских былинах не описывается спор морского царя с царицей, невыразителен образ Садко-гусляра (эпизод пляски морского царя есть лишь в текстах Н. Шалькова и Т. Кузьмина). В печорских записях «Садко», как и в сопредельных районах, «сильно снижен исторический новгородский колорит» (Аст., I, с. 627), даже не всегда упоминается Новгород.
№ 250
Онч., № 90 «Садко»; НБ, № 38.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в с. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
Типичный для печорской традиции вариант, соединяющий вторую и третью части былины. Повествуя о состязании Садко с Новгородом, сказитель строго придерживается местной версии сюжета. Как и Осташов (№ 252), П. Марков подчеркивает, что «поп, отец духовныя» «писал ерлыки да скоры грамотки, метал по дорогам прямоезжиим — везли бы товары во Нов-город». В заключительной части произведения обращают на себя внимание имя морского царя — «Поддонишшо» (ср. Рыбн., 107; Гильф., 174) и замена Миколы «Всеможойского» «жоной староматерой» в роли покровителя Садко.
В варианте, как и в большинстве других былин Маркова, проявляется его высокое исполнительское мастерство.
Упоминание «хлебных жеребьев» (наряду с «таволжеными» и «берестеными») — видимо, традиционная деталь, что подтверждается еще одним печорским вариантом (№ 255).
№ 251
Онч., № 75 «Садко»; НБ, № 39.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., с. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.
Одна из самых полных печорских записей былины, содержащая все основные особенности местной версии второй части сюжета, отмеченные в общем обзоре вариантов. В заключительной части («Садко в подводном царстве») сказитель использовал ряд редких, даже уникальных мотивов и подробностей. В его варианте герой берет в подводный мир «гусли звончаты», тешит морского царя игрой и наблюдает за его пляской. На Печоре эти мотивы есть только в тексте Т. Кузьмина, зависимом от книги. Оригинален ответ Садко на приказ починить гусли:
Я уцился играть да в гусли звонцяты,
Не уцился я починить гусли звонцяты
- 499 -
Морской владыка в гневе «хватил Садка за длинну бороду», «бросил Садка да вон из терему», в результате чего герой «очюдился» в Новгороде. Этот эпизод, не встречающийся в других записях былины, «пожалуй, не является личным домыслом печорских певцов. Он созвучен со скупым пересказом, записанным на Пудоге ‹...› и с быличкой „Парень у водяного“» (НБ, с. 411). Архаичен и другой мотив, использованный Шальковым: за сутки, проведенные Садко в подводном царстве, в его родном мире прошло 8 лет (ср. былички о пребывании человека у лешего или водяного, некоторые сюжеты волшебных сказок — АТ 470, 470А). Любопытна перекличка данного варианта с текстом КД (№ 47): «Лежит-то на лавке царь морской». Поскольку других явных совпадений с записью XVIII в. нет, в устном происхождении этой бытовой детали можно не сомневаться. Огненная шлюпка с гребцами, требующими «виноватого», огненный столб возле которого «ввернулась эта шлюпка во синё морё», — «детали, явно домысленные на Печоре и не совсем удачно „вмонтированные“ в былину» (НБ, с. 411). При такой мотивировке событий метание жеребьев оказалось излишним — Садко сразу догадывается, что шлюпка послана за ним. В данном варианте архаичные мотивы и подробности соседствуют не только с явно поздним вставками, но и с механическими перенесениями из других сюжетов. Так, первые строки заимствованы из былин о молодости Добрыни, имя «Левонтия попа, отца Ростовского» — из былины об Алеше Поповиче и Тугарине, предложение морского царя сыграть с ним в шахматы — из «Добрыни и Василия Казимировича». Как и в ряде других печорских текстов, название реки Волхов заменено Волгой.
№ 252
Онч., № 10 «Садок»; НБ, № 39.
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., с. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
Основу варианта составляет вторая часть сюжета («Садко состязается с Новгородом»), события в ней развиваются по традиционной для Печоры схеме. Единственное отклонение — спор происходит не на пиру, а возле церкви после окончания воскресной обедни. Подобная локализация отдельных эпизодов — обычное явление в печорских былинах (см. коммент. к сюжетам «Дюк Степанович», «Иван Гостинный сын», «Лука, змея и Настасья»). Изменения в религиозных убеждениях А. Осташова (переход в православие) не привели к «православной трактовке» сюжета (НБ, с. 411). Напротив, несмотря на отречение от старообрядчества, сказитель сохранил традиционную трактовку конфликта: и в его варианте христианские святители отдают предпочтение не служителю культа, «попу, отцу духовному», а купцу. В тексте есть интересная деталь: видимо, не надеясь на естественный ход событий, поп пишет «ерлыки да скоры грамоты», призывая торговцев вести в Новгород товары (ср. № 250). Но вопреки логике в результате этой акции «здорожали товары да в Нове-граде», наверное, Осташову хотелось убедительнее мотивировать временное поражение Садко. Эпитет «Жеребья малиновы» не традиционен, вероятно, он попал в былину из лирических песен как своеобразное дополнение к упомянутым ранее «жеребьям калиновым».
№ 253
Онч., № 55 «Садко».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Игнатия Михайловича, 75 лет.
Текст И. Дуркина содержит только вторую часть сюжета, в нем почти полностью отсутствуют конкретные приметы новгородского быта (несмотря на то, что основные события приурочены к Новгороду, пир, на котором Садко спорит с попом, перенесен в палаты киевского князя Владимира; место реки Волхов заняла Волга). Традиционный для печорских вариантов конфликт между купцом и «попом, отцом духовным» еще более заостряется благодаря введению в былину мотива поручительства (строки 28—29).
- 500 -
№ 254
Онч., № 70 «Садко».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май — июнь 1902 г., д. Верхнее Бугаево (на р. Печоре) Усть-Цилемской вол. — от Шишолова Василия Дорофеевича, 40—45 лет.
Начало былины, которое, по словам собирателя, «точно такое же, как и у Игнатия Дуркина, и потому не приводится» (Онч., с. 278), дано в подстрочнике.
Н. Ончуков не записал от В. Шишолова начало былины. Между тем в зафиксированной собирателем части данный вариант существенно отличается от предшествующего, чувствуется влияние волшебных сказок. Посредником между Садко и «небесными силами» является «старик, как белой куропать» (у Дуркина герой общается с молитвой к Богородице); роль этого старика гораздо активнее роли его аналогов в других печорских записях былины: подобно волшебному помощнику в сказках, он направляет действия Садко, советуя ему помолиться богу и дать обет построить церковь. Необычен финал былины — корабли Садко тонут во время шторма («пурги-падеры»). Трагическая развязка ничем не мотивирована. Вероятно, сказитель знал, что приключения героя не кончаются выигрышем заклада, но дальнейшее содержания былины не помнил. Действие полностью перенесено в Киев.
№ 255
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 13, л. 14—27 об. (полев.), тетр. 3, л. 96—100 (перебел.); Аст., I, № 94 «Про Садка».
Зап. Астаховой А. М.: 20 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Павла Ивановича, 57 лет.
Запись неполноценная (пропуски отдельных слов и строк) из-за быстроты и сбивчивости исполнения. В заключительной прозаической части былины собирателем скобками обозначен краткий пересказ содержания. (Аст., I, с. 627).
В полевой записи в строке 36 нет слова «на пристань»; в 70 и 111 пропущены слова; после 97 — две неполных строки; в 98, 105 и 114 — трудночитаемые слова.
В полевом и перебеленном тексте различное написание: кораблики — кораблички; замор... — заморьское.
Единственный печорский вариант, содержащий все три части сюжета. Первая часть отдаленно напоминает варианты Сорокина (Садко-гусляр уходит с пира, играет на берегу моря и получает от водяного царя «денег множество»). Однако объяснить это сходство книжным влиянием вряд ли возможно: в деталях тексты пудожского и печорского сказителя сильно расходятся (у Сорокина Садко три дня не зовут на пир, у Торопова герой веселит гостей на пиру у себя в доме, но «не зандравила Садка игра на честном пиру»; совершенно по-разному описывается обогащение героя и т. д.). Во второй и третьей частях сюжета нет ни одного эпизода или подробности, позволяющих говорить о воздействии сорокинских текстов. Единственная примечательная в этом плане деталь — Садко опускается в море на «дощечке» — есть и в ряде других северно-русских записей (см., напр., Рыбн., 107, Марк., 95). В то же время здесь встречаются традиционные печорские формулы и образы (по приказанию Садко корабельщики проверяют, «нет ли злой кошки подвонной», мечут в море «жеребенья хлебные»; возвращаясь в родной город, поднимают в знак траура «флаги чёрные, туманные»). П. Торопов переносит в свою былину некоторые устойчивые формулы из других сюжетов — осматривание окрестностей в подзорную трубу (ср. «Илья Муромец и Сокольник», «Дюк Степанович» и др.), уговор о наказании проигравшего спор (ср. «Сорок калик»), использует ряд типичных для печорских текстов словосочетаний («пошел ‹...› вон на юлицу», «спит, как порог шумит»). Во второй части былины много существенных отклонений от традиции (действие перенесено за «четыре моря», соперник Садко — заморский царь; именно здесь особенно часты заимствования из других сюжетов). Однако события развиваются по обычной схеме — инициатором спора является Садко, поначалу он терпит неудачу и лишь с помощью святого Миколы выигрывает заклад. Несмотря на рыхлость композиции, отдельные логические неувязки, комментируемый текст стилистически в основном остается в рамках традиции. Лишь в описании плавания парусника по морю использован явный анахронизм
- 501 -
(«паровы ‹...› машинушки»). В то же время Торопов охотно вводил в свою былину местные элементы (осматривание окрестностей с корабельной мачты, акцент на приверженности Садко старой вере). В варианте Торопова почти нет новгородских реалий, а Садко сказитель не считал новгородцем: вернувшись домой, герой строит церкви и «выписывает» для них «попов-дьяков из Нова-города».
Разночтения Аст., I, № 94
1
Ай заводилсэ у Садка купця почесен пир
2
Кабы те оне на пир бы люди собиралисе
14
Подводи-ко ты, Садко, червле́ны корабли
16
А подводил Садко скорей кораблицки
39
Да вылажливали коряги булатныя
56
У меня, живого царя, руки выломать
60
А ежли не будёт у тебя, Садко, да золотой казны теперь бесчётной
63
Я, у тебя, у живого у Садка, руки сло́маю
64
Я у тебя у живого у Садка ноги сло́маю
№ 256
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 11, л. 31 об. — 38 и 40 об. — 42 об. (полев.), тетр. 3, л. 45—46 об. (перебел.); Аст., I, № 50 «Садко».
Зап. Астаховой А. М.: 13 июля 1929 г., с. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Савелия Дементьевича, 62 г.
Исполнитель, не сумев воспроизвести напев, прервал пение после 18 строки, спел «Скопина» и затем вновь возвратился к былине о Садко (Аст., I, с. 627).
В полевой записи круглыми скобками отмечены добавления при пении, квадратными и зачеркиванием — опущенные при пении слова.
В полевой записи в стихе 21 вместо «скамеецьки» — «кроватоцьки». Стихи 51—52 имеют иной порядок, измененный самим собирателем: 52—51.
Публикуется спетый вариант по полевой записи.
Сказанный вариант:
7
День-то идёт в половине дня
11
Все-то на пиру да приросхвастались
20
Из-за того из-за стола из-за дубового
23
По полу Садко похаживт
24
Тихо смирную рець да выговаривт
29
Триццать кораблей пона́гружу
49
А у Садка́ денег мало можитцэ
50
Пошёл тогда...
После 50
Молилса он тут Николе светителю
51
Крест он клал по-учёному
52
А поклон вёл по-писа́нному
55
Просил он у Николы светителя золотой казны
После 55
Тогда у Садка́ денег увели‹чил›ось
61
А у Садка́ денег больше старого
В стихах 1—4, 8—10, 12, 36, 37, 46 отсутствует начальное «Да»; в стихе 13 вместо «Да» — «А»; в стихе 45 нет слова «тогда».
- 502 -
Повествование ограничивается второй частью сюжета и завершается победой Садко в споре с «попом, отцом духовным». Вариант С. Чупрова по всем параметрам укладывается в печорскую версию сюжета. Как и в ряде других текстов (см. № 253, 254), заметна тенденция включить «Садко» в киевский цикл былин (действие начинается в Киеве на пиру у князя Владимира, хотя товары Садко выкупает в Новгороде). Название Волхова и здесь заменено близкой по звучанию Волгой.
№ 257
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 113, маш. «Садко»; БП, № 31 «Про Садка».
Зап. Сапожникова Д. Я.: авг. 1942 г., д. Крестовка Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Макара Ивановича, 66 лет.
Былину перенял от отца — И. Е. Чупрова. По свидетельству А. М. Астаховой (Аст., I, с. 375), И. Е. Чупров знал былину о Садко, но не исполнил ее, сославшись на забывчивость. М. И. Чупров передает только отрывок былины — о состязании Садко в богатстве с Новгородом. Включен характерный для печорской традиции эпизод: Садко бьется об заклад с попом. Сказитель сохраняет старейшую развязку былины — поражение Садко, встречающуюся в основном в прионежских вариантах (Аст., I, с. 626). Публикуемый отрывок очень близок к тексту былины «Садок» (№ 252), записанному в с. Замежном на р. Пижме, соседнем с д. Аврамовской, откуда родом исполнитель и его отец. Некоторые строки обоих текстов совпадают дословно (БП, с. 536).
№ 258
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 4, л. 12—15, маш.; БП, № 85 «Садко». ФА VI МФ, 331.10; БРМЭ, № 60, нап. с. 309.
Зап. Колпаковой Н. П.: 6 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Подобно большинству былин Т. Кузьмина, текст — книжный по происхождению. Он явно зависим от варианта прионежского сказителя В. Лазарева (Рыбн., 107), не исключено также влияние сорокинских текстов. У Кузьмина, как и у Лазарева, Садко называет своих спутников «друзьями», подводный царь живет «в палатах белокаменных», герою приходится разрешать спор царя и царицы о том, что дороже на Руси, — «железо крепкое» или «красно золото», — и он дает уклончивый ответ, удовлетворяющий обе стороны. Царица выступает в роли помощника героя, советуя ему сломать гусли, из всех девиц выбрать в невесты «всех с лица да хуже черную» (Кузьмин), «которая поменьше она и почернее всех» (Лазарев); в соответствии с русскими свадебными обычаями Садко называет свою невесту «княгинюшкой». Особенно показательно совпадение очень редкого в былинах мотива, видимо, связанного с древними языческими представлениями:
Шубой машет царь да соболиноей,
Бьет полами царь да в стены белые ‹...›
«Не в палатах, верно, царь да нонь выплясывает,
А по краям да по бережку
Заволновалось море синее Хвалынское:
Тонут бедные, верно, кораблики,
Еще тонут с ними души неповинные»(Кузьмин)
Он полами бьет и шубой машет,
И шубой машет по белым стенам ‹...›
«Тебе кажется, что скачет по палатам царь,
А скачет царь по крутым берегам;
- 503 -
От его от пляски тонут-гинут
Бесповинные буйны головы»(Лазарев)
Аналогичный эпизод есть также в пересказе былины, записанном в начале XX в. на Карельском берегу (РФ, XVI, с. 134). С вариантом А. Сорокина комментируемый текст роднит колоритное описание остановки Садкова корабля на море (строки 19, 20), точное указание числа девиц в каждой «толпе» — по триста. Деталей и подробностей, характерных только для печорской традиции, в былине Кузьмина нет. Оригинальный мотив использования «палицы тяжелой» в качестве жребия, возможно, принадлежит самому сказителю.
Разночтения БП, № 85
8
Говорит-то Садко да ведь богатый гость
70
А по краям да по бережку
№ 259
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 15, л. 68, маш.; БП, № 85а «Садко».
Зап. Колпаковой Н. П.: 6 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Начало былины № 85 БП (№ 258). Отрывок дан как проба голоса и припоминания.
МИХАЙЛО ПОТЫК (№ 260)
Сюжет популярен в Прионежье, на долю которого приходится около половины имеющихся записей; в северо-восточных районах не получил широкого распространения. Единственная запись Ончукова, сделанная на Печоре, примыкает к мезенским редакциям былины (Маринка-лебедь белая — полонянка из «земли Копейщатой», доставшаяся Потыку после удачного похода — ср. Григ., III, 29, 79; богатырь заливает горящее гнездо змеи, заручаясь ее помощью). Печорский сказитель ограничился первой частью сюжета, завершив былину оживлением Маринки; а в ее поведении последовательно снял все проявления враждебности к русскому богатырю. В отличие от мезенских записей в этом тексте нет эпизодов и подробностей, заимствованных из других былинных сюжетов.
№ 260
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 6, с. 331—339; Онч., № 57 «Потык».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Чупрова Алексея Васильевича, 70 лет.
В публикации 1902 и 1904 гг. примеч. соб.: «Старина записана не с голоса, со многими сокращениями таких мест, которые составляют дословное повторение мест, встречающихся раньше; размер старины уменьшился почти вдвое при всей полноте сюжета» (Онч., с. 245). Выпущенные отрывки восстановлены в подстрочнике.
В Онч. № 57 строка 241: Сковать киски (тиски?) железныя.
Былина со стройной композицией, в основу положено развернутое описание трех удачных набегов Потыка на «землю Холшевскую», «Копейщату» и «Подобьскую»; в одном из походов богатырь добывает себе невесту. Необычна мотивировка враждебности бояр к герою: они «крепко прогневались» за пренебрежительные отзывы об их дочерях (см. оригинальную формулу в строках 111—120). В тексте опущен мотив неверной жены и связанные с ним подробности (Маринка не отговаривает Потыка от помощи змее). В финальном эпизоде, видимо, произошло наложение одной редакции сюжета (благодарная змея выручает героя) на другую (в змею
- 504 -
превращается жена богатыря, он ее укрощает, избивая прутьями). Механическое соединение разнородных мотивов привело к алогизму: Потык «занапрасенно» избивает змею, пришедшую к нему на помощь. Не традиционная деталь — князь Владимир делает «нов дубовый гроб» для Маринки.
Разночтения
1
Во стольном городе во Киеве (1902)
101
Дам тебе девицу как надобно (1904)
НАЕЗД ЛИТОВЦЕВ (КНЯЗЬ РОМАН И БРАТЬЯ ЛИВИКИ) (№ 261—264)
Эта редкая былина зафиксирована собирателями только в Прионежье, на Печоре и на Индигирке (Русское Устье). Сюжетная схема ее на редкость устойчива.
Печорская редакция отличается от прионежских деталями, именами собственными и пропуском ряда эпизодов (нет описания похода на Ливонию, плача Романа о старости; лишь в одном варианте вскользь говорится о войске Романа, не рассказывается об испытании воинов перед погоней за врагом; не упоминаются разоренные ливиками села, пограничная река Смородина или Березина).
В подавляющем большинстве прионежских записей набег на Русь совершают племянники литовского короля; в печорских нет такого единообразия — в одной упомянут литовский король (№ 261), в другой этническая принадлежность врагов не конкретизируется (№ 262), в третьей они оказываются татарами (№ 263), а в четвертой — жителями Киева (№ 264). В прионежских текстах в плен попадают сестра и малолетний племянник Романа, в печорских — или племянник и племянница, или только сестра.
Вместе с тем печорская редакция сохраняет некоторые конкретно-исторические подробности, утерянные или затемненные в прионежских былинах. Действие происходит в городе Браньском (Обраньском); в Прионежье — просто на Руси, в Москве и лишь в одном тексте — в городе Серебрянском (Рыбн., 45). В печорских вариантах удачнее мотивирован необычный характер расправы Романа с королевскими племянниками: именно такое наказание предусмотрено «большой заповедью» для нарушителя перемирия, которое заключили когда-то король Лимбал и Роман. Печорские певцы подробнее описывают разорение русского города захватчиками, используя для этого художественные образы, характерные для северо-восточных редакций былин о татарском нашествии. О случившейся дома беде Роман догадывается по «граянью» трех «воронов кормленыих», приученных «для случаю-де Митрею вести сказывать». (Этот мотив встречается также в единственном устном по происхождению печорском варианте «Добрыни и Алеши» — № 34.)
В прионежских текстах источники информации самые разнообразные. Некоторые эпизоды из «Наезда литовцев» использованы в эпической песне об атамане разбойников Даниле Борисовиче (№ 265).
№ 261
Онч., № 37 «Дмитрий Бранской и племянники короля Лимбала».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Рочева Егора Ивановича, 61 г.
Примеч. соб.: к строке 106 (к слову «упоместитце»): «так!»; к строке 210 (к слову «ёни»): «Племянники Лимбала-короля».
Типичный для печорской традиции текст; многие эпизоды, обычные в прионежских записях, в нем опущены или не развернуты (в частности, Роман освобождает племянников без помощи войска). Е. Рочев иногда допускает алогизмы (литовский король устраивает пир «про русских могучих богатырей», «христиан православных»), вводит в былину современную лексику («банкетовать», «в карты разыгрывают»).
- 505 -
№ 262
Онч., № 54 «Дмитрий Бранской».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Игнатия Михайловича, 75 лет.
Примеч. соб. к словам «два брата Долгополыя» в строке 78: «так».
Сюжет передан кратко, в тексте нет развернутых описаний, использованы мотивы и образы ряда других эпических песен.
Былина начинается не с картины пира у литовского короля, как обычно, а с описания оборотничества Митрея Браньского (возможно, под влиянием сюжета о Волхе — см. об этом Аст., I, с. 623). Племянники Имбала, как и в № 264, названы братьями Долгополыми (на Печоре их имена встречаются в былинах о татарском нашествии на Киев, об Илье Муромце и Сокольнике, Алеше Поповиче и сестре братьев Збродовичей). Формула «зажили по-домашнему» (строка 35) перенесена из былины о Чуриле и Катерине.
№ 263
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 18 об. — 25 (полев.), тетр. 3, л. 63 об. — 67 об. (перебел.); Аст., I, № 88 «Про Матвея, про Луку, сыновей Петровичей».
Зап. Астаховой А. М.: 19 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Николая Самсоновича, 79 лет.
В тексте полевой записи многочисленные добавления, связанные с особенностями исполнения былины и методикой записи (см. биографическую заметку, с. 502).
Примеч. составителя:
к строкам 74, 75: «Эти две строки при пении пропущены»;
к строке 99: «В рукописи неразборчиво»;
к строке 115: При словесной передаче: «Выскакивали они вон на улицу».
Вариант близок былине в записи Н. Е. Ончукова (см. № 262). На варианте Н. С. Торопова сказалось влияние былины об Алеше Поповиче и сестре братьев Долгополых (см. № 117). Усилены сказочно-эпические черты, мотив оборотничества проходит через всю былину (Аст., I, с. 624).
Разночтения Аст., I, № 88
3
Ко Митрею не ездите по ронну́ сестру́
30
На сквозю́-де ночь темну до бела́ света
74
Вершинка с вершинкою сплеталися
№ 264
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 9, рукоп. «Дмитрей Брянской».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Текст дефектный. Литовских королевичей заменили братья Долгополые (см. также № 262, 263), родственники или подданные киевского князя Владимира (во всяком случае, зависимые от него люди — они просят у Владимира благословения «шуметь-грометь» в городе Митрия Бряньского). Их поход напоминает скорее грабительский набег (см. строку 55) — ни сестра, ни племянник Митрия в былине не упоминаются. Вместе с тем вариант сохраняет многие традиционные эпизоды и мотивы (договор Владимира и Митрия не нападать друг на друга, оборотничество брянского князя, характер расправы с братьями Долгополыми и др.).
- 506 -
ДАНИЛО БОРИСОВИЧ (№ 265, 266)
Сюжет принадлежит к былинным новообразованиям типа «Бутман», «Лука, змея и Настасья»; в форме эпической песни зафиксирован только на Печоре. Известны всего две записи, обе сделаны Н. Ончуковым в отдаленных друг от друга населенных пунктах. Заметно различаясь в деталях, они совпадают по своей структуре. В обоих текстах ключевым является третий эпизод (борьба с мертвецом, встающим из могилы), а первые два носят мотивирующий характер (строительство струга для разбойничьих походов по Дону, ограбление купеческих кораблей или города Бранского, ставшее причиной смерти Данилы). Сказители заимствуют мотивы и образы из произведений разных жанров фольклора. В обеих записях очевидна ориентация на былины (стремление к эпической идеализации главного героя, гиперболизация его физической силы, использование ряда былинных формул, в том числе редких в местной традиции); встречаются архаичные мотивы, характерные для произведений несказочной прозы (мифологические черты в облике Данилы Борисовича и Митрея Бранского). Вместе с тем тексты испытали явное воздействие казачьего песенного фольклора (богатырский «червлен корабль» заменен казачьим «стругом», действие происходит на «тихом Дону», в одном из вариантов упоминаются город Ростов, «шах персичкий»; Данила является атаманом разбойничьей ватаги донских казаков).
№ 265
Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, «Новые былины из записей на Печоре», № 2, с. 307—313; Онч., № 51 «Данило Борисович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Дмитрия Карповича, 40—45 лет.
К слову «рибятам» в строке 10 примеч. соб.: «Рибятам» — исключительно редкий случай произношения, обыкновенно — «робятам» (Онч., с. 214). К слову «взголовьичо косявчато» в строке 33: «так!»
В публикации 1903 г. примеч.: 1. «Старина записана с голосу. ‹...› В имеющемся у меня неоконченном списке той же старины сельского писаря И. Поздеева Димитрий Бронской раз назван Димитрием Ростовским; кроме того, там нет совсем о походе в Персию». В сборнике Ончукова «Печорские былины» отрывок, записанный от И. Поздеева, не опубликован.
2. «Еще раз списана эта старина в Пустозерской волости, в селе Великая Виска от восьмидесятилетнего старика Николая Петр‹овича› Шалькова. В спетой им старине в 78 стихов значительные разночтения: Данило по отцу уже не Борисович, а Денисьевич; в старине совсем не упоминается о „тоще медной“; легкий струг с разбойниками плывет на устье Дона, где разбойники и грабят „корабли новы купечески, обирают товары все заморские и оттуль поворот держат“. Ограбленные купцы взмолились Богу, и вот поднимается „туча темно-грозная» и громовая стрела из тучи поражает Данилка в грудь. Товарищи пристают к берегу, достают „гробницу белодубову“, хоронят своего атамана и отправляются дальше домой.
Кабы едут-то робята день до вечера,
Да приходит-то тогда да ноцька тёмная,
Набежал-то Данило вор Денисьевич,
Становил-то бы их да середи реки,
Да крычит-то, громит зычным голосом:
«Уж вы милыя братцы, добры молодцы!
Не утти-то вам будёт, не уехати».
Как стоят-то они да вплоть до утра тут;
Кабы стал-то тогда да ныньце белой день,
Кабы пал-то Данило вниз на землю тут.
Подъезжали-то робята к круту берегу,
Погребли-то Данилка во сыру землю,
Да оттуль-то робята все поехали.
- 507 -
Когда настала ночь, Данилко опять нагнал и опять остановил их посредине реки. Утром опять подъехали к берегу и опять погребли Данилку. На третью ночь случилось то же самое. Тогда постельник Данила вспомнил его слова:
„Да не дёржит меня да мать сыра земля,
Только дёржит меня да нонь осинов кол“.И когда настало утро, разбойники еще раз вышли на берег, перевернули Данилка вниз лицом, а против сердца вколотили осиновый кол. После этого Данилко уже не преследовал своих товарищей» (Изв. ОРЯС, 1903, с. 313).
Вариант представляет собою органичный сплав мотивов и образов русских былин, мифологических сказаний, казачьих песен. Описание строительства струга перекликается с аналогичными эпизодами из печорских былин о поездке Василия Буслаева, Соловье Будимировиче; взаимоотношения Данилы Борисовича со «слугой верной» (пьет и ест «с одного стола», платье носит «с онного плеча») напоминают дружбу побратимов Алеши Поповича и Екима («Алеша Попович и Тугарин»), Василия Буслаева и его соратников. Рассказ о разорении города Бранского перенесен из былины «Наезд литовцев», наговор Митрея Бранского на стрелу — из сюжета «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (Первая версия «Ильи Муромца и Калина-царя», в которой встречается подобная ситуация, местной традиции не известна.) Оригинально детализированное описание «тощи менной, палицы буёвой» (строки 39—81), выдержанное в эпическом духе. Богатырскую палицу атамана не могут поднять пятеро казаков, а вдесятером они ее «едва пошевеливают» (ср. аналогичный эпизод с сошкой из былины «Вольга и Микула», которая ни разу не записывалась на Печоре). В тексте не говорится об оборотничестве Митрея Бранского (как в «Наезде литовцев»), но зато ему приписываются качества колдуна-чернокнижника, приводится описание «волхвования» и краткий текст заклинания: «Вперед штобы ходу да им ведь не было». (Здесь возможно влияние сюжета «Добрыня и Маринка», но показательно, что колдовское заговаривание «следов» богатыря сохранилось лишь в одной печорской записи — см. № 23.) Архаичным следует признать и мотив боя с мертвецом, который не выносит дневного света (ср. древнеисландскую сагу, написанную в начале XIV в.: Сага о Греттире / Изд. подгот. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. Новосибирск: Наука, 1979, с. 62—63). Наличие редких в местной традиции мотивов и образов позволяет считать, что печорские певцы конца XIX — начала XX в. унаследовали этот сюжет от предшествующих поколений сказителей уже в форме эпической песни.
Разночтения 1904
62
... едва пошевеливают
№ 266
Онч., № 76 «Данило Денисьевич».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., с. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.
Текст короче предыдущего и менее эпичен по характеру. Данилу Денисьевича поражает «громова стрела», которая «выпала» из грозной тучи по молитве ограбленных купцов. (Не исключена связь этого мотива с дохристианскими представлениями.) Колдовскими способностями в этом варианте наделен атаман разбойников: по его слову корабль останавливается «середи реки». Н. Шальков подробнее описывает магические действия, которые должны усмирить мертвеца (его не только положили «внич на землю», как в тексте Д. Дуркина, но и заколотили против сердца осиновый кол).
Отрывки из данной былины (строки 46—58 и 70, 71) с некоторыми разночтениями опубликованы в примечаниях к былине «Данило Борисович», спетой собирателю Д. К. Дуркиным (Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, с. 313—314; № 265).
- 508 -
Строки
1903
1904
48
Набежал-то Данило вор Денисьевич
Набежал-то Данилко вор Денисьевиць
50
Да крычит-то, громит зычным голосом
Да крычит-то, громит да зычным голосом
51
... милыя братцы ...
... милые братцы ...
55
...Данило...
...Данилко...
56
Подъезжали-то робята к круту берегу
Подъежжали-то робята ’ круту берегу
ВАСЬКА ЗАХАРОВ (№ 267)
№ 267
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1. оп. 2, дело 61, л. 120—122, маш; БП, № 7 «Про Ваську про вора про Захарова».
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
Позднее былинное новообразование, обстоятельно прокомментированное в сборнике «Былины Печоры и Зимнего берега»: «Текст представляет собой неизвестный до сих пор сюжет, возникший на основе традиционных на Печоре эпизодов и мотивов разных былин. В центре — образ богатыря-пьяницы, известный по былинам многих районов, Василия Игнатьева, ‹...› богатыря, пропившего коня, вооружение и платье, которого опохмеляет в кабаке сам князь Владимир, и богатырь совершает подвиг — побивает врагов, отказываясь затем от всех наград, кроме чары вина. Но обычные для былин о Василии Игнатьеве запев о турах, картина наступления врага и типичный для печорских редакций мотив столкновения богатыря с „боярами толстобрюхими“ отсутствуют. Главное внимание сосредоточено на изображении победы Василия Захаровича над внешним врагом (строки 53—74). ‹...› Характер возлагаемой на богатыря задачи — съездить в землю неверную — напоминает соответствующий эпизод былины о Василии Казимирове (см. № 17 нашего издания — Сост.).
Имя героя — Василий Захаров — восходит к печорской пародии-сатире (Онч., 29, 38), его похвальба в кабаке — к печорской же былине „Бутман“. ‹...› Связь с пародией сказалась и в образе богатыря, побивающего врага метлой (известный эпизод из сказки о Бове-королевиче, отраженный в картинке на обложке лубочных изданий этой сказки)».
Следует оговориться, что публикуемый вариант не дает оснований для отождествления «Васьки вора, Захарова» с Василием Игнатьевичем. Ни в одной печорской записи Василия Игнатьевича не называют «вором», не присоединяют к его имени отчества «Захарович»; ни в одном тексте нет и тени иронического отношения к богатырю, которое чувствуется в былине А. Носовой.
В тексте не ясен характер задания, полученного Василием Захаровым — герой так и не доехал до столицы «земли неверной», ограничившись истреблением вражеской «заставы великой». Вряд ли этот эпизод можно связывать с былиной о Василии Казимировиче, содержание и идейная направленность которой совсем иные.
КОЗАРИН (№ 268, 269)
Основные районы бытования былины — Поморье, Мезень и Пинега, из других регионов имеются единичные варианты. На Печоре сюжет в советское время не фиксировался; одна из записей сделана Н. Е. Ончуковым в Усть-Цильме, другая — в низовьях реки. По своей композиции они примыкают к мезенским и пинежским вариантам, но в обеих былинах встречаются общеэпические формулы, характерные для местной традиции.
- 509 -
№ 268
Онч., № 39 «Михайло Казаринец».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Чупрова Григория Ивановича, 50 лет.
Сказитель подробно излагает центральный эпизод — плач полонянки и ее освобождение братом, остальные передаст схематично. В былине сохранился лишь глухой намек на неприязненное отношение родителей к Козарину, не объясняется, как его сестра попала в полон, нет и сцены узнавания — просто сообщается, что спасенная девица — сестра богатыря. Привлекает внимание развернутое описание выбора богатырского коня (строки 20—50), в котором использована формула «жеребчик семи цепей да семи розвезей», характерная для пижемского извода былины «Илья Муромец и Сокольник» (см. общий обзор вариантов). В тексте есть еще одна формула, являющаяся специфической особенностью этого извода: «Как не ветру полоска перепархнула, нагонил тут Михайлушко Козаринец». Видимо, Г. Чупров имел какие-то контакты со сказителями с реки Пижмы. Упомянутые в первой строке Лука и Матвей «дети Петровици» часто фигурируют в печорских былинах о татарском нашествии на Киев и в сюжете «Илья Муромец и Сокольник».
№ 269
Онч., № 93 «Михайло Карамышев».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Пылемец (на р. Печоре) Пустозерской вол. (зап. на рыболовной тони на р. Печоре) — от Хабарова Степана Федоровича, 69 лет.
Вариант С. Хабарова значительно полнее предыдущего, в нем, как и в лучших мезенских и пинежских текстах, подробно описано детство героя, добывание богатырского коня, главные события развертываются в шатре, а не в «чистом поле», как у Г. Чупрова. Встреча с вещим вороном, который иногда сообщает богатырю о судьбе его сестры, заменена популярным на Печоре рассматриванием окрестностей в подзорную трубу. Сюжет осложнен мотивом кровосмешения, с ним связано и решение обоих героев удалиться от людей, замаливать «грехи тяжки». (В других северо-восточных записях либо брат, либо сестра отклоняет предложение «грех творить» или венчаться.) Сказитель подчеркивает, что причина драмы — нарушение Михаилом Карамышевым неписаного, но обязательного для всех правила: «Не спрашивал у ей ни роду он, ни племени». Необычно для северо-восточных редакций этого сюжета прозвище героя «Карамышев», образованное от названия его родного города (ср. поморский вариант — Григ., I, 25). Указание на бедность бабушки-задворенки, воспитавшей богатыря (кормит «кусочками сборныма», поит «молочкём козловыим») встречается в некоторых пинежских и мезенских текстах (Григ., I, 84, 89; 3, I0I). Формула «заневид ты потеряешь буйну голову» (строки 67, 68) обычна в печорской редакции «Ильи Муромца и Сокольника». Интересен заговор богатыря на оружие (строки 134, 135), отмеченный на Печоре в двух других вариантах былин о нашествии татар на Киев (№ 105, 204). В тексте использованы мотивы сюжета «Молодец и казна монастырская» (строки 189—192; ср. одну из мезенских записей «Козарина», где в роли главного героя выступает Илья Муромец, — Григ., III, 96).
СОЛОМАН И ВАСИЛИЙ ОКУЛОВИЧ (№ 270—276)
Былина известна лишь в северно-русских записях. Содержание и последовательность основных эпизодов устойчивы, региональные различия проявляются в их оформлении. Печорские тексты близки к мезенским и вместе с ними образуют северо-восточную редакцию сюжета, которая проще прионежской, беднее метафорическими образами (их обилие в этой былине во многом обусловлено обликом главного героя — «премудрого» царя Соломана). В этой редакции все переезды из одного государства в другое совершаются по морю (в прионежской Соломан с войском движется по суше), Соломанида прячет бывшего мужа под перину (в Прионежье — в сундук или ларь) и выдает
- 510 -
его Василию Окуловичу, предварительно выяснив, что тот настроен самым решительным образом. Оригинальная черта мезенско-печорских вариантов — диалог по дороге к месту казни: услышав реплику Соломана («Колесо бежит, друго катится, а третье колесо не оставается»), Василий Окулович не понимает иносказания и удивляется мнимой глупости своего соперника. К этой редакции сюжета примыкают поморские тексты, которые содержат некоторые элементы, характерные для Прионежья, и единственный пинежский вариант. В большинстве печорских записей христианские обычаи подчеркнуто противопоставлены обычаем «неверных», в портретном описании красавицы иногда используются типичные для местной традиции детали (см. общий обзор вариантов былины «Дунай Иванович-сват»).
№ 270
Онч., № 27 «Соло́ман Премудрый и Васька Окулов».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
Типичный образец северо-восточной обработки сюжета. Совет воротиться домой всем, у кого есть «отцы-матери, дети малые», так как «у Соломана смерть будет страховитая», встречается еще в одном печорском варианте былины (№ 274) и кратком ее пересказе (№ 276); иногда этот мотив используется в рассказе о столкновении Ильи Муромца с разбойниками (№ 41, 47). Необычный характер расправы с неверной женой — результат механического употребления постоянной эпической формулы (см. финалы других былин П. Поздеева — № 106, 153).
№ 271
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 35 об. — 42 об. (полев.), тетр. 4, л. 13 об. — 18 об. (перебел.); Аст., I, № 83 «Про Васеньку Викулова».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., с. Усть-Цильма — от Дуркина Дмитрия Карповича, 83 г.
В полевой записи в строке 64 на месте слова «с новостями» знак пропуска; в строке 65 подчеркнуто собирателем последнее слово как нечетко записанное; в строке 109 подчеркнуто собирателем неясное сокращение последнего слова (в перебеленном тексте слово восстановлено: «Окулину»); в строке 126 неразборчиво написано первое слово (эта строка в перебеленном тексте: «Соломона премудрого царя»).
Д. Дуркин в целом сохранил традиционную сюжетную схему, но нередко сбивался при исполнении, пропускал подробности, мотивирующие дальнейшее развитие действия (см. его ремарку после 197 строки); стих в его былине местами тоже разрушен. Любопытна попытка перевести на язык привычных образов иноземные титулы «турзы-мурзы», «пановья», «улановья»: «по русськи сказать — на русьских на богатырей».
Разночтения Аст., I, № 83
22
Полюбовницю мне-ка сопротивницю
109
К Василию царю Окуловичу
157
Говорит Васенька Викулович
№ 272
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 73, 73 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 13, л. 1—10, маш.; Л., 1939, № 9; Л., 1979, № 14 «Василий царь турецкий и Соломон».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 3 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Данную былину перенял от С. А. Безумова.
- 511 -
К строке 61 — «Кладут они сходни концом на берег» Тайбарейский делает замечание: «Кладут трап, а поется — сходни» (см. биографическую заметку, с. 501). Строка 24 в рукописи: «Суряди-ко ко (?) мне-ка нов черлен карабль».
Примеч. соб.: Иван Кириллович Осташов начинает эту былину таким предисловием:
«Был царь. У его был сын, молодой Соломон. Говорит Соломон своему отцю:
— Ой, отец. Дай мне корону одеть. Сама ли мне она будет?
— Куда, — говорит отец, — ты понесешь мою корону? Моя, — грит, — корона больша.
И другой раз говорит Соломон отцю:
— Дай мне корону одеть. Сама ли она мне будет?
— Моя, — говорит, — корона больша, по полу поволокецця.
И третий раз повторяет Соломон:
— Ой, отец, охвота мне твою корону одеть: как она мне припадёт.
Дал царь.
— Одень, — говорит, — спробуй.
Одел Соломон корону и говорит:
— Ну, дал мне корону одеть — и царсьво нынь всё на мне.
И говорит ему отець:
— Хитёр ты мудёр, Соломон-цярь, да належиссе под бабьей жопой. (Вот каку загадку заганул ему. Так и вышло.)
Долго ли, коротко ли жил — женился Соломон-цярь. Стал знать весь мир, что у него новый цярь — Соломон. А жил у них приказчик Торокан Заморенець. Уехал Торокан Заморенець за границю. Поступил к королю неверному в услужениё. И живет он у короля. Говорит король Торокану Замореницю: „Кто бы достал жену Соломона-царя мне, я наградил бы тому, што ему надо“. И т. д. — до конца всей истории похищения жены Соломона».
(Рассказал И. К. Осташов, 8 июня 1938 г. — РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 71, рукоп., л. 60, маш.).
В маш. экземпляре примеч. соб.: «Досказать до конца у сказителя недостало времени». Указан год записи — 1937.
Былина «Василий царь турецкий и Соломон» в репертуаре И. К. Осташова не значится.
Один из двух печорских вариантов, в котором местом действия является Царьград (но живет в нем не Соломан, а его соперник — см. также № 273). В. П. Тайбарейский подробно излагает местную редакцию сюжета; лишь в финале, подобно П. Поздееву, механически включает в текст описание расправы с неверной женой, позаимствованное из «Добрыни и Маринки» или «Ивана Годиновича». Соломан является в царство Василия Окуловича «каликой перехожею» (ср. один из мезенских вариантов — Григ. III, 23). В тексте использован ряд интересных художественных образов — указывается этнографически точная деталь, характеризующая быт восточных кочевников («варят кобылятину, жарят жеребятину»); упоминается, что Соломан «старину поет»; его просьбы разрешить сыграть во турий рог мотивируются желанием проститься «с птицами пернатыми, со зверями со рыскучими», «с матушкой сырой землей», «с белым светом». Вместе с тем сказитель иногда модернизирует былинную лексику (Таракашку Заморянина и Соломана сопровождают «двенадцать казаков преудалыих», Соломанида дважды садится «чай-кофей кушати»).
Разночтения Л., 1939, № 9 и Л., 1979, № 14
6
Про купцей — людей торговыих (1979)
7
Про мещан толстопузых (1979)
12
Он ножку об ножечку похлопывает (1979)
32
отсутствует (1979)
56
Смотрит он в трубочку подзорную (1979)
68, 69
Перестановка строк: 69, 68 (1979)
- 512 -
76
отсутствует (1939)
85
Угощать стал напитками разноличными (1939; 1979)
94
Побежал Таракашка тогда за море (1979)
114
Выводил Таракашка гость Заморянин (1979)
140, 165
отсутствуют (1979)
167
Пометали якори булатные (1979)
172
При последней поры-времени (1979)
176
Во второй раз сыграю во турий рог (1979)
197
А Василья вдруг дома не случилося (1979)
219
Вторую петелку пеньковую (1979)
220
Третью-то петелку уж липову (1979)
222
Во пеньковую положу руки белые (1979)
223
Я во липову положу ноги резвые (1979)
240
На перву ступень ступал — слово вымолвил (1979)
После 246
Уж ты ой еси, Василий турецкой царь (1979)
262
отсутствует (1979)
268—274
отсутствуют (1939)
Вместо 269
271-я (1979)
Вместо 270
С поганым Идолищем целовалася (1979)
Вместо 271
Отсек у ней по колен ноги (1979)
Вместо 272
С поганым Идолищем оплеталася (1979)
273
Обрезал ей губы по́ роту (1979)
274
С поганым Идолищем целовалася (1979)
№ 273
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 5 об., рукоп. «Про Василия царя Турецкого».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 1938 г., с. Великая Виска — от Тороповой Афанасьи Федоровны, 69 лет.
Примеч. соб.: «Былина досказана „россказью“» (РГАЛИ, ед. хр. 33, л. 6 об.). Дата зап. не указана.
С пения записана только часть текста, что отразилось на его качестве. При пересказывании скомкана сцена похищения Соломании; опущен разговор о колесах, иносказательная реплика Соломана приведена в самом конце произведения, когда она уже не нуждается в расшифровке. По композиции вариант А. Тороповой близок к другим печорским записям, причем отдельные мотивы роднят его с былинами разных исполнителей. Особенно много общего с вариантом В. Тайбарейского (№ 272): упоминание Царьграда, рели (виселицы), оригинальная мотивировка просьбы сыграть «в турей рог». Соломания не просто прячет своего первого мужа под перину, как в других северо-восточных записях, а зашивает Соломана в нее (ср. № 274).
Необычно имя советчика турецкого царя — сначала его называют «детинушкой поваренным» (ср. еще один печорский вариант — № 271 и некоторые мезенские — Григ., III, 12, 23 и пинежский тексты — Григ., I, 92), а перед отъездом дают новое имя — «Тороканишка Голь Заморенной». Отчество Соломании «Волотамовна», очевидно, перенесено из духовного стиха «Голубиная книга».
№ 274
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 69—73, маш.; БП, № 16 «Соло́ман и Василий Окулович».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
См. о былине: БП, с. 532.
- 513 -
Текст сильно разрушен. Многие имена собственные не традиционны, перенесены из других былин (князь Владимир, Поташенька хромой, Илья Муромец, Олешенька Попович, Семен Леховитый) и даже из духовных стихов (Рахлинско царство), употребляются они непоследовательно (соперник Соломана называется то Васенькой Поповичем — строка 65, то Васенькой Окуловичем — строка 79 и др.). Формула в строках 53—55 заимствована из былины о Чуриле и Катерине. Традиционная былинная фразеология выдерживается только в постоянных формулах. Обильны прозаизмы. Но, несмотря на эти явные признаки разрушения былины, в тексте сохранены некоторые редкие формулы. Отец предупреждает Соломана: «Насидишься ты под бабьей...» (ср. мезенский вариант — Григ., I, 68); расправившись со своим противником и неверной женой, герой говорит: «Два милых вместе и сводник тут» (ср. № 273, 275 и мезенскую запись — Григ., III, 91).
№ 275
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 32—36, маш. «Соломан и Василий Окулович», бывальщина; БП, № 25 «Про Васеньку Окуловича».
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Дуркиной Марфы Дмитриевны, 70 лет.
По композиции текст близок к варианту Д. Дуркина (№ 271), дополняя его некоторыми традиционными (строки 54—57, 119) и нетрадиционными (строки 67—70) подробностями. Жена Соломана, как и у Д. Дуркина, именуется Маринкой, белой лебедью. М. Дуркина часто переходила со стиха на прозу, использовала ряд сказочных образов («черна кошечка ученая» в строках 7—10, упоминание о «руськом духе» в прозаической вставке после строки 60). Указание на то, что Маринку «по сукнам ведут», а сзади их завертывают, перенесено из былины о Дюке.
№ 276
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 10, № 82, л. 39—41, рукоп. [«Про царя Соло́мана»], пересказ.
Зап. Нефедовым А. М. и Российским В. А.: лето 1978 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Осташова Осипа Алексеевича, 70 лет.
Смутное припоминание библейских сказаний о царе Соломоне и некоторых мотивов русской былины об этом герое. Упоминание «страшной казни царя Соломона», содержание диалога его неверной жены со вторым мужем свидетельствуют о знакомстве О. Осташова с местной редакцией сюжета.
ЛУКА, ЗМЕЯ И НАСТАСЬЯ (№ 277—281)
Сюжет зафиксирован только на Печоре и, по мнению исследователей, является сравнительно поздним былинным новообразованием, в котором тесно переплетаются сказочные и былинные мотивы (Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948. С. 141, 176, 177; БП., с. 548). На фоне классических сюжетов заметны: рыхлость композиции, неотшлифованность деталей, слабые связи между отдельными эпизодами. Это свидетельства относительно недолгого устного бытования произведения. Вместе с тем ему нельзя отказать в оригинальности, которой лишены прямые переложения сказок и преданий в былины («Нерассказанный сон», «Ванька-удовкин сын», «Рахта Рагнозерский», «Бутман» и т. д.). Несмотря на использование сказочно-легендарных мотивов и образов, перед нами качественно новое образование, не лишенное внутренней логики и полемически заостренное против волшебной сказки. Былина делится на две части. В первой рассказывается о конфликте Луки Даниловича со змеей (в 2 вариантах из 5 она превращается в девицу), а во второй — о его взаимоотношениях с Настасьей, дочерью или племянницей турецкого царя. В обоих случаях герой оказывается далеко от родных мест, ему предлагают вступить в брак, он находится в полной зависимости от потенциальной невесты. В этих
- 514 -
внешне сходных ситуациях Лука принимает разные решения: «самопросватанье» девицы-змеи решительно отвергает (а если соглашается, то притворно, чтобы выиграть время), предложение Настасьи встречает благосклонно, хотя она и «неверная». Другая вера — не препятствие для брака между людьми, а вот иная биологическая организация — препятствие неодолимое. (Здесь выражено принципиально иное отношение к браку с животным, в том числе и тотемным, который нередко утверждается волшебной сказкой, — АТ 400, 402, 425 А, С, М и др.) Относительная популярность данной былины, возможно, связана и с тем, что на Печоре браки русских с представителями соседних народов не были явлением исключительным (один из лучших сказителей Нижней Печоры В. П. Тайбарейский, ненец по национальности, женат на русской).
Первая часть былины устойчива по композиции, в ней больше оригинальных формул (см., напр., картины морского прилива во всех записях Ончукова); исполнители наделяют Луку некоторыми качествами богатыря: он вышибает дверь с тремя «замками тяжелыми», не хочет заходить в церковь в разгар службы — «Не честь-хвала молодецкая, не выслуга богатырская»; подобно богатырям, отправляется к морю «за охотою», а главное — во всех 5 вариантах побеждает змею без посторонней помощи или чудесного оружия. Во второй части структура сюжета не столь жесткая, в обеих записях советского времени предпринята попытка продолжить рассказ о приключении героя (выполнение свадебных заданий, поездка на родину и пр.), что переводит повествование в авантюрный план. О поездке на родину за родительским благословением кратко сообщается и в одной из записей Ончукова (№ 277).
№ 277
Изв. ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 3, «Новые былины из записей на Печоре», № 1, Онч., № 66 «Лука Данилович, змея и Настасья Салтановна».
Зап Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в с. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Былину перенял от Кузьмы Кислякова из с. Среднее Бугаево Усть-Цилемской вол.
Конец былины рассказан.
Примеч. соб. к слову «ож» в строке 19: «уж» — ж выговаривается неопределенно, скорее как ш (1903, с. 300).
Вариант А. Вокуева отличается от № 278 добавлением рассказа о поездке героя на родину и некоторых второстепенных подробностей (Лука проспал церковную службу и потому решил погулять у моря; он сразу отвергает предложение змеи о браке и убивает ее в открытом бою; место пастухов занял традиционный былинный вестник — калика перехожая). Во второй части былины действие переносится в Киселиков-град (сходное название см. в № 279), в текст вводятся бытовые детали, современная лексика («дорога трахтовая», «иностранный»).
Разночтения 1904
33
... горы сорочинския
№ 278
Онч., № 50 «Лука Данилович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., с. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Димитрия Карповича, 40—45 лет.
Данная «старина в 170 стихов» упоминается в примечании к опубликованной в 1903 г. былине А. Ф. Вокуева (см. № 277) как вариант. Собиратель кратко передает содержание мест былины, по-иному исполненных
- 515 -
Д. К. Дуркиным, и делает предположение, что об Олеше Полуверенине «может быть на Печоре была особая старина» (Изв. ОРЯС, 1903, с. 307).
Придерживаясь традиционной сюжетной схемы, Д. Дуркин насыщает 1-ю часть былины элементами драматизма (Лука долго борется с морским течением, вынужден притворно согласиться взять змею «во замужество»). Героиня названа Марьюшкой (в других вариантах — Настасьей). В тексте встречаются бытовые подробности (упомянуты «люди дворовые», «куфароцьки»), используются сказочные мотивы (змее предсказана смерть от руки героя; он расспрашивает пастухов о Турецком царстве и получает от них совет, как уберечься от опасности). О рождении сына Луки «Олеши Полуверенина» сообщается еще в одном печорском варианте (№ 279) и в прозаическом дополнении к стихотворному тексту.
№ 279
Онч., № 71 «Лука Данилович, Змея и Настасья Салтановна».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май — июнь 1902 г., с. Среднее Бугаево (на р. Печоре) Усть-Цилемской вол. — от Шишоловой Марии Кузьмовны, 63 г.
Былину «...пела очень хорошо, не сбиваясь» (Онч., с. 279).
Примеч. соб. к строке 5: «Прозвище у Данилы сказительница, конечно, перепутала: всем сказителям известна про Данила Староильевича совсем другая старина» (с. 280).
Отрывки «старины в 121 стих» (строки 1—5, 66—71, 114—116) и краткий пересказ содержания опубликованы в 1903 г. как варианты к былине А. Ф. Вокуева (см. № 277). К рассказанному исполнительницей концу былины — уточнение: «...Лука женился на Настасье и от их брака родился Олеша Полуверенин — Настасья была нехристианка» (Изв. ОРЯС, 1903, с. 306—307).
Прозаическое окончание былины М. Шишоловой совпадает с текстом Д. Дуркина (рассказ о рождении Олеши Полуверенина), но в целом она ближе к № 277 (Лука проспал заутреню; змея оборачивается девушкой, герой убивает ее в бою, а не во время сна; упоминается Киселигов-град). Вместо пастухов или калики перехожей, от которых Лука получает необходимые сведения о «неверном царстве», появляется караульная застава (этот мотив подробнее развит в двух последних записях былины). Отчество «Староильевич», видимо, перенесено из сюжета «Данило Ловчанин», имя «Салтан Лукоперенин» навеяно лубочными изданиями сказок.
Разночтения 1903
71
Подхватили его тут луга зеленыи
№ 280
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 4 об. — 5 об., рукоп., ед. хр. 15, л. 1—7, маш.; Л., 1979, № 15 «Про Луку Степановича».
Зап. Леонтьевым Н. П.: конец 1938 г., выселок Красное Куйского колхоза «Красное знамя» Нижнепечорского р-на — от Карманова Григория Андреевича, 57 лет.
В тексте заметен отход от зафиксированной Ончуковым редакции сюжета (отправляясь в церковь, отец запирает сына в доме; купанье Луки, вероятно, позаимствовано из былины о Добрыне и змее; по наговору «татар толстобрюхиих» герою приходится выполнить трудное задание, смысл которого не вполне ясен — см. также следующий вариант). В былине ничего не говорится ни о предложении змеи «сотворить любовь восердечную», ни о женитьбе Луки на Настасье — ситуация скорее напоминает балладу о молодце и королевне. Г. Карманов использовал мотивы баллады о молодце и горе (строки 56—62). Большинство этих особенностей представлено в следующем тексте, что позволяет говорить об их генетической связи.
- 516 -
Разночтения Л., 1979, № 15
1
Посередь было моря синего
66
Выходит на шеломы на окатисты
7
Во ту же пору, во то же времечко
72
Как во той сторонке да во западной
13
Пошел же Степан во божью церковь
99
На шоломы выходит на окатисты
23
Как пнул он дверь ногой правою
125
На те шоломы на окатисты
30
отсутствует
155
Ко той Настасьи ко Султановны
34
Схоботала его там змея скоропейная
164
отсутствует
55
Девять голов да девять хоботов
168
Он хочет узнать хитрость Ельменску
60
Ко доброму удалу добру молодцу
178
Берет Луку да за праву руку́
63
А пошел же Лука по крутым горам
Угловые скобки в тексте принадлежат собирателю.
№ 281
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 21, л. 105—112, маш.; БП, № 72 «Про Луку Степановича». ФА VI МФ, 337. 1.
Зап. Колпаковой Н. П.: 10 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.
Нижнепечорский вариант, несколько отличный в развитии сюжета от среднепечорского (см. БП, с. 548). В изображении бояр и конфликта их с героем вариант следует характерной антибоярской тенденции печорских былин (см. об этом: Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948. С. 356, 357).
В сюжетном плане вариант А. Пономарева примыкает к предыдущему тексту — в первой его части снят мотив брака, используются художественные образы, заимствованные из баллад о горе (строки 39—42), молодце и королевне (строки 96—101); новыми подробностями дополнен рассказ о жизни героя в турецком царстве. Однако наращение сюжета не продиктовано логикой развития событий, преобладает ассоциативная связь между отдельными эпизодами, к тому же содержание их порой туманно. (Как и в предыдущем варианте, не ясен смысл первого задания, полученного героем от тестя; а убийство Ильей Муромцем одного из сыновей Луки во время игры в мяч — явный домысел сказителя.) В отношении стиля эта былина далека от лучших текстов А. Пономарева; видимо, она не входила в активную часть его репертуара.
В строке 1 слово «возлюбленна» неразборчиво в рукописи и магнитофонной записи (Примеч. соб., л. 112).
Стихи 15—19 на м/ф отсутствуют.
В стихах 48—49 исполнитель сбился. Должно быть: «Там он видит: стоит силушка великая».
Разночтения БП, № 72
12
Лютоедная змея да всё сорокопе́яя
40
Да ко доброму всё да да к добру молодцу
21
Тут распахнула хобота́ свои, большие хо́бота
41
Да который он бы может да горе мыкает
24
Да в одной бы стороны да море синее
47
Во третьёй стороны море синее
29
Вот полено бы оно да бы теперь бревно
57
Во третьёй стороны море синее
31
Воздымат бы то бровешко да выше головы
64
Он держит еще бы тут путь, вперед идет
36
Не долго́ ли он шел, не коротко ли
140
Я смотрел все эти хитрости-мудрости