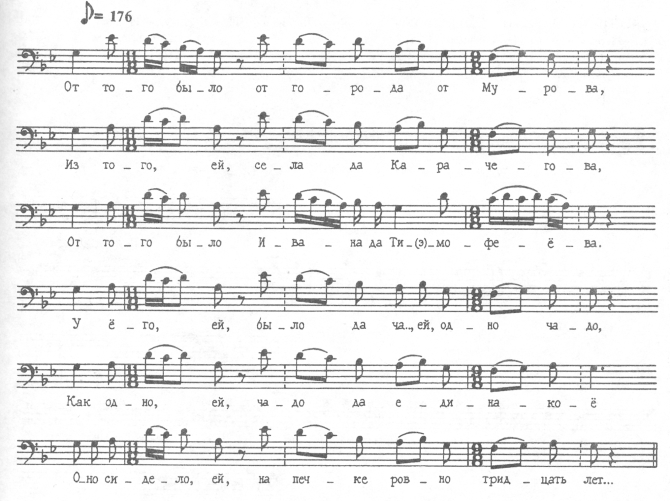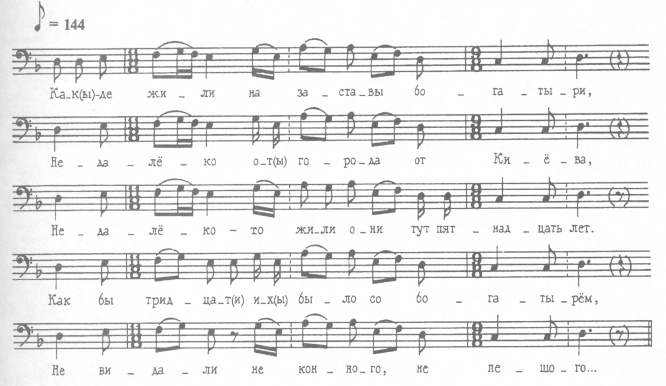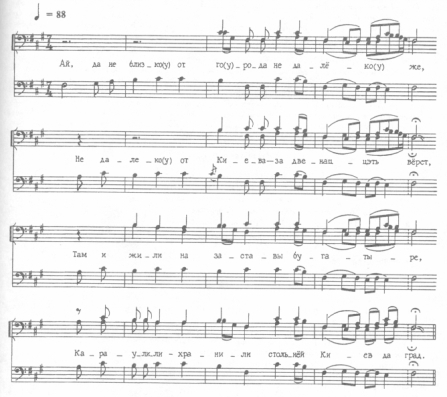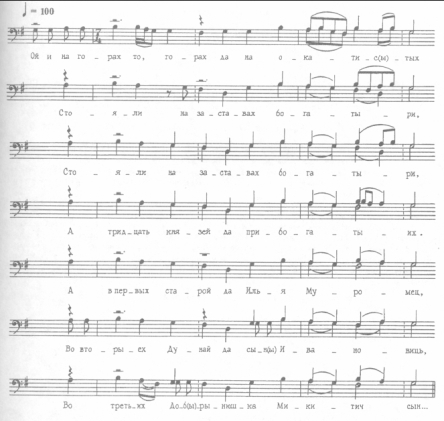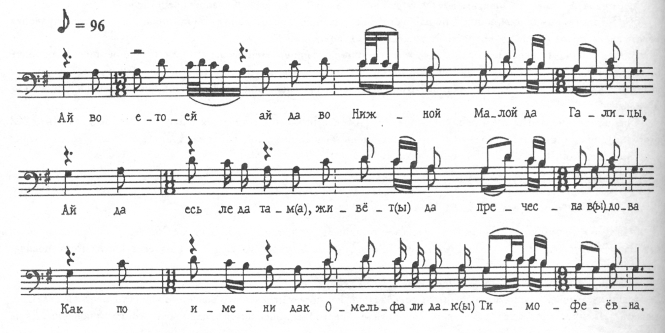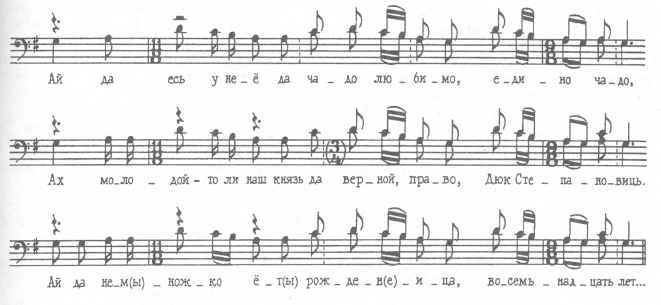- 661 -
КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ БЫЛИН
В комментариях всем группам былин предпосланы преамбулы, содержащие сведения об ареале распространения данного сюжета, специфике вариантов, версий и редакций, местных особенностях сюжета.
Кроме сообщений о первоисточниках публикуемых текстов и основных паспортных данных, учтены замечания сказителей и собирателей, а также дана характеристика каждого текста.
Названия сюжетных групп (гнезд) былин принадлежат научной традиции. Названия отдельных текстов былин даны исполнителями и соответствуют первоисточникам. Квадратными скобками обозначены названия, данные собирателями как основные или уточняющие.
В разделе «Разночтения» указаны номера строк публикуемого текста и даны разночтения, встречающиеся в сказанном варианте или в опубликованных ранее текстах данной былины. Здесь учитываются случаи пропуска, замены или перестановки слов и строк былины, приводящие к нарушению композиции или смысловым изменениям; случаи замены или пропусков союзов, предлогов, частиц и междометий; случаи изменения формы и времени глаголов, падежных окончаний существительных, суффиксов прилагательных, которые вносят новые смысловые или эмоциональные оттенки. К разночтениям относятся и случаи постановки ударений в словах, и «ё», не встречающиеся в основном тексте. Фонетические замены типа «палицу-палицю», «русский-руський» и др. не указываются, так как специально рассматриваются в текстологической справке (кроме случаев, когда они встречаются в строке или отрывке былины, показанных как пример разночтений).
Ссылки на номера былин даются по настоящему изданию. Кроме условных сокращений, предназначенных для всех разделов тома, в Комментариях используются следующие сокращения:
авг. — август
коммент. — комментарий
рожд. — рождение(ния)
апр. — апрель
кор. — коробка
рукоп. — рукопись
вм. — вместо
л. — лист
с. — страница
вол. — волость
лир. — лирическая(ие)
сел. — село, селение
ВСГ — Всесоюзная студия
маш. — машинопись
след. — следующий(ая, ие)
грамзаписей «Мелодия»
м/ф — магнитофонная
см. — смотри
выс. — выселок
запись
соб. — собиратель
г. — год (года)
наст. изд. — настоящее
сост. — составитель
г. р. — год рождения
издание
ср. — сравни
д. — деревня
нап. — напев
с/с — сельский совет
дек. — декабрь
напр. — например
ст. — сторона
ДЛ — фонд дисков
об. — оборот
т. — том
лаборатории ИРЛИ
окт. — октябрь
т. п. — тому подобное
п. — папка
оп. — опись
у. — уезд
дор. — дорожка
тетр. — тетрадь
ф. — фонд
др. — другие
перебел. — перебеленная
ф. эксп. — фольклорная
ед. хр. — единица хранения
полев. — полевая
экспедиция
зап. — записано, запись
пос. — поселок
цит. — цитируется, цитата
ист. — историческая(ие)
прилож. — приложение
ЭУ — указатель этнич. и
Колл. — коллекция
примеч. — примечание
географ. названий
кас. — кассета
Р. — разряд
I ФВ — фонд фоноваликов
кн. — книга
р. — река
ИРЛИ
ком. — комиссия
р-н — район
VI МФ — фонд магнитофонных пленок ИРЛИ
- 662 -
ВОЛХ ВСЕСЛАВЬЕВИЧ (№ 1)
Былина о Волхе, который обладает чудесным даром оборотничества, принадлежит к древнейшему пласту русского эпоса. Общее количество записей невелико, но их широкая география (Западное и Восточное Прионежье, побережье Белого моря, Печора, Урал, Западная Сибирь) свидетельствуют о былой популярности сюжета. Подавляющее большинство текстов записано до революции.
№ 1
Онч., № 84 «Вольга Всеславьевич».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
Единственный печорский вариант редкой былины о Волхе записан от сказителя, в текстах которого сохранилось немало архаичных мотивов и подробностей (см. коммент. к № 115, 244). Текст представляет собою начало былины. Очевидно, П. Г. Марков забыл или не знал продолжения былины.
Рассказ о том, как мать Вольги ходит «по всим церквям» и вымаливает сыну идеальные качества, не встречается в других вариантах былины; не исключено, что он создан местными сказителями. (Сходная по содержанию формула из былины «Добрыня и Алеша» — ответ матери Добрыни на жалобу сына — в печорских вариантах не зафиксирована). В этом описании упомянуты главные герои многих популярных на Печоре сюжетов: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Дюк, Чурила, Козарин; имя библейского персонажа Самсона в местной традиции упоминается в былине «Илья Муромец и Сокольник»; приписываемые им качества соответствуют представлениям печорских сказителей об этих богатырях («смётка Олёши Поповича», «вешво Добрынюшки Микитиця» и т. д.). Загадочным остается лишь имя «Кузенка Сибирчаженина», обладателя чем-то примечательной шапки. В репертуаре П. Маркова нет былин об Илье Муромце, Дюке, Чуриле, Козарине, Святогоре, Самсоне, поэтому приписывать ему создание этой формулы нет оснований.
СВЯТОГОР И ИЛЬЯ МУРОМЕЦ (№ 2—8)
Ареал бытования былины ограничивается европейским Севером России (Азб., с. 278, 279). В последние полвека сделано много записей (особенно в Прионежье, на Печоре и Мезени), преимущественно прозаических, что в значительной мере объясняется влиянием книги — этот сюжет обычно включался во все сводные былины об Илье Муромце, печатавшиеся в дешевых массовых изданиях и хрестоматиях. В новых записях ощущается тенденция к унификации сюжета, стиранию специфики региональных редакций. В отличие от ряда прионежских вариантов, в северо-восточной редакции — Печора, Мезень, Кулой, Пинега — (некоторые особенности северо-восточной редакции сюжета отмечены также в ряде кенозерских записей) Святогор не питает враждебных чувств к Илье Муромцу, не пытается его умертвить, хотя иногда сохраняется намек на иную этническую принадлежность богатыря-великана (формула «русские комарики покусывают», неуместная в устах русского богатыря). В былине не говорится о том, что Илья не может поднять палицу или меч Святогора; он получает часть силы «старшего» богатыря уже после его смерти через выступившую на гробе пену (в прионежских текстах — через дыхание). Обычно Илья нарушает запрет Святогора (не трогать желтую и красную пену) и получает чрезмерную силу. «Эпический мотив перегрузки богатыря силой, излишек которой он избывает вырыванием лесов, встречается только в мезенско-печорских вариантах» (Аст., I, с. 605). В большинстве северо-восточных записей приводится диалог Святогора со строителями гроба (в Прионежье этот эпизод изредка встречается лишь в поздних записях). На Печоре не зафиксирован мотив неверной жены Святогора, популярный
- 663 -
в западных регионах, но зато в былину часто вводится рассказ о поездке Ильи к отцу Святогора, редкий в прионежских текстах. Второй эпический сюжет о Святогоре («Святогор и тяга земная») в печорских записях практически отсутствует. Единственный фрагмент скорее восходит не к устной традиции, а к книге (см. коммент. к № 7). Как и в других районах, подавляющее большинство вариантов «Святогора и Ильи Муромца» — прозаические пересказы; немногочисленные стихотворные тексты также пестрят прозаизмами.
№ 2
Онч., № 61 «Святогор».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Типичный для печорской традиции пересказ былины, еще не превратившийся в побывальщину или сказку и сохраняющий некоторые особенности былинной фразеологии («стало его помётывать, побрасывать», «темны леса»). Строители «тёшут (гроб) в гумажной лист» — в северо-восточной редакции роковая «домовина» не производит устрашающего впечатления, напротив, Святогор нередко хвастается, что легко «разопрёт» ее.
№ 3
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 65, 65 об., рукоп., л. 40—42, 43—45 маш. (копии) «Про Святогора»; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1—8, маш.; Л., 1939, № 5; Л., 1979, № 3 «Святогор и Илья Муромец».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
В тексте есть мотив, не известный по другим печорским записям: узнав о смерти Святогора, его отец бросает в Илью Муромца «нащоку железную» (ср. близкий по содержанию эпизод в одной из пудожских былин — СЧ, 44). Оригинальны и выразительны некоторые реплики Святогора: «Ветра нет, а шишки падают» (реакция на удар богатырской палицей), «Едешь ты по чужой дороженьке!» Вместе с тем в былине немало откровенных прозаизмов.
Разночтения Л., 1939, № 5 и Л., 1979, № 3
3
Выехал на ископыть лошадиную (1979)
4
И поехал он по этой ископыти (1979)
6
Вынул палицу буёвую (1979)
10
Другой раз ударил его старой (1979)
11
Своей же палицей буёвой (1979)
Вм. 15
Взял Святогор его вместе с конем,
Вместе с конем в карман положил (1979)
17
Проговорил его да добрый конь (1939)
Проговорил у его да доброй конь (1979)
18
Ласков хозяин, ты и сам сидишь (1979)
50—52
отсутствуют (1979)
56, 63
Говорит старой да таково слово (1979)
59, 66
Налетел на ей обруч железноей (1979)
76
Возьми ее с конец ложечки (1979)
77
Пойдешь по нашей пути-дороженьке (1939)
Пойдешь по нашей путь-дороженьки (1979)
80
отсутствует (1939)
Увидишь, — говорит, — наш дом великие (1979)
- 664 -
88
отсутствует (1939; 1979)
89
И зайди в избу у моему отцу (1939; 1979)
92
И скажи, как с тобой мы сошлись-съехались (1939)
И расскажи, как мы с тобой сошлись-съехались (1979)
93
И у нас какое было побоище (1939)
И какое у нас подеище (1979)
97
Хлебнул старой ту силу белую (1939)
110
И проехал он дом этот большущие (1939)
И проехал он этот дом большущие (1979)
113
Выскочил Святогор из горницы (1939; 1979)
115
Свистнул он удала добра молодца (1939)
И свистнул он в удала добра молодца (1979)
124—190
отсутствуют (1939)
128—190
отсутствуют (1979)
В рукописи на месте строк 61—65 — две строки точек; после строки 127 примеч. соб.: «Следует рассказ о встрече со странниками и о смерти Святогора до слов „И у нас како было подеишшо“». В данном тексте строки 61—65 и 128—190, отсутствующие в рукописи, даны по машинописи (РГАЛИ) и Л., 1979, № 3.
№ 4
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 62 об., рукоп., л. 34 маш., л. 35 маш. (копия); РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 43, рукоп., л. 3, 4 «Святогор и Илья Муромец».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июля 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Былину перенял от Безумова С. А.
№ 5
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 54, рукоп., л. 42 маш., л. 45 маш. (копия) «Про смерть Святогорову» (прозаический пересказ).
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
№ 6
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 75, рукоп., л. 5—7 маш., л. 46, 47 маш. (копия); Л., 1979, № 4 «Про смерть Святогорову».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 16 авг. 1940 г., д. Гарево Усть-Цилемского р-на — от Хозяинова Сидора Антоновича, 80 лет.
В Л., 1979, № 4 имя исполнителя — Семен.
В строке 47 нарушена логика: исполнитель повторил формулу 43 и 45 строк. Ср. другие былины на этот сюжет.
Единственное отступление от местной редакции сюжета — перестановка знакомства Ильи с отцом Святогора ближе к началу былины и механическое прикрепление этого эпизода к самому Святогору (он назван «стариком» и хочет «пощупать ручки» Ильи, словно слепой).
- 665 -
Разночтения Л., 1979, № 4
6
Положил Илью Муромца в свой карман
23
Дал ему Илья свою палицу
26
На другой день они опять поехали
29
Божия помощь вам, добры молодцы
55
Макни ее полукалачиком
№ 7
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 10, л. 48—50, маш.; БП, № 79, нап. XXII «Святогор». ФА VI МФ, 332.3.
Зап. Колпаковой Н. П.: 6 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Связь текста с устной традицией Печоры маловероятна. Т. Кузьмин объединил с сюжетом «Святогор и Илья Муромец» фрагмент из другой былины о Святогоре — рассказ о его попытках поднять сумку с «тягой от сырой земли» (этот сюжет на Печоре ни разу не фиксировался, глухие его отголоски обнаруживаются в одной из записей об исцелении Ильи — см. № 47). В основной части текста некоторые детали перекликаются с прионежскими вариантами и далеки от северо-восточной редакции сюжета (внешний вид Святогора — «глова-то его в облак-тучу подпирается» — ср. Рыбн., 51; спутники выезжают на гору Сорочинскую и видят там готовый гроб, «как немалый же»; Илья пытается освободить Святогора, пуская в ход его меч, а не свое оружие). Исполнитель — большой любитель чтения, многие его былины полностью или частично заимствованы из книг.
В строке 1 ошибочно «сине» вместо «чисто».
Разночтения БП, № 79
1
Выезжал ведь Святогор на чисто полюшко
После 19
ремарка отсутствует
№ 8
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3. № 16, л. 69—72, маш.; БП, № 71, нап. XXI «Святогор». ФА VI МФ, 335.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г..
Прозаический склад речи, обилие частиц, вставных слов («нынь», «тут», «ли», «ведь») резко выделяют данный текст от других текстов А. Пономарева, отличающихся чеканностью стиха. По содержанию вариант близок остальным печорским записям; некоторые традиционные эпизоды в нем опущены (нападение Ильи Муромца на Святогора, передача силы и др.).
Разночтения БП, № 71
К 6 ремарка
(Вот я тут не знаю, он его в карман из-за какого вроде вот [дела] взял-то в карман-то запихал).
13
Нонь ты сидишь вишь сам на коне
16
Он тяжелым мне ли кажишься
17
Ну, он схватился да Святогор теперь
30
Еще кто это ложиться будет тут
Квадратные скобки в тексте принадлежат собирателю.
- 666 -
ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ (№ 9—15)
Одна из древнейших былин. Известная во всех районах бытования русского эпоса. Печорские варианты вместе с другими северо-восточными (кроме золотицких) образуют особую версию сюжета, заметно отличающуюся от прионежской и поморской. «В ней стерта первичная основа сюжета — подвиг. Освобождение девицы если и происходит, то в качестве выкупа со стороны побежденной змеи <...>. Некоторые варианты вносят дальнейшие видоизменения, используя сказочно-легендарные мотивы» (Аст., I, с. 571). Специфическая особенность северо-восточной редакции — отсутствие первого боя богатыря со змеем. (В прионежских и поморских текстах преобладает двухчастная композиция, зарегистрирована она и в Западной Сибири.) Возможно, что это — результат переработки сюжета, рассказывавшего о двух подвигах героя. Исследователи склонны полагать, что мирную развязку некоторых вариантов (в том числе одного печорского—10) и часто фигурирующие в них «переговоры» Добрыни со змеем можно рассматривать как следы древнейшей основы этой былины (Д и А, с. 378). Два печорских текста записаны в понизовье (№ 15 и 29).
В составе контаминированного текста см. № 29.
№ 9
Онч., № 63 «Никита Романович, рождение и детство Добрыни».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Сюжетная принадлежность отрывка устанавливается по аналогии с последующими текстами: на Печоре о смерти Никиты Романовича, о рождении и молодости его сына рассказывается обычно в вариантах былины «Добрыня и змей» (№ 10—12) в соседних районах — в былине о бое Добрыни с Ильей Муромцем. Текстуально вариант А. Вокуева особенно близок к началу «Добрыни и Маринки» П. Поздеева (№ 23). Возможно, прежде на Печоре была известна редакция этого сюжета, начинавшаяся рассказом о рождении и молодости героя.
№ 10
Онч., № 59 «Добрыня и змея»; Д и А, № 8.
Зап. Ончуковым Н. Е.: май — июнь 1902 г., д. Рощинский ручей (на р. Печоре) Усть-Цилемской вол. — от Торопова Игнатия Васильевича, 69 лет.
«Печорский вариант представляет дальнейший отход от старейших редакций: освобожденная девушка становится женой Добрыни Никитича — развитие сюжета в плане сказки о спасении красавицы, похищенной чудовищем. Былина использует и другие сказочно-легендарные мотивы: змея обещанные награды-выкуп — казну, коня, девицу — выблевывает. Вместо плети, которую во всех других вариантах дает мать, Добрыня берет по совету матери, три прутка; ими он бьет змею — мотив известного заговора против лихорадок-трясавиц, которых укрощают таким же образом. О непосредственном влиянии этого древнего образа говорит и то, что Добрыня при расправе хватает змею «за косы» (Аст., I, с. 572).
Как и большинство других северо-восточных и сибирских вариантов, былина начинается упоминанием отца Добрыни Микитушки Романовича и описанием молодости героя. Формула «Не поспел тут Добрыня-та ёгня добыть, не поспел тут Добрыня-та котла сварить», видимо, перенесена из других былинных сюжетов (на Печоре нередка в «Илье Муромце и Сокольнике» и некоторых былинах о татарском нашествии — см. № 49, 67, 69, 70, 206 и др.). В тексте И. Торопова побежденная змея предлагает Добрыне в качестве выкупа «собя, да красну девицу». Это — не случайная оговорка сказителя; эпическая традиция Печоры знает образ змеи, превращающейся в девушку (№ 277, 279 — «Лука, змея и Настасья»).
Разночтения Онч., № 59
1
...Резань да свободой слыла
- 667 -
№ 11
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 47 об. — 49 (полев.), тетр. 3, л. 30, 31 об. (перебел.); Аст., I, № 60 «Микита, сын Романович». Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.
Записано с голоса.
Примеч. соб. к строке 38: «Эпизод купанья исполнитель пропустил сознательно, сказав, что он в точности повторяет предыдущий отрывок» (с. 378).
Начало былины традиционно для северо-восточной версии сюжета. Как и в предыдущем варианте, змею не берет обычное оружие, ее можно победить только с помощью чудесной «плеточки троехвосточки» (подробнее этот мотив развит в № 15). Однако Добрыня расправляется с врагом другим способом: «нагрёб колпак земли, бросил и убил». В этой непоследовательности можно усмотреть отзвук древнейшей двухчастной композиции, хорошо сохранившейся в Прионежье (в первом бою герой пускает в ход «колпак земли греческой», а во втором — чудесную плеть, полученную от матери).
№ 12
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 408, л. 521—527, маш.; БП, № 45 «Про Добрыню». ФА VI МФ, 213.2; БРМЭ, № 64, нап. с. 320, 321.
Зап. Колпаковой Н. П.: 25 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.
«Примечание исполнителя в конце и введение в текст известной сказочной формулы (строка 189) показывает восприятие им содержания былины как сказочного» (БП, с. 540).
«С обоими ранее записанными на Печоре (в Усть-Цилемском районе) вариантами данный текст объединяют тождественное по содержанию начало и отсутствие второго боя со змеей, а с вариантом сборника Ончукова еще конечный эпизод — женитьба Добрыни на освобожденной им от змеи красавице. Вместе с тем текст своеобразен: в описании молодости Добрыни заметны припоминания из сюжета „Добрыня и Маринка“ в некоторых обработках северо-восточной группы былин (озорство на улице и жалоба на Добрыню — см., например, Григ., III, 55; обучение грамоте—23), однако связи с последующим повествованием и с образом самого героя в данной былине эти включенные в эпизоды не имеют. К помощи отцовской плетки, данной ему матерью, Добрыня обращается только после напряженного боя с копьем, палицей, саблей <...>. В конечном эпизоде ощущается смутное припоминание из былин прионежского типа о похищении змеем племяницы князя Владимира Забавы, <...> но Киев и князь Владимир, как и в других печорских вариантах, не упоминается <...>. Текст несет некоторые следы забывания первоначальной основы сюжета, но разработан полнее и стройнее, чем другие печорские варианты, и в отдельных эпизодах выразителен» (БП, с. 540).
№ 13
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 424, л. 566, маш.; БП, № 45а «Про Добрыню». ФА VI МФ, 213.4.
Зап. Колпаковой Н. П.: 26 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.
Примеч. соб.: «Текст, исполненный Т. С. Дуркиным „для разбега“, является началом предыдущей былины (см. № 12). Напев тот же».
№ 14
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 409, л. 528, маш.; БП, № 38, напев V. «Старина про Добрыню Никитича». ФА VI МФ, 210.4.
Зап. Колпаковой Н. П.: 18 июля 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.
- 668 -
Примеч. соб. к тексту былины: «Дальше было забыто. Добрыня едет на заставу, защищает родную землю и „получает звание“ богатыря. Но спеть про все это исполнитель не смог».
«Судя по записанному отрывку, это начало былины о Добрыне и Змее. Указание исполнителя на содержание забытой былины свидетельствует, что былина начисто забыта даже в основной своей схеме» (БП, с. 538).
№ 15
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 19, л. 93—98, маш.; БП, № 68, нап. XX «Добрыня и Змей». ФА VI МФ. 335.1; Д и А, № 10, нап. с. 366; БРМЭ, № 54, нап. с. 276, 277.
Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.
Публикуемый текст, записанный на Нижней Печоре, совершенно отличен от редакций Усть-Цилемского р-на (БП, с. 546).
«Как и в других печорских и архангельских текстах, богатырь одерживает окончательную победу над змеем уже в первом бою (второй бой отсутствует). Подобно некоторым другим текстам с Пинеги и Печоры <...> данная былина описывает мольбу змеи сохранить ей жизнь и попытку откупиться подарками. Но в отличие от текста Ончукова (№ 10) богатырь не слушает обещаний змеи и сразу убивает ее. Индивидуальная черта текста — подробный наказ умирающего Микиты, в котором излагается вся последующая борьба Добрыни со змеей. Другая особенность текста — рассказ о плеточке из полынь-травы, растения, не встречающегося на севере, а на юге являющегося, по повериям, одной из самых действенных средств от змей. Перенесение действия на Оку-реку — черта несомненно поздняя». (Д и А, с. 378). Из ремарки исполнителя после 55 строки, явствует, что обычным оружием змею убить невозможно.
Разночтения БП. № 68
29
В ширину бы́ла вот коса́ сажень
31
Чтой нападут жары-ма́ревы
35
Всё пусть не ездит нынь к Оки-реки
44
И целико́м когда съись, в хобота складёт
45
Где-то он пущай сорвет полынь-траву
К 50 ремарка:
Так или этак змея вишь ты людоедная хочет его сгро́мать: «Целико́м, - говорит, - я тебя хочу сгромать, али в хобота склоню»
54
Он очутился на крутых горах
55
Ко своёму коню к доброму
После 55
И так наказыват: что он будет [плетку плести]... А эта прилетит змея-то опять сзади, так эту плетку-то... смажет пущай ей, дак... он побьет ей, а так не убить будёт
66
Захотелось ему ныне вить
106
Он наказывал, говаривал
ДОБРЫНЯ И ВАСИЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ (№ 16—20)
Сюжет зафиксирован в разных районах бытования русского эпоса (в их числе — Беломорье, Мезень, Вага, Средняя Волга, Западная Сибирь), однако общее количество записей сравнительно невелико (27), и большая их часть приходиться на Прионежье (см. Азб., с. 76—77). Ныне выделяются три версии сюжета, притом основная распадается на три редакции. «Крупные отличия имеет печорская версия, испытавшая существенное воздействие других былин. Богатыри везут здесь дань-пошлину на кораблях, состязания мотивируются тем, что иноземный король отказывается ее принять, требуя от богатырей службы; богатыри обычно убивают его, забирают богатства и возвращаются на Русь. Главным героем оказывается в одном случае Василий Буслаев, в другом Дунай; Добрыня присутствует только в двух записях, причем роль его здесь гораздо менее значительна» (Азб., с. 78—79).
- 669 -
Можно отметить еще одну специфическую особенность печорской версии: равномерное «распределение обязанностей» между посланцами князя Владимира. В основной версии сюжета посольство номинально возглавляет Василий Казимирович, однако успех всех предприятия определяется Добрыней, который последовательно выигрывает все состязание.
В текстах печорских сказителей русские богатыри поочередно выдвигаются на первый план, демонстрируя свое искусство каждый в своей области: Потанюшка Хроменький побеждает татарских борцов (2 варианта), Никита Широкий (2) или Алеша Попович (1) выигрывает состязания в стрельбе из лука, Добрыня укрощает необъезженного жеребца (1), а глава киевского посольства во всех 4 текстах обыгрывает в шахматы иноземного царя или его дочь. Для печорских текстов характерно также включение некоторых сказочных мотивов (см. № 16, 18, 19); бытовые подробности нередко используются для иронически-сниженного изображения врагов (богатыри заявляют, что такими луками, как у татар, в Киеве «бабы шерсти бьют», а на таких конях «ездят только старухи по миру» и т. п.).
Нижне-печорские варианты (№ 18, 19) отличаются от средне-печорских некоторыми второстепенными деталями. В них меняется порядок состязаний, по-иному описывается и мотивируется выбор спутников Дунаем или Василием Казимировичем; в ставку иноземного царя отправляется главный герой, оставляя товарищей «на крутом бережку». (Здесь уместным оказался сказочный по происхождению мотив — нож или копье, которые ржавеют, сигнализируя о бедственном положении хозяина.) В финале обоих текстов богатыри увозят в Киев «злато-серебро» и «товары разные», захваченные у побежденных. В устьцилемских вариантах развязка иная: в одном русские послы принуждают «царишша Бутуишша» принять дань, а в другом привозят назад в Киев «Посылку всю князеневскую». Эти разночтения не столь существенны, чтобы выделять внутри печорской версии сюжета разные редакции.
№ 16
Онч., № 11 «Василий Буслаев».
Зап. Ончукрвым Н. Е.: апр. 1902 г., Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
Примеч. соб. к названию былины: «Представляя из себя по действию, в главном, Василия Казимирова, былина эта имеет в начале, а также и весь конец — Василия Буслаева; последним же именем все время величал А. Осташов и героя былины» (Онч., с. 52).
В тексте соединены 2 сюжета — «Добрыня и Василий Казимирович» (с заменой имен основных персонажей) и «Поездка Василия Буслаева». В первом сюжете события развиваются по обычной для печорской версии схеме, но место Василия Казимировича и его спутников заняли Василий Буслаев и его традиционные соратники Потанюшка Хроменький и Микитушка Широкий. Необычный финал (посланцы князя Владимира удовлетворяются тем, что «царишшо Батуишшо» принимает дань), вероятно, обусловлен контаминацией сюжетов: Василию Буслаеву еще предстоит дальняя дорога, традиционная развязка здесь не совсем уместна. А. Осташов ввел в былину сказочный мотив — назначая богатырям первое испытание, царь предупреждает, что у него есть «в поле триццеть три колышка, как на всех-то на колышках по головушке, а на трех-то ле колышках нет головушек — я повешу ваши буйные головушки» (строки 81—84).
№ 17
Онч., № 65 «Василий Казимирович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (записано в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Выпущенные собирателем места былины даны в подстрочнике с изменением форм глаголов.
Вариант принадлежит к тому же изводу, что и предыдущий, — совпадают и общая сюжетная схема, и порядок следования отдельных эпизодов, их оформление. Киевское посольство возглавляет традиционный герой этой былины Василий Касимирович, но спутники у него те же, что и в тексте Осташова. А. Вокуев
- 670 -
подробнее развивает некоторые эпизоды (состав дани, выбор борцов Абатуем Абатуевичем, описание стрельбы из лука, расправы с вражеским войском). Резко отрицательная характеристика «воров бояр-подмолвщиков, злых толстобрюхих подговорщиков» — обычная черта печорской былинной традиции.
№ 18
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 64, 64 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 14, л. 1—10, маш.; Л., 1939, № 8; Л., 1979, № 13 «Дунай Иванович и Батуй Кайманович».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 4 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Былину перенял от односельчанина Пономарева Ф. М.
В нижнепечорских текстах, в отличие от устьцилемских, состязания начинаются с игры в шахматы; потерпев поражение, Батуй Кайманович заключает киевского посла в темницу, откуда он освобождается сам или с помощью названных братьев. В. Тайбарейский не описывает состязания в борьбе, но зато вводит в былину новое испытание — укрощение «коня неученого» (судя по способу укрощения, этот мотив позаимствован из волшебных сказок). Отвод Ильи Муромца, который просит включить его в состав посольства, ничем не мотивирован и в других вариантах не встречается.
Разночтения Л., 1939, № 8 и Л., 1979, № 13
11
Возьмите, — говорит, — меня в товарищи (1979)
57
Станет копейцо тогда ржавети (1939)
65, 66
перестановка строк: 66, 65 (1979)
91
Призвал Батуюшко двенадцать татаринов (1939)
96
отсутствует (1939)
113
Уж как пнул Добрынюшка Микитьевич (1939)
118
отсутствует (1979)
125
Есть у меня жеребец неученый (1979)
К 135
ремарка отсутствует (1939)
После 135
Долго ли ездил, коротко ли (1939; 1979)
К 194
ремарка отсутствует (1939)
207
отсутствует (1939; 1979)
239
отсутствует (1979)
242
И встречает их старой да Илья Муромец (1979)
251
Завелось тут столованье-пированье, почестен пир (1939)
257, 258
отсутствуют (1939; 1979)
265
Заездил жеребца до пропасти (1979)
№ 19
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 18, л. 81—92, маш.; БП, № 69 «Василий Касимирович». ФА VI МФ, 334.1.; Д и А, № 16; БРМЭ, № 54а, нап. с. 280.
Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.
В машинописи строки 20, 21, 133, 134 заключены в скобки.
В композиционном плане текст повторяет предыдущий, но из трех состязаний сохранилось только одно — игра в шахматы. Вместе с тем сказитель вводит в былину нетрадиционные мотивы и подробности, часть из них,
- 671 -
не неся никакой идейной нагрузки, загромождает сюжет (Василий Касимирович оставляет на кораблях «дружинушку хорошую», велит ей отплыть в открытое море, а в конце уговаривает приблизиться к берегу).
Разночтения БП, № 69
46
отсутствует
№ 20
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 26, л. 136, маш.; БП, № 89 «Про Добрыню». ФА VI МФ, 332.4. Зап. Колпаковой Н. П.: 27 июля 1956 г., д. Андег Нарьян-Марского р-на — от Суслова Аристарха Ивановича, 65 лет.
Текст представляет собой «начало неизвестной былины о Добрыне. Так обычно начинается былина об Иване Годиновиче. Возможно, что исполнитель смешал героев» (БП, с. 553).
Разночтения БП, № 89
11
Как ведь выходит Владимир-князь по комнаты
12
Он ножка о ножку-те похлопыват
13
Как каблук о каблук да поколачиват
19
Он не пьет-то чару́ топерь заздравную
ИДОЛИЩЕ СВАТАЕТ ПЛЕМЯННИЦУ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА (№ 21, 22)
На Печоре записано два варианта «этой редкой и поздней былины, возникшей как сплав сказочных и эпических мотивов» (БП, с. 551). Сюжет зафиксирован также на Мезени, Зимнем берегу (по 2 варианта), на Карельском берегу (1) и на Пинеге. Все тексты очень близки по композиции, региональные различия отмечаются лишь в экспозиционной части, в деталях финала и в употреблении имен собственных. Большинство вариаций вызвано заимствованием мотивов из других былин. Показателем недолгого устного бытования сюжета можно считать разнородность заимствований, почти полное отсутствие оригинальных поэтических формул, свойственных только данной былине, несогласованность отдельных деталей. В печорских вариантах (оба они записаны в низовьях реки) повествование осложняется развернутым вступлением, близким к началу былины «Соломан и Василий Окулович»: действие начинается в заморской земле, король которой ищет себе достойную жену; сватовство поручается Идолищу; племянницу князя Владимира именуют Анной. На Мезени и в Поморье былина открывается описанием приезда Идолища в Киев, имя невесты — Марфа. В облике Идолища доминируют черты великана — (см. его портрет) видимо, перенос из былин о татарском нашествии, Алеше и Тугарине или Илье и Идолище, а также оригинальное описание буйства уже обезглавленного чудовища: в мезенских записях от его «сбортыханья» «сколыбалося синё морё из края в край», «пошатались <...> церны корабли» — Григ., III, 100, 107; в одном печорском тексте Идолище ломает «мачту корабельнюю»—21, в другом — еще до убийства обрывает снасти—22.
№ 21
Онч., № 73 «Гремит Манойлович, Идол Жидойлович и Анна, племянница Владимира-князя»; Д и А, № 85.
Зап. Ончуковмм Н. Е.: июнь 1902 г., сел. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.
По сравнению с другими певцами Н. Шальков еще больше активизирует роль героини. Она не только убеждает князя Владимира отвести от Киева угрозу разорения, приняв ультиматум сватов (формула встречается
- 672 -
только в этом сюжете — ср. мезенские варианты), но и сама спаивает и убивает Идола Жидойловича (в других текстах это делают богатыри). В былине есть логические неувязки: ничего не сказано о судьбе «силы», сопровождающей Идола; в палатах турецкого короля пируют «кресьяна православные», хотя сват изображается как «неверный» (он «руським богам <...> не молится», сообщает, что для свадьбы готовят кобылятину и жеребятину). В былину введены мотивы из «Дуная» (Идол прежде бывал «в земле руськой»).
№ 22
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 9, л. 43—47, маш.; БП, № 83 «Про Василия Турецкого» [«Идойло сватает племянницу князя Владимира»]. ФА VI МФ, 328. 2. Д и А, № 86.
Зап. Колпаковой Н. П.: 4 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
В тексте Т. Кузьмина Анна Путятишна поит Идойла не только вином, но и «зельем лютым»; описание чары с отравой (строки 106, 107) перенесено из исторической песни о смерти Скопина. Включение этих мотивов художественно не оправдано, так как Идойло погибает не от яда — его обезглавливает Добрыня. На имени жениха «Василий» сказалось влияние былины о царе Соломане. Оригинальны описание колдовства с целью предсказать результаты поездки Идойла в Киев (строки 10—22), упоминание «шлюпки белой» с русского корабля и «шлюпки черной» с корабля свата; выразительна картина буйства турецкого посла перед смертью.
При повторе на м/ф строки 108, 109:
Как от чары тут Идойло не отказывается.
И берёт-то ли чару едино́й рукой.Разночтения БП, № 83
47
На четвертый-от год закатилося
109
Как берёт-то чару едино́й рукой
ДОБРЫНЯ И МАРИНКА (№ 23—30)
На Печоре записано 8 вариантов былины, однако это не может служить свидетельством хорошей ее сохранности. В местной редакции сюжета в образах главных героев утрачены многие древнейшие черты, повествование нередко переводится в сказочный план, насыщается бытовыми подробностями. В этом отношении печорские записи уступают не только прионежским, кенозерским и вологодским, но и мезенско-кулойским. Лишь в одном варианте (№ 23) кратко описывается колдовство Маринки, но формулы заговора нет; цель заговаривания — не «присушить» Добрыню, а превратить его в тура. Добрыня почти полностью лишен черт эпического героя, скорее он напоминает попавшего в беду героя волшебной сказки, которого выручают близкие. Любовника Маринки он убивает случайно, его соперник только в двух текстах назван змеем (№ 23), Идолищем (№ 28); чаще это — «тотарин» (№ 26, 30) или просто «мил дружок», «приятель» (остальные 4 варианта). Спасает Добрыню его крестная или сказочная «бабушка-задворенка» (5 текстов), а не мать или сестра, как в большинстве других редакций; иногда она пользуется «книгой волшебной» (как и Маринка в одном из вариантов—23). Во многих печорских записях скомкан финал — былина завершается «отворачиванием» Добрыни, расправа с Маринкой описывается лишь в 2 вариантах (№ 27, 28).
В печорской редакции сюжета к имени Маринки прочно прикрепился эпитет «Маринка-люта гроза» (он встречается также в двух кулойских вариантах — Григ., II, 37, 59). О превращении Добрыни в тура догадываются «две девушки» (дочери) бабушки-задворенки (крестной) — отправившись «в лес по ягоды», они встречают гнедого тура, который ведет себя необычно:
- 673 -
Близехонько к ним да приближается,
Низко он им поклоняется,
Горючими слезами да умывается.Аналогичный эпизод есть в упоминавшихся выше кулойских вариантах и одном мезенском пересказе былины (Аст., I, 7). Из 8 печорских текстов «Добрыни и Маринки» 3 записаны в устье Печоры. Публикации былины практически не оказали никакого влияния на ее устные варианты — даже в сводном пересказе С. Марковой, явно связанном с книгой, этот сюжет дан в местной редакции (см. коммент. к № 29).
№ 23
Онч., № 21 «Рождение Добрыни, первые годы жизни, бой с Маринкой».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родиновича, 65 лет.
Самый полный печорский вариант былины, содержащий некоторые архаичные детали, забытые другими сказителями (Маринка заговаривает «следы» Добрыни, ее любовник — «змей Горыницькой», в облике Добрыни сохранились черты эпического героя). В начале текста подробно рассказывается о рождении и детстве Добрыни. На Печоре эти эпизоды обычно вводятся в былину о бое богатыря со змеем (№ 11, 15, 29, 154), в соседних районах они чаще всего встречаются в сюжете «Бой Добрыни с Ильей Муромцем». В данном варианте Добрыня просит благословения погулять по Киеву не у матери, а у князя Владимира (см. также № 29), нет здесь и запрета заходить «в переулки Маринки» (на Печоре такой запрет встречается лишь однажды—26).
№ 24
Онч., № 35 «Добрыня и Маринка».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Рочева Егора Ивановича, 61 г.
Набор основных эпизодов типичен для печорской редакции сюжета, однако их традиционная последовательность нарушена. Повествование начинается с того, как две дочери крестной богатыря встречают в лесу плачущего тура, крестная догадывается о ворожбе Маринки и, угрожая ей, требует «отвернуть» крестника. Героя «призвали» и стали «допрашивать», и только здесь выясняется вся предыстория его отношений с Маринкой. Вряд ли исполнитель ставил перед собой сознательную цель заинтриговать слушателей, ввести в сюжет «тайну»; скорее всего перестановка эпизодов вызвана его забывчивостью. (В тексте есть явные признаки разрушения: конфликт остается неразрешенным, нет даже «отворачивания» богатыря, главный герой называется то «Микитушкой Добрынюшкой», то «Никитой Романовичем».) Любопытна чисто северная бытовая деталь — упоминание «избы нижной»; архаичен эпитет «книга волховная» (в других записях фигурирует «книга волшебная»). Лаконично и выразительно сказано об отношении богатыря к своей службе «во кучерах» и «во писарях»: «Мне сижаноцька эта как прискуцилась».
№ 25
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 8, л. 51 об. — 55 об. (полев.), тетр. 2, л. 39—41 (перебел.); Аст., I, № 73 «Маринка».
Зап. Астаховой А. М.: 7 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 65 лет, и Носова Якова Пропьевича, 63 г.
Традиционный текст, содержащий основные особенности местной редакции сюжета, «в то же время наблюдаются характерные для позднейшего этапа развития былины выдвижение и развертывание психологических моментов
- 674 -
<...>. Вследствие этого обыденно-житейский колорит, характерный вообще для печорских обработок, в данном тексте особенно выделяется» (Аст., I, с. 575).
Разночтения Аст., I, № 73
18
Ай-я розбила-розломала раму хрустальнюю
19
Розорвала занавесочку шолковую
№ 26
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 32 об. — 38 (полев.), тетр. 3, л. 24—26 (перебел.); Аст., I, № 61 «Добрыня и Маринка».
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Абрамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.
И. Чупров пропел лишь половину былины, кратко пересказав содержание остальных эпизодов. Композиция варианта обычна для печорской традиции. Как и в былине П. Поздеева (№ 23), Добрыня просит у князя Владимира благословения «пройти вдоль по Киеву»; единственный раз во всех печорских записях использован запрет заходить в Маринкин переулочек (правда, без какого-либо объяснения).
№ 27
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1. № 1, л. 69, рукоп., л. 29—33, маш.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1—5, маш.; Л., 1979, № 17 «Добрыня и Маринка».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Один из двух печорских вариантов, в которых действие доведено до логического конца — расправы с Маринкой. Содержание и последовательность большинства эпизодов обычны для местной редакции сюжета. Оригинальное замечание «бабушки-задворенки», подозревающей, что ее крестник превращен в тура:
Раньше ходил в день три раза,
А нынь не ходит третий день (строки 65—66).«Милый друг» Маринки не назван в этом варианте змеем или татарином, но мыслится как враг русской земли (стрела Добрыни попадает ему «во черны груди»).
Разночтения Л., 1979, № 17
2
Брал он стрелочку каленую
3
отсутствует
5
отсутствует
6
Ходил — искал стрелочку каленую
14
Ой есь. Маринка люта гроза
21
отсутствует
33
Не отдам твою стрелочку каленую
35
Убил у меня мила друга
46, 55
Десятый тур — над турами тур
54
Нынь у ней стало десять туров
60
Брала она книгу волшебную.
61
Смотрела она в книге волшебноей
- 675 -
62
Говорит она таково слово
73
Здраствуешь, бабушка задворенка
74, 82
Ой есь, Маринка люта гроза,
После 83
Не отверну я твоего крестника:
Прострелил он у меня окно косяще-то,
Убил он у мя мила друга,
Прострелил у него черны груди,
Разбил его да легко-печеня.
109
Бежат к Маринке десять туров
129
Отрежу у тебя по колен ноги
В рукописи на месте строк 34—37, 89—92 — строка точек. Текст восстановлен на основании указаний собирателя по аналогии со строками 26—29, 77—80.
№ 28
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 67, 68, маш.; БП, № 14 «Про Маринку».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
Былину переняла от отца.
Текст дефектный (Добрыню заменил «Чурилка», он просит «девушек-чернавушек» рассказать «бабке-горенке» о постигшей его участи; не все эпизоды органично связаны с основной сюжетной линией). Описание расправы с Маринкой, как и в предыдущем варианте, видимо, перенесено из былины «Иван Годинович».
№ 29
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 6, № 6, л. 12, 13, рукоп.; БП, № 75 [«Добрыня Никитич»].
Зап. Митрофановой В. В.: 24 июля 1956 г., д. Качгарт Нарьян-Марского р-на — от Марковой Софьи Степановны, 78 лет.
Прозаический пересказ, в котором объединены сюжеты «Добрыня и Маринка», «Добрыня и змей» и «Добрыня и Алеша», и кратко сообщается о встрече Добрыни с Настасьей-поляницей. «Все три сюжета пересказаны кратко, второй сюжет («Добрыня и змей») близок к прионежской традиции: действие происходит на Пучай-реке, изображены два боя со змеем <...> включены и характерные для прионежской традиции детали — виновником отсылки Добрыни на выручку Путятишны является Алеша Попович <...>. Эта близость к традиционной композиции и характерным деталям Прионежья, а также само объединение трех сюжетов, не встречающееся в печорских былинах, делает очевидным восхождение текста к какому-то книжному пересказу». (БП, с. 549). Внетекстовые данные подтверждают это предположение: «Записанные у нее богатырские сказки Маркова когда-то читала в книге, которую назвала „Старое время на Руси“, но уже лет пятнадцать назад книга была утеряна. Слышала также былины и сказки о богатырях и в устном исполнении». (БП, с. 210). Сюжет «Добрыня и Маринка», вероятно, не входил в состав печатного текста, которым пользовалась Маркова. В Прионежье он бытовал в виде самостоятельного произведения, его нет в репертуаре В. Чуркова, П. Калинина и И. Касьянова, былины одного из которых легли в основу книжного свода. В данной части текст Марковой, скорее всего, восходит к местной устной традиции — он содержит некоторые типичные для местной редакции сюжета элементы, правда, в искаженном виде. (Плачущий осел, который встретился в лесу пришедшим за ягодами девушкам.) В сюжете «Добрыня и змей» есть детали, не встречающиеся в текстах упомянутых выше певцов, но известные по другим прионежским записям. Отголоски прионежской традиции слышны и в сюжете «Добрыня и Алеша».
- 676 -
№ 30
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 354, л. 70, 70 об., рукоп.; м/ф, кас. 19, дор. 1 «Добрыня и Маринка» (прозаический пересказ).
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочная на р Пижме).
Примеч. соб.: «Иногда пересказ приближается к былинному стиху».
Краткий пересказ былины, в котором просматриваются некоторые специфические особенности печорской редакции сюжета (имя героини, упоминание «бабушки-задворенки», рассказ о необычном поведении тура и др.).
ДОБРЫНЯ И НАСТАСЬЯ (№ 31—33)
Былина о встрече Добрыни с богатыршей-поляницей, об их поединке и женитьбе впервые зафиксирована на Печоре в 1942 г. (№ 31) в редакции, очень близкой к вариантам прионежских сказителей. Эта запись, как и две последующие, представляет собой контаминацию комментируемого сюжета с другими былинами о Добрыне, что не свойственно печорской традиции, но обычно в прионежских текстах. Все это дает основания полагать, что данный сюжет не был известен устной былинной традиции Печоры и попал в репертуар местных сказителей из книг.
№ 31
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 1, дело 61, л. 133—138, маш.; БП, № 2 «Добрыня и Алеша».
Зап Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
В оригинале строки 133, 134 с нарушением логики:
Не спрашиват у дверей придверников,
Не спрашиват у ворот приворотников.Контаминация сюжетов «Добрыня и Настасья» (героиня названа «Анной Папичной») и «Добрыня и Алеша». Сопоставление этого текста с другими печорскими записями и вариантами из соседних районов наводит на мысль о соединении книжных и устно-фольклорных элементов. По построению сюжета, содержанию и словесному оформлению основных эпизодов вариант примыкает к былинам прионежских сказителей Чукова, Калинина и Касьянова, которые генетически связаны друг с другом. Совпадение некоторых подробностей в сюжете «Добрыня и Настасья» позволяет связывать комментируемый текст с вариантом П. Калинина. А. Носова не следовала за книжным первоисточником буквально — в ее былине немало печорских общеэпических формул, некоторые детали заимствованы из местных редакций других эпических песен.
Разночтения БП, № 2
125
Желают рукобитьицо
134
Не спрашиват у ворот привратников
№ 32
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 12, л. 53—55, маш.; БП, № 81 «Как Добрыня женился».
Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Спето в порядке пробы, без магнитофонной записи.
- 677 -
Оба приведённых текста (№ 32 и 33) представляют отдельную былину. Они не только почти в точности воспроизводят композицию прионежских, но и совпадают с ними в формулировках (ср., например, слова Добрыни о своей силе и смелости и др.), а также в некоторых характерных деталях (Добрыня расшибает дуб на «ластинья», Настасья кладет Добрыню в «кожаный мешок» и т. п.). Такого рода близость, а также отсутствие сюжета в ранних печорских записях вызывает вопрос, не пришла ли прионежская редакция на Печору в каком-либо печатном издании <...>. Сопоставление обоих текстов, записанных один за другим, показывает склонность Т. С. Кузьмина к творческим вариациям» (БП, с. 551). Следует отметить, что в вариантах Чукова и Касьянова Настасья кладет Добрыню в карман, а не в кожаный мешок — эта деталь встречается только у П. Калинина. Видимо, печатный текст Калинина — источник былины Кузьмина.
№ 33
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 11, л. 51, 52, маш.; БП, № 81а «Как Добрыня женился». ФА VI МФ, 333.3.
Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет. См. коммент. к былине № 32.
ДОБРЫНЯ И АЛЕША (№ 34—39)
В большинстве районов бытования русского эпоса этот сюжет принадлежит к числу наиболее популярных, его удельный вес в эпическом репертуаре особенно вырос за последние десятилетия. Например, на соседней с Печорой реке Мезень более четверти собранного в 1958—1961 гг. былинного материала составили записи «Добрыни и Алеши» — 9 текстов из 34 (см. ПФМ, № 205—213). На Пудоге эта былина входила в репертуар более 70 сказителей. В печорском же регионе (по общему числу записей он лишь незначительно уступает пудожскому) за всю историю собирания удалось зафиксировать 8 вариантов сюжета. Только один из них полностью восходит к устной традиции, остальные испытали воздействие книги.
№ 34
Онч., № 95 «Алеша Попович женится»; Д и А, № 68.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Пойлово (зап. в сел. Куя, на Печоре, Пустозерской вол.) — от Шевелевой Прасковьи Ивановны (уроженки Мезени), возраст не указан.
Н. Е. Ончуков сдержанно отозвался о своей единственной печорской записи «Добрыни и Алеши»: «П. И. (Прасковья Ивановна Шевелева) совсем не поет старин и спела мне про женитьбу Олеши после моей усиленной просьбы, спела, кажется, в первый раз в жизни, и потому очень плохо» (Онч. с. 389). Действительно, у Шевелевой не развернуты некоторые эпизоды, подробно разрабатываемые сказителями из других районов: не сообщается, чем занимался Добрыня в отъезде; лаконично и маловыразительно описание встречи героя с матерью; опущены многие подробности в финале былины (нет даже сцены узнавания Добрыни, которая так привлекает слушателей своим драматизмом, — богатырь, хотя и переоделся «в платье калическо», сразу заявляет свои права на жену, снимая с руки «злачен перстень»).
Тем не менее вариант Шевелевой не лишен своеобразия, содержит ряд редких, а то и уникальных мотивов. Князь Владимир не сразу соглашается поддержать сватовство Алеши, заявляя: «Может, Добрыня еще сам живой», и только после уверений Алеши, что он якобы видел труп своего названого брата, активно включается в сватовство. Весть о предстоящей свадьбе Добрыне приносят «три ворона кормлёныи» — они будят его своим «курканьем», от которого «удрогла ведь матушка сыра земля», «сухое-то пенье поломалося»; Добрыня догадывается, что дома приключилась беда. Мать богатыря пытается удержать его дома, опасаясь, что на свадебном пиру он прольет «много крови напрасной». Сын ее успокаивает, заявляя, что не намерен строго судить жену — «ейно дело невольноё». Когда Добрыню угощают на пиру, он «за цароцькой» выговаривает иронические пожелания:
- 678 -
князю Владимиру — «ходить батюшкой», княгине — «матушкой», Илье Муромцу — «тысяцким», Алеше — «во совете жить», молодой жене — «согласно жить». Есть в этом тексте отдаленная параллель к сборнику Кирши Данилова: в роли дружки в свадебном поезде выступает «Цюрило Голошапишко» (в былине «Соловей Будимирович» этого сборника соперником главного героя является «голой шап Давид Попов»—1; «шшап молодой Давыд Попов» пытается отбить невесту у Соловья Будимировича и в былине пинежской сказительницы М. Д. Кривополеновой — Озаровская, с. 17—26).
№ 35
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 155—157, маш.; № 8 «Добрыня и Алеша».
Зап. Ермолиной И. К.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Савуковой Татьяны Антоновны, 63 г.
Прозаический пересказ былины, многими эпизодами и формулами перекликающийся с вариантом В. Лагеева (№ 38). Это сходство естественно, так как Савукова родом из Усть-Цильмы, где жил и Лагеев. Однако в данном случае устное заимствование былины одним исполнителем у другого маловероятно. Видимо, оба варианта восходят к одному и тому же печатному тексту, составитель которого дополнил былину известного прионежского сказителя А. Чукова (Гильф., 149) некоторыми подробностями из других прионежских записей, а начало позаимствовал из сборника КД (№ 21). Савукова добросовестно и довольно подробно пересказала книжный текст, поэтому в ее варианте нет очевидных точек соприкосновения с печорскими былинами. А Лагеев — человек творческого склада — внес в былину существенные коррективы, в частности, переработал всю ее начальную часть, опираясь при этом на местную эпическую традицию.
Разночтения БП, № 8
58
Взял Добрыня гусли да пошел на пир
№ 36
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 13, л. 56—64, маш.; БП, № 82 «Добрыня на чудь поехал».
Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
Начальный эпизод текста и его название у певца явно связаны со Сборником Кирши Данилова (№ 21), а основная часть близка к прионежской редакции сюжета «Добрыня и Алеша» (см. БП, с. 551). В былине Кузьмина, как и в вариантах Савуковой и Лагеева, много общего с редакцией Чукова-Калинина. Однако в комментируемом тексте нет целого ряда деталей, имеющихся у его земляков, в то же время встречаются отсутствующие у них элементы прионежской традиции. Эти разночтения заставляют предполагать, что Кузьмин и устьцилемские сказители пользовались близкими, но не тождественными книжными текстами.
Разночтения БП, № 82
66
Плечи сильно прострелены
75
У того ли князя да у Владимира
№ 37
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 32, л. 149, маш.; БП, № 62 «Женитьба Алеши Поповича на Добрыниной жены». ФА VI МФ, 325.3.
Зап. Колпаковой Н. П.: 31 июля 1956 г., д. Лабожское Нарьян-Марского р-на — от Суслова Никандра Ивановича, 65 лет.
- 679 -
Текст повторяет все основные особенности былины П. Шевелевой (№ 34). Тщательно сопоставив оба варианта, А. М. Астахова выявила несомненную близость их общего построения, аналогии в мотивировке действия, оформлении отдельных эпизодов. Внушительный список приведенных ею схождений (БП, с. 544—545) можно дополнить еще одним: Суслов вслед за Шевелевой ни разу не называет по имени жену Добрыни, что необычно для этой былины. Вместе с тем вариант Суслова — не механическое повторение записи Ончукова: исполнитель еще больше упростил сюжетную схему, изменил некоторые детали, что позволило снять встречающиеся у Шевелевой логические неувязки. Поскольку в доме Суслова оказался экземпляр «Печорских былин», а сам сказитель известен как большой любитель чтения, справедливо, что «основа его текста восходит к записи Ончукова», которую он «в ряде случаев улучшает» (БП, с. 545).
Разночтения БП, № 62
11
Он пришел-то к Ильи да ле ныне к Муромцу
13
Ах ведь тут ли-то старо́й да Илия Муромец
14
Говорит ли-то сейчас да таково́ слово́
18
Я ли видел-то труп да нонь Микитича
20
Как трава-то ростет, да ведь и цветы цветут
24
Как ведь и в ту же пору вон да нонь среди ночи́
27
Вот и тут-то пошли нынь к Добрыниной жены
30
Мы всё ли шли-то ведь к вам да нынь посвататьцо
37
Если трава ле растет, да как цветы цветут
№ 38
ПИЯЛИ КЗ, № 504/1, 506/1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 4, маш. «Добрыня и Алеша». СП, с. 32, 33 (отрывки), нап. с. 32.
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет.
Текст записан с пения, подкупает продуманностью и соразмерностью элементов сюжета, последовательным соблюдением классического формульного стиля, отточенностью стиха. Между тем генетически вариант, видимо, связан не с печорской, а с прионежской традицией: в нем имеются особенности, характерные для разных районов Прионежья, что практически исключает возможность устного заимствования. Самые близкие параллели к былине Лагеева обнаруживаются в текстах известного прионежского сказителя А. Чукова (Рыбн., 26, Гильф., 149). Печорский певец следует за Чуковым и при оформлении так называемых «переходных мест», которые, как правило, особенно неустойчивы и варьируются даже в повторных записях, сделанных от одного и того же исполнителя. В былине Лагеева встречаются детали, неизвестные печорской традиции и широко распространенные в Прионежье, а рядом с ними — эпические формулы, типичные для печорских записей. Это переплетение элементов разных локальных традиций свидетельствует о творческой переработке сказителем книжного текста.
Былина была записана 15 окт. 1965 г. на пластинку в Москве на ВСГ «Мелодия»: грампластинка Д-024791—024792, № 1.
№ 39
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 6, № 2, л. 3—5, рукоп. «Женитьба Алеши Поповича».
Зап. Кручининой М. Н.: лето 1978 г., д. Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Семеновой Натальи Тимофеевны, 77 лет (уроженка д. Замежной, в которой прожила 60 лет).
Краткий пересказ былины, содержащий специфические элементы прионежских редакций сюжета; особенно близок к вариантам П. Калинина и А. Чуркова (Гильф., 5, 149). Наиболее вероятный источник текста
- 680 -
Н. Семеновой — книга; сохранившиеся эпические формулы почти дословно совпадают с соответствующими фрагментами «былины двадцатой» из «Книги о киевских богатырях» В. П. Авенариуса (СПб., 1876, с. 238—242). Незначительны вариации, типичные для пересказа стихотворного произведения — отдельные слова заменены синонимами («крестовый брат» вместо «названого», «гусельцами похлопывать» вместо «поваживать» и т. п.).
ИСЦЕЛЕНИЕ ИЛЬИ МУРОМЦА (№ 40—57)
Сюжет о чудесном исцелении богатыря-сидня получил широкое распространение практически во всех районах бытования русского эпоса. В большинстве вариантов он облекается в форму сказки или побывальщины; песенно-стихотворные тексты записывались почти исключительно на европейском Севере России, но и в них нередко просматривается прозаическая первооснова произведения. Большинство исследователей считает, что рассказ об исцелении Ильи Муромца оформился в былину сравнительно поздно (см. Аст., I, с. 617); в нем используется немало сказочно-легендарных мотивов. На бытовании сюжета в последние 80—100 лет заметно сказалось влияние лубочных пересказов и других дешевых изданий былин. «Исцеление» обычно контаминируется с другими сюжетами, с него начинаются почти все сводные пересказы и былины об Илье Муромце. Сюжетная схема устойчива, разнообразные детали и подробности фиксируются повсеместно, но по старым записям можно установить некоторые региональные особенности. В ряде печорских текстов странники исцеляют Илью-сидня хлебом («даром божьим» — устьцилемские варианты), речной водой, словом; рассказ о выпивании трех чар вина, пива или кваса и «регулировании» чудесно обретенной силы отсутствует; нет и предсказания неуязвимости Ильи Муромца («на бою тебе смерть не писана»), запрета биться со Святогором, Вольгой, Микулой (эти мотивы встречаются лишь в нескольких вариантах, связанных с книжными источниками). Богатырского коня и оружие герой получает от отца, а не покупает по совету старцев. В некоторых текстах Илья не только сидень, но и слепой; в 5 вариантах на просьбу калик перехожих подать милостыню он отвечает: «Я не то тебе подать — готов сам принять». Не исключено, что эти особенности — следы региональной печорской редакции сюжета, которая под влиянием печатных текстов и их устных пересказав постепенно утрачивала свои специфические черты.
№ 40
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 4, с. 305—317; Онч., № 19 «Первая поездка Ильи Муромца».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
«Эта старина записана со слов, а не с пения, только самый конец, от слов: „Откуль ты, какой“ и пр., был спет. Тут сразу заметна разница в стиле между тем, что спето и что рассказано словами» (Онч., Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, с. 317).
Самый распространенный тип контаминации — соединение сюжетов об исцелении Ильи Муромца и о его победе над Соловьем-разбойником. В первом сюжете находим большинство особенностей, отмеченных в общем обзоре печорских вариантов. Выразительна характеристика богатырского коня, включающая распространенную на Печоре формулу «стоял на семи цепях, на семи розвезях» (см. коммент. к сюжету «Илья Муромец и Сокольник»). Рассказ о победе над Соловьем-разбойником, как и в большинстве других печорских записей, осложнен мотивами трех дорожек и трех застав, столкновением с разбойниками (в этой роли выступают «мужички да новотокмяны» — ср. № 45, 50). Освобождение героем пленников Соловья-разбойника встречается еще в двух печорских вариантах (№ 48, 50). В былине использован мотив, характерный для сюжета «Святогор и Илья» — конь Ильи не может нести двух богатырей (ср. № 50). Близкий по композиции пересказ обоих сюжетов записан от И. П. Поздеева — сына П. Поздеева (№ 45).
- 681 -
№ 41
Онч., № 53 «Илья Муромец».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Игнатия Михайловича, 75 лет.
Контаминация сюжетов «Исцеление Ильи Муромца» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Богатыря исцеляют словом, но «силу великую» он получает, испив речной воды. Оригинально описание крестьянской работы Ильи — он не раскорчевывает поле, как обычно, а огораживает от скота засеянную пашню (деталь чисто местная). Подчиненный, вспомогательный характер эпизода с разбойниками (испытание богатырских качеств героя перед боем с главным противником) подчеркивается тем, что «станичники», «граничники» и «турзы-урзы» поставлены на заставах Соловьем-разбойником. Заговаривая стрелу, богатырь велит ей лететь, «куды я велю». (Ср. № 63). Предупреждение Ильи, что «у старого будет смерть страховитая», и совет пойти прочь всем, у кого есть молодые жены и малые дети, видимо, позаимствованы из былины о царе Соломане (ср. другую печорскую запись—47 и мезенский вариант «Ильи Муромца и Соловья-разбойника» — Аст., I, 1). Описание подкопов, утыканных копьями (см. также № 58 и, в редуцированной форме,—43), обычно в первой версии сюжета «Илья Муромец и Калин-царь», которая на Печоре не записывалась. Этот эпизод встречается в одном из вариантов былины «Потап Артамонович» (№ 235).
№ 42
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 35 об. — 49 об. (полев.), тетр. 5, л. 22—31 об. (перебел.); Аст., I, № 95 «Илья Муромец».
Зап. Астаховой А. М.: 25 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкого нац. округа — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.
Былина была сначала рассказана, потом спета. В полевой и перебеленной тетрадях в круглые скобки заключены добавления и изменения, внесенные при пении, а в квадратные — принадлежащие сказанному варианту. При пении, как обычно, вставлялись короткие слова, междометия, изменялась форма отдельных слов, например:
Пение
Рассказ
3
Да жила-была
Жила-была
4
Ёмелфа Тимофеёвна
Омелфа Тимофеевна
5
Кабы было... цадо
Было... чадо
8
Он на той жо
На той
9, 27
ножок
ног
10
ручок
рук
19
Уж и крест ли
Крест ли
25
Уж ты здравствуй
Здравствуй
38
Ты сойди
Сойди
58
Благословенья великого
Благословение великое
80
есть
есь
82
Ах на трёх-де дубах да
На трёх дубах
83, 84
Соловейко
Соловеюшко
и т. п.
Публикуется спетый вариант по полевой записи.
- 682 -
Сказанный вариант:
1
Во малоей Галицы великоей
6
Был у ей Илья сын Иванович
13
Не видел Илейка солнца красного
14
Не видел Илеюшка добры́х людей
Вместо 15, 16
16, 15
17
Пришла калика перехожая
18
отсутствует
23
Сотвори милостыньку подушевную
24
Говорит Илья сын Иванович
Вместо 26
Не могу я встать со печки со муравленой
28
Нет у меня рук белы́х по локо́т
33
Если видишь, то возьми своей рукой
34
отсутствует
42
отсутствует
52
Отдавает калике перехожему
54
А не видел, куда калика потерялса
55
Заслышал в себе Илья силы множество
56
Приходит ко матушке родимоей
58
отсутствует
61
отсутствует
Вместо 65 и 66
Итти-ехать в стольней Киев-град
70
Премой дорогой ехать — есть за́ставы великие
71
отсутствует
73, 74
отсутствует
Вместо 77 и 78
Стоят во чистом поле сорок тысечей неприя<теля>
83
Закричит Соловеюшко по-змеиному
Между 85 и 86
Не пройти тебе будет, не проехати
86
И говорит Илья сын Иванович
91, 92
отсутствует
97
Надевала башмачки на босу́ ногу́
102
Седлает Илья того коня доброго
103, 104
отсутствует
108
отсутствует
110
Брал с собой ту́гой лук
112
отсутствует
115
Клал он меж собой свой велик залог
117
Отправилса Илья Муромец во чисто́ поле
118
Подъехал ко мостику калёному
119
отсутствует
121
И сам-то в уме подумал
Вместо 124 и 125
Тогда спустился Ильяюшка на сыру землю́
129
Перевёл своего коня доброго через мостики калёные
130
отсутствует
132
И завидел он во́ поле силы множество
133
отсутствует
135
Не оставил ни одного не сцетана
137
Здраствуй, рать великая
- 683 -
138
40 тыс<еч> удалыех молодцев без единого
142
Кругом взяли Илью посередке себе
Вместо 145 и 146
Рассердилса Илья сын Иванович
147
отсутствует
149
А вдвое-втрое конём топчет
150
отсутствует
151
И не оставил ни одного живого человека
153
Завидел он в полюшке С<оловья> Р<ахматьича>
157
Его конь добрый упал на о́карачь
158
Взял Илья в руки палицу буёвыу
160
отсутствует
Вместо 161, 162
Неужели не слыхал крику звериного, свисту змеиного
163
Тогда его конь соскочил, на свои ноги стал
Вместо 164, 165
Берёт Илья в руки свой тугой лук с каленой стрелой
168
Ко стрелы приговариват
169
Ты лети, моя калёная стрела
170
Не падай ни на́ воду, ни на́ землю
Между 171 и 172
Роздроби его всю буйну голову
173
отсутствует
176
Успел Ильюшка сын Иванович
177
Подхватил Соловеюшка за чесны́ кудри
178
отсутствует
183
отсутствует
185—187
отсутствует
Перед 195
Теперь его деточки родимые
195
Побежали во чисто́ поле
198
Третья бежит — она ковш тащит
199
Сидит Ильюшка усмехаетца
204
Откупите меня у удала до́бра молодца
205
отсутствует
206
Отворачивает Илья как люты́м зверём
209
Приехал во Киев в стольней град
211
отсутствует
215
отсутствует
217, 218
отсутствует
Вместо 220, 221
Для Ильи доспел он пил великий
222
Говорит Владымыр-князь
Вместо 224, 225
Позволь ты моим слугам
Завести Соловья Рахматьевича
В мои покои светлые
226
А подите вы в светлые светлицы
227
Говорит В<ладимыр> таково́ слово́
232
Владимыра слуги не ослышались
234
Не смеют спуститьця они на сыру́ землю́
235
Говорят они да таково́ слово́
238
Во свои покои светлые
240
Не ца́рьско ем-пью-кушаю
242
Я пью-ем И<льи> И<вановича>
243
И его же и слушаю
- 684 -
Вместо 244
Теперя ети слуги отнесли
Ко Владимыру с такими словами
Вместо 251, 252
Тогда Илья и завел
253
Говорит царь таково́ слово́
254
отсутствует
Между 257 и 258
Зареви, Соловеюшко, по-звериному
257
Тогда Соловеюшко говорит
260
А ем-пью Ильи Ивановича
261
И его же и слушаю
262
Сказал царь таково́ слово́
264
Вели ты сам Соловеюшку спеть
265
отсутствует
271
отсутствует
272
Закричал-заревел Соловеюшко во всю прыть
273
отсутствует
Различия в полевой и перебеленной рукописях:
46
в полев. зап. отсутствует
47—49
свету бе
в полев: [Увидел] Илеюшко солнцекрасное
» » людей добрыих
в перебел: Увидел Илеюшко свету белого
(Свету белого) увидел сонце красное
[Увидел]
Увидел Илеюшко людей добрыих
245, 246
в полев.: Пью и т. д.
273
в полев. рукоп. конец стиха неразборчив
в перебел. — не расшифрован, стоит «?»
Оба сюжета («Исцеление Ильи Муромца» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник») содержат характерные для печорской традиции подробности и формулы (Илья — не только сидень, но и слепой, калика исцеляет его словом и тут же исчезает; на прямоезжей дороге стоят три заставы, упоминаются «подгнившие мостики»; Соловей-разбойник сидит «на трех дубах да на трех поддубах» и т. д.). Оригинально сравнение летящей стрелы с «лютой змеей» (строка 173). В сцене нападения на богатыря дочерей Соловья использованы бытовые детали, придающие ей иронический оттенок, — строки 197—199 (ср. кулойские тексты — Григ., II, 12, 36, 52, 73). П. Дитятева вводит в свой вариант слегка перефразированную сказочную формулу «Долго поетця, скоро сказываетця», разделяя с ее помощью отдельные эпизоды (строки 182 и 209). Зачин былины перенесен из сюжета «Дюк Степанович и Чурило Пленкович» (упоминаются «Маленькая Галица» и «вдова благочестивая Емелфа Тимофеёвна»).
№ 43
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 38—55 об. и тетр. 13, л. 2—9 об. (полев.), тетр. 3, л. 81—94 (перебел.); Аст., I, № 93 «Про старо́го».
Зап. Астаховой А. М.: 20 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Павла Ивановича, 57 лет.
- 685 -
Перенял былину от отца. После строк 75, 146, 240 исполнение прерывалось разговорами сказителя с женой и односельчанами, заходившими в дом во время записи текста (см. биографическую заметку, с. 503 и Аст., I, с. 591—592)
Вариант объединяет три сюжета: «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Илья Муромец и Калин-царь». Начало первого сюжета сказитель пропел (см. следующий текст). Интересно, что в стихотворном варианте родители героя не названы по именам. Их имена, как и упоминание «ренских погребов», рассказ о покупке богатырского коня, не традиционны для Печоры. У П. Торопова встречается и другая деталь, не имеющая параллелей в местных былинах: окружив богатыря, разбойники «начали друг дружку глазами помаргивать», Илья устрашает их стрельбой из лука, но оставляет в живых. В этой части пересказа «отход от известных былинных редакций очень силен и обусловлен, вероятно, влиянием какого-то книжного источника» (Аст., I, с. 592). Два других сюжета даны в местных редакциях, содержат типичные для них детали и формулы. О трех кольцах, за которые привязывают своих коней представители разных сословий, см. наш коммент. к № 150. В некоторых эпизодах и ремарках исполнителя чувствуется влияние сказок.
Разночтения Аст., I, № 93
139
...раскрошила в мелкие дребезги
143
...ждет, как встанут
217
Ворота все поперты...
В полевой записи строка 142 не окончена (...ждет, как...); в строке 145 неразборчиво написано третье слово; в ремарке после 185 строки неразборчиво написаны последние слова.
№ 44
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 13, л. 11 об. — 13 об. (полев.), тетр. 3, л. 94 об., 95 (перебел.); Аст., I, № 92 «Про старого» (отрывок).
Зап. Астаховой А. М.: 20 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Павла Ивановича, 57 лет.
Данный текст — начальный отрывок сводной былины об Илье Муромце, которую Павел Иванович передал прозой (см. № 43), заметив, однако, что может ее петь: «Другие помогают, я устаю, а другие подхватывают. Старуха (жена) помогает». На просьбу собирателя спеть былину полностью — спел лишь данный отрывок. Текст отрывка близок прозаическому пересказу в деталях эпизода и в лексике.
В исполнение отрывка вносил некоторые песенные приемы: разделение слов, повторение отдельных слогов (см. строки 14—15) — Аст., I, с. 618.
№ 45
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 9 об. — 14 (полев.), тетр. 3, л. 104 об. — 107 (перебел.); Аст., I, № 80 «Про старого казака, про первую поездку Ильи».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Поздеева Ивана Петровича, 64 г.
И. П. Поздеев — сын сказителя П. Р. Поздеева, репертуар которого записан Н. Ончуковым. Исполнитель пересказал былину отца (см. № 40), опустив или сократив некоторые эпизоды. В тексте И. Поздеева сохранены многие формулы и обороты, характерные для языка былин.
№ 46
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277 п. 1, № 1, л. 70, 70 об., рукоп., л. 3, маш. (28 строк); РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 7, л. 1—12, маш.; Л., 1939, № 1; Л., 1979, № 2 «Первая поездка Ильи Муромца».
- 686 -
Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Как и в большинстве других контаминированных текстов, сюжету «Илья Муромец и Соловей-разбойник» предпослан рассказ об исцелении героя. Вариант И. Осташова содержит ряд характерных для печорской традиции элементов, но в нем отсутствуют мотивы трех дорожек, стычка богатыря с разбойниками. Об опасностях, подстерегающих Илью на прямоезжей дороге, Илью предупреждает отец. Оригинальный поэтический образ использован в описании стрельбы из лука (строки 227—229).
Разночтения Л., 1939, № 1 и Л., 1979. № 2
9
Рад бы я подать (1939, 1979)
43
Что, Илейка, ты по се чувствуешь (1979)
52
Что ты, Илейка, по се чувствуешь (1979)
56
Поворотил бы я мать сыру землю (1979)
После 62
Пошел Илейка вон на улицу (1979)
68
Совсем как будто наш идет Илеюшко (1979)
71—74
отсутствуют (1979)
73
Совсем как наш будто идет Илеюшко (1939)
78—80
отсутствуют (1939, 1979)
После 81
Как же это чудо приключилося (1979)
82—136
отсутствуют с примечанием: «Далее следует пересказ
предыдущего от слов „Сидел я на печке-муравленке“
до — „Потерялись калики перехожие“» (1979)
82
Пришли под окно калики перехожие (1939)
84
Говорю я им таково слово (1939)
86
Рад бы я подать (1939)
140
Ой есь вы, мои отец с матерью(1979)
149
Вставали они поутру раным-рано (1979)
157, 165
Помрем мы без тебя смертью лютоей (1979)
166
Третий раз старой их выспрашивает (1939)
Третий раз старой выспрашиват (1979)
171
Посмотреть всех русских богатырей (1979)
176
Прямоезжая дорожка да призапущена (1979)
181
Не пропускат ни зверя рыскучего (1939, 1979)
193
С отцом-матерью он распрощается (1939)
С отцом-матерью он да распрощается (1939)
201
По болотине мостики приломаны (1939, 1979)
202
Правой рукой он дубинушку подергиват (1979)
206
Перебрался через болотину дыбучую (1939)
Перебрался за болотину дыбучую (1979)
209
Поехал он в путь дорожечку (1939, 1979)
219
Бьет Илья коня да по тучным ребрам (1979)
220
Ай ты волчья сыть, да травяной мешок (1939)
Уж ты волчья сыть, да травяной мешок (1979)
233
С семи дубов и восьми поддубочков (1939)
247
На то ли крыльцо да парадное (1939)
249
Глядела она да во чисто поле (1979)
258
Предайте его смерти лютоей (1939, 1979)
263
С пути-дороженьки к нам попить-поесть (1939, 1979)
271
Тут и стали они его спрашивать (1979)
- 687 -
278
Не верят удалы добры молодцы (1939)
Никто не верит удалому доброму молодцу (1979)
279
У нас засорена дорожка тридцать лет (1939, 1979)
292
Прикован к седелышку зеркальчату (1979)
310
Садили его за дубовый стол (1939)
314
Не большу — не малу — в полтора ведра (1939, 1979)
325
Говорил-то старой да Илья Муромец (1939, 1979).
Строки 83—136, 326—340 из-за отсутствия в рукописи даны по машинописному тексту (РГАЛИ). В рукописи строки 30, 31, 165, 171, 282, 286 — неполные; на месте строк 159—164, 167—170, 283—285 — строки точек. Восстановлены на основании указаний собирателя.
№ 47
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 48—52, маш. (копия); Л., 1979, № 1 «Илья Муромец».
Зап. Леонтьевым Н. П.; 16 авг. 1940 г., д. Гарево Усть-Цилемского р-на — от Хозяинова Сидора Антоновича, 80 лет.
Контаминированный текст, обе части которого в основе своей традиционны, хотя и содержат ряд оригинальных деталей. Как и в некоторых других печорских записях, мотив исцеления богатыря связан с хлебом; в роли целителя выступает «бел старик Снежна Груда», имя которого другими сказителями не упоминается. Оригинально испытание силы Ильи Муромца в строках 30—38, отдаленно перекликающееся с былиной «Святогор и тяга земная» (этот сюжет на Печоре не зафиксирован). С. Хозяинов вводит в свой текст мотивы из «Наезда литовцев» (расправа с разбойниками — ср. № 113), «Илья Муромец и разбойники» и былины о царе Соломане (стихи 106—120 — см. коммент. к № 41).
Разночтения Л., 1979, № 1
1
Во селе было во Кракове
84—89
отсутствует
120
отсутствует
160
Ехал я дорожкой прямоезжеей
После 175
Он занес Соловья Рахматова
180
Посадил Соловья он к венику
Князя Илья взял под праву руку
Строки 1—63, отсутствующие в рукописи, даны по машинописи, 64—182 — по рукописи.
№ 48
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 74—83, маш.; БП, № 12 «Илья Муромец».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловй Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — От Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
Былину переняла от отца Андрея Поздеева (былины от А. Поздеева не записаны).
Сводный текст. Включает в развернутом или фрагментарном виде 7 сюжетов: былины об исцелении Ильи Муромце, о Соловье-разбойнике, Калине-царе (вторая версия), Илье Муромце и разбойниках (отдельные мотивы), голях кабацких (закладывание креста и убийство чумаков-целовальников), Идолище Поганом, Сокольнике. Мотив-связка между сюжетами о Соловье-разбойнике и Калине-царе такой же, как и в предыдущем варианте — бояре перевирают слова Ильи о подаренной князем шубе. А. Шишолова использует некоторые подробности и формулы, характерные для печорской былинной традиции (мотив трех дорожек, освобождение плененных
- 688 -
Соловьем богатырей, формулы «на семи дубах, семи поддубацках», «тут не белой куропать выпархиват»; наказ Ильи перед боем с Сокольником, перенесенный из былин о татарском нашествии — строки 234—237; расправа Сокольника с Алешей и др.). Любопытно рационалистическое объяснение отказа калики поменяться платьем с Ильей: «Я облакусь в твое платье хорошее, никто не даст мне ничего». Узнавание Сокольника по нательному кресту не свойственно печорской традиции (этот мотив популярен на соседней Мезени — Григ., III, 16, 32, 88 и др.).
Разночтения БП № 12
После 309 ремарка дана как строки 310—311. В тексте из арх. Коми фил. АН СССР ударения не проставлены.
№ 49
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело, 61, л. 103—111, маш.; БП, № 11 «Илья Муромец».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Мяндиной Елены Григорьевны, 69 лет (уроженки д. Карпушовка). Былину переняла от отца Григория Васильевича Дуркина (былины от Г. В. Дуркина не записаны).
В тексте объединены три сюжета — «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и вторая версия «Ильи Муромца и Калина-царя» (аналогичные контаминации см. в № 43, 57 и в сводной былине об Илье, № 48). Прозаический пересказ перемежается со стихотворными фрагментами, большая часть третьего сюжета передана стихами. Об исцелении богатыря сообщается кратко. Характерно, что нет угощения Ильи пивом или квасом, зато упомянут «кусок хлеба» (ср. № 40, 45, 47). Некоторые особенности печорской обработки есть и во втором сюжете: Илья исправляет подгнившие мостики, на лету подхватывает «Идолище немецкое» (Соловья-разбойника). Еще теснее связан с местной традицией рассказ об отражении татарского нашествия на Киев: вражеское войско первым замечает калика (ср. № 105, 206, 209). Илья не слушает князя Владимира, но готов служить княгине Апраксии, в одиночку разбивает войско «неприятеля» и расправляется с клеветниками-боярами. Текст отличается стилистической пестротой — лаконичные и точные формулы соседствуют с неудачными имитациями былинных оборотов («боёва лошадь», «очи глупые» и др.), с новой бытовой лексикой («никогда не врали», «помещеньице», «полштоф воды» и т. д.).
В тексте из архива Коми фил. АН СССР ударения отсутствуют.
№ 50
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 404, л. 504—511, маш.; БП, № 46, нап. VI, «Первостольный богатырь Илья Муровец». ФА VI МФ, 202.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 13 авг. 1955 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Вокуева Гаврилы Васильевича, 73 г.
Былины перенял от отца — Вокуева Василия Петровича и деда — Вокуева Петра Ивановича. «Исполнитель, прежде чем спеть всю былину, спел несколько первых стихов», — 6 строк. (Примеч. соб., БП, с. 541):
От того было от города от Мурова,
Из того, ей, села да Карачегова,
От того было Ивана да Тимофеёва.
У ёго, ей, было да ча..., ей, одно чадо,
Как одно, ей, чадо да единакоё,
Оно сидело, ей, на печке ровно тридцать лет...
- 689 -
От исполнителя записан на магнитофон отрывок (6 строк) варианта былины — ФА VI МФ, 202.2:
Контаминация былин об исцелении Ильи Муромца и Соловье-разбойнике. В разработке обоих сюжетов Г. Вокуев следует местной традиции; его текст особенно близок к варианту П. Поздеева (№ 40), хотя и уступает ему по объему за счет упрощения некоторых описаний и пропуска эпизодов. Принадлежность этих двух записей, а также пересказа И. П. Поздеева (№ 45) к одному изводу не вызывает сомнений (совпадают все оригинальные детали, имена собственные, порядок следования и содержание основных эпизодов, текстуально близки многие формулы — подробнее см. БП, с. 541).
При повторной записи (через 9 лет — см. № 54) сказитель упростил некоторые эпизоды и описания, опустил второстепенные подробности, что привело к сокращению текста; противника Ильи несколько раз ошибочно назвал «Соловьем Будемировцем».
Разночтения БП, № 46
7
Не говорил у его да говорок-язык
75
И черной горносталь не пропрыгивал
117
Ставай, конь, на резвы ноги
125
Молодец на то был ухватчивой
192
Уж твой Соловей ли Рахматович
197
Тогда Соловей заревел во весь свист
- 690 -
№ 51
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 403, л. 500—503, маш.: БП, № 44 «Про Илью». ФА VI МФ, 213.1 «Первая поездка Ильи»; МФ, 213.5.
Зап. Колпаковой Н. П.: 25 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.
- 691 -
Перед записью Дуркин Т. С. в порядке припоминания спел следующее начало былины (зап. Соколовым Ф. В. и Колпаковой Н. П.):
5Из того ешче из города ныне из Мурова,
Из того ешче села да ле Карачарова,
А да жил тут был молодой Иван сын Тимофеёвиць.
Как было у его едино цядо, было едино-любимоё,
Как не имел он тридцеть лет под собой резвых-де ног.В комментарии к БП № 44 приведен такой вариант «пробы голоса» Т. С. Дуркиным:
Из того еще из города ли из Мурова,
Из того еще села да ле Карачагова,
Ой же жил тут и был молодой ли Иван сын Тимофеевич,
Уж было у его едино чадо милое, едино любимое,
Уж не имел он тридцать лет под собою резвых-де ног.(БП, с. 540)
Пересказ сюжетов об исцелении Ильи Муромца и его победе над Соловьем-разбойником, в который вкраплены два стихотворных отрывка. В отличие от былины о Сокольнике (№ 79) этот текст Т. Дуркина невыразителен и бесцветен, почти не содержит характерных печорских формул (чуть ли не единственное исключение — «гнездо Соловьиное на семи дубах, на восьми падубках»). Есть основания полагать, что сказитель был знаком с каким-то книжным вариантом. Исцеляющий Илью старец наказывает ему не биться со Святогором и Вольгой (такой запрет встречается лишь в двух печорских пересказах, связанных с книгой, — см. коммент. к № 11 Прилож. I и № 2 Прилож. II; устной печорской традиции не известно и имя Вольги). В сюжете «Илья Муромец и Соловей-разбойник» упоминается речка Смородина, рассказывается об освобождении богатырем Чернигова и о предложении стать воеводой в этом городе. Эти детали также не свойственны печорским записям, но обычны в прионежских.
№ 52
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 4, л. 6—9, рукоп.; БП, № 74 [«Илья Муромец»].
Зап. Митрофановой В. В.: июль 1956 г., д. Качгарт Нарьян-Марского р-на — от Марковой Софьи Степановны, 78 лет.
Сводный пересказ, объединяющий 9 сюжетов, связанных с именем Ильи Муромца; былины об исцелении, о Соловье-разбойнике, Калине-царе (с упоминанием имени Калина, что не свойственно устной традиции Печоры), об Идолище Поганом, Сокольнике, смерти Святогора, ссоре Ильи с Владимиром, голях кабацких. Использованы также мотивы третьей, самой редкой части «Трех поездок Ильи Муромца» — былины, вообще не фиксировавшейся в Печорском крае. Схематичность пересказа, почти полное отсутствие поэтических формул, бедность языка затрудняют его сопоставление с другими записями. Каких-либо подробностей или эпизодов, характерных только для печорской былинной традиции, в тексте нет. Два сюжета определенно связаны с книжными источниками: вариантом пудожского сказителя Н. Прохорова — «Илья и Идолище» (Рыбн., 118) и сборником Кирши Данилова — («Илья и Калин», № 25; подробнее см. об этом: Новиков, с. 42—43). Рассказ об исцелении богатыря тоже далек от местной обработки сюжета, содержит необычные для нее детали (троекратное угощение Ильи вином, убавление силы вполовину и пр.). В той части, которая посвящена победе над Соловьем-разбойником, слышны отголоски текста Т. Рябинина из Заонежья (Гильф., 75) — освобождение Чернигова, знаменитый финальный монолог Ильи. Сюжет о смерти Святогора содержит некоторые уникальные подробности варианта заонежского сказителя Л. Богданова (Рыбн., 51) — конь советует Илье спрятаться на дереве, Святогор возит жену в «ящике хрустальном» и др. Лишь в способе передачи силы Илье через пену — вероятный след печорской традиции. Приведенные факты позволяют полагать, что С. Маркова пересказала сводную
- 692 -
былину, прочитанную когда-то в книге. (Другие ее тексты также связаны с печатными источниками — см. коммент. к № 29 и 149).
№ 53
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 6, л. 21—29, маш.; БП, № 77 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». ФА VI МФ, 329.3.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
«Текст представляет обычное для Печоры объединение былины о Соловье-разбойнике с сюжетом об исцелении. Но в варианте не обнаруживается каких-либо черт, сближающих его с другими записанными на Печоре текстами. Наоборот, в нем проходят <...> мотивы, хорошо знакомые по известным текстам Киреевского, Рыбникова и Гильфердинга. <...>. Точного следования, однако, указанным вариантам нет, это свободная композиция, составленная по их мотивам. Вероятнее всего, что здесь мы имеем дело или с пересказом уже готовой обработки, ставшей известной Т. С. Кузьмину из какого-либо книжного источника, или с собственной редакцией, созданной на основе прочитанных им былин.
<...> На первое предположение наводит нашу мысль употребление слова „чудо-богатыри“ (строка 166) и необычное окончание былины (строки 239—246), характерное для книжных обработок» (БП, с. 549, 550). В былине Т. Кузьмина особенно много перекличек с вариантом заонежского певца Т. Рябинина (Гильф., 74).
Разночтения БП, № 77
5
По прозванью тут да Илья Муромец
7
И во ту ли пору да вот летьнюю
18
Как и стал-то Илья да тут рукой шевелить
31
Наливает-то он верно втору чарочку
41
Кабы столб да в земле да мне до небушка
№ 54
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 500.1 [«Илья Муромец»]; ИРЛИ, ФА VI МФ, 770.1 (копия).; звуковое прилож. № 8.
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма — от Вокуева Гаврилы Васильевича, 82 г.
Повторная запись (см. коммент. к № 50).
В первоначальной записи, сделанной без припоминания, былина оканчивалась стихами:
Одарил-де старого Илью Муромца,
Кабы принял его да на почесен пир,
Кабы всё-то на етом дело кончилось.В стихе 192 слово «полну» звучит: «поўну».
№ 55
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 18, № 159, л. 155, рукоп. «Исцеление Ильи».
Зап. Коробушкиным И. В.: лето 1980 г., д. Новый Бор Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Дуркиной Александры Николаевны, 72 г.
Примеч. соб.: «Исполнительница плохо помнит текст, говорит, что переняла его от мужа, умершего после войны» (л. 155).
- 693 -
№ 56
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 101а, л. 16 об., 17, рукоп. «Исцеление Ильи Муромца» (пересказ).
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Медвежка Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Кирилловой Матрены Федоровны, 68 лет (уроженки д. Черногорка на р. Нерице).
Примеч. соб.: 1) «М. Ф. и ее муж Онисим Прокопьевич — староверы, поэтому отказались петь, т. к. „петь в пост грех“»;
2) М. Ф. назвала былину «стариной» и «бывальщиной». Переняла ее от отца Федора Дмитриевича Поздеева.
Многословный, но бедный по содержанию пересказ основных мотивов былины об исцелении Ильи Муромца. Возможна его связь с устной традицией Печоры — старец исцеляет богатыря-сидня водой из разных источников.
№ 57
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 20, л. 48—52; рукоп.; МФ, кас. 25, ст. 1 (пересказ былины об Илье Муромце).
Зап. Вдовченко Н. В.: лето 1980 г., хутор Алёхино (рядом с сел. Сергиево-Щелья) Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Семеновой Марфы Алексеевны, 63 г. (уроженки д. Барашки).
Примеч. соб.: «Исполнительница назвала пересказ былины сказкой. Слышала она ее от своего деда» (л. 52 об.).
В строках 35, 40, 72, 87, 109, 163 — пропуск слов собирателем.
В пересказе соединены три сюжета: об исцелении Ильи Муромца, о Соловье-разбойнике и Калине-царе (вторая версия). Такой же тип контаминации см. в № 43, 49 и в сводной былине об Илье Муромце (№ 48). В тексте встречаются характерные для местной традиции подробности и формулы (Илья — слепой, он говорит каликам: «Я не то вам подать, я от вас принять готов»; Соловей-Разбойник сидит «на семи дубах, семи поддубках» и др.). Текст дефектный, лексика модернизируется («бутылка», «стопка», «механизация»).
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК (№ 58—63)
Одна из самых популярных героических былин, отличающаяся разнообразием деталей, широкой географией бытования основных композиционных типов, которые редко укладываются в рамки одного региона. Во многих районах сюжет осложняется вводными эпизодами, часто контаминируется с другими эпическими песнями об Илье Муромце. «Распространение в XIX и начале XX в. дешевых печатных изданий этой былины и лубочных ее пересказов оказало влияние на тексты некоторых исполнителей» (Аст., I, с. 607). Большинство печорских записей относится к той версии сюжета, которая включает мотив трех дорожек и рассказ о встрече богатыря с разбойниками. В наиболее полных текстах использован также мотив трех застав. Соловью-разбойнику отводится роль последнего, самого трудного препятствия на пути героя. Эта версия зафиксирована и в других районах, порой удаленных от Печоры на многие сотни километров (см., напр., выгозерский вариант, содержащий еще и описание поездки Ильи в ту дорожку, «где женату быть», — Гильф., 271). Эпизод освобождения русского города, осажденного «силой неверной», не характерен для печорской традиции, он отмечен лишь в одном тексте, восходящем к устным источникам (№ 50), и в трех книжных по происхождению вариантах (№ 53, 62 и Прилож. II, № 2). В соседних районах — на Пинеге, Мезени и особенно на Кулое — этот эпизод фиксировался гораздо чаще. Оригинальных деталей и формул в печорских записях немного. Нередко указывается, что на прямоезжей дороге в Киев «мостики нынь подгнили» («приломаны»); Соловей Рахматович сидит «на семи дубах, на семи падубках»; сбив противника стрелой, Илья Муромец «коня подганивал, Соловья на землю не уранивал, на полетике его подхватывал». Длина прямоезжей и окольных дорог измеряется не верстами, а продолжительностью поездки по ним («премой дорогой ехать тебе три года, кривою дорогой ехать тридцеть лет»—42, см. также № 40, 46, 61). В вариантах из сборника Н. Ончукова (№ 40, 41) и некоторых более
- 694 -
поздних записях (№ 49, 50) в финальном эпизоде нет нарушения Соловьем-разбойником приказа Ильи Муромца свистеть «в полсвиста»; возможно, этот мотив был изначальным в печорской традиции и лишь позднее трансформировался под влиянием лубочных изданий (см. варианты отца и сына Поздеевых, где такая замена очевидна—40, 45). В составе контаминированных текстов см. № 40—43, 46—54, 57, 61, а также коммент. к Прилож. III, № 1 и Прилож. II, № 2).
№ 58
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 2—6 (полев.), тетр. 3, л. 54 об. — 57 (перебел.); Аст., I, № 69 «Про старого».
Зап. Астаховой А. М.: 15 июля 1929 г., д. Карпушевка Усть-Цилемского р-на — от Носова Самойлы Михайловича, 59 лет.
Текст записан со слов. Исполнитель лишь показал былинный напев, который близок напеву Н. П. Носова (см. нап., Аст., I, XI).
Несмотря на скомканный конец и пропуск некоторых эпизодов, вариант С. Носова в основном передает печорскую редакцию сюжета. Мотив трех застав редуцирован, но в прототексте, видимо, описывалось столкновение богатыря с разбойниками — от него сохранился эпизод с подкопами, в которые «обрюшился» конь Ильи (ср. № 41, а также № 44, где этот эпизод включен в рассказ о попытках дочерей Соловья выручить отца). Описание «наусед-седого» богатыря и его коня встречается еще в нескольких северо-восточных записях (см. № 40, 41, 45, 61, а также Григ., III, 8 — Мезень). В этой былине, повествующей о первой поездке Ильи Муромца (часто сразу после исцеления), такая формула неуместна и может рассматриваться как косвенное свидетельство сравнительно недавнего включения мотивов из «Трех поездок Ильи Муромца» в сюжет о победе над Соловьем-разбойником.
Разночтения Аст., I, № 69
3
Купцей и людей торговыих
№ 59
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 11, л. 47 об. — 49 (полев.), тетр. 3, л. 50, 51 об. (перебел.); Аст., I, № 48 «Про старого» (отрывок).
Зап. Астаховой А. М.: 13 июля 1929 г., д. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Савелия Дементьевича, 62 г.
«Текст представляет лишь отрывок былины, интересный как свидетельство о бытовании ее и по р. Пижме. От былины осталась голая схема. Конец забыт. „Сторожа“ у ворот — очевидно, след позабытого эпизода с подворотней» (Аст., I, с. 608).
№ 60
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, рукоп., л. 6, 6 об. «Про первую поездку Ильи Муромца».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Былину перенял от Безумова С. А.
Текст содержит основные элементы печорской редакции сюжета; некоторые редкие мотивы и подробности роднят его с вариантом П. Поздеева (№ 40) — глухой намек на заповедь богатыря «не ставать со добра коня», упоминание застав на прямоезжей дороге, «мужиков малокерчан» (у П. Поздеева — «мужики-новотокмяна», см. также № 45). Иронически сниженное описание детей Соловья-разбойника, пытающихся освободить
- 695 -
из плена главу своего рода (строки 109—112), есть еще в одном нижнепечорском варианте (№ 42). Сказитель воспринимал Соловья-разбойника как чудовищную птицу (см. строка 219). Стычка Ильи с Алешей Поповичем во время церковной службы — перенос из местной редакции былины о Дюке Степановиче. Оригинальна формула выпивания богатырской чары зелена вина (строки 169—171). Видимо, при записи отдельные фразы были пропущены, что приводит к нарушению логики повествования (в строках 45—47 не ясно, о каком «залоге» идет речь; в строках 98—100 пропущено какое-то действие героя; судя по строке 105, в разговоре должна была участвовать еще одна дочь Соловья-разбойника).
№ 61
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 146—153, маш., «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; БП, № 1 «Илья Муромец».
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
В строках 35 и 38 исполнительница ошибочно назвала мужиков-разбойников (подорожников, станичников) русскими богатырями.
А. Носова объединила в одно произведение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Илья Муромец и Калин-царь». (Такие же контаминации см. в № 44, 48.) Первый сюжет дан в обычной для Печоры редакции (мотив трех дорожек, расправа богатыря с тремя «мужиками», заменившими традиционных разбойников). В корне переработан эпизод столкновения Ильи с родственниками Соловья (строки 75—87), он передан не былинным слогом, а стилизован под былину; единственная эпическая формула (строки 81, 82) перенесена из финальной сцены. Рассказ об отражении вражеского нашествия на Киев представляет собой вторую версию сюжета «Илья Муромец и Калин-царь» (предводитель «силы неверной» не назван по имени). Герой справляется с врагами в одиночку, однако сохранился рудимент более сложного композиционного типа (отказ богатырей служить князю Владимиру — строка 205). В этой части текста преобладают бытовые разговорные интонационные конструкции, далекие от эпического стиля (см. строки 146—151, 209—217, 235 и др.).
№ 62
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 411, л. 531—533, маш.; РФ, № 3, 1957, с. 263, 264; БП, № 35 «Старина про стара казака Илью Муромца» [«Илья Муромец и Соловей-разбойник»]. ФА VI МФ, 209.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 19 авг. 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.
Небольшой по объему, но стройный и выразительный вариант. Среди печорских записей стоит особняком, так как относится к той версии сюжета, что распространена в Прионежье и не фиксировалась на северо-востоке; многими особенностями примыкает к рукописным пересказам XVII—XVIII вв. так называемой краткой себежской редакции (см. об этом: БП, с. 537, 538). Устные источники текста Н. Ермолина маловероятны; он повторяет композиционную схему, многие подробности и формулы варианта известного пудожского сказителя Н. Прохорова (Рыбн., 116), который перепечатывался в дешевых популярных изданиях былин. Наиболее показательно повторение специфических особенностей прохоровского текста: на прямоезжей дороге «калиновы мосты все разворочены» (у Прохорова «переворочены»); Илья освобождает «Быкетовец-град» («Бекетовец»), который окружили «литва поганая» («проклята погана Литва»); размышления богатыря о необходимости нарушить «заповедь великую» (строки 18—20 у Ермолина, 36—38 у Прохорова); выражение «замызгал тут собака да по-собачьему» (то же у Прохорова); приезд Ильи в Киев во время обедни и его рассказ о «двух одержках великих» (у Прохорова — «три помешки великие», так как описывается еще и столкновение героя с родственниками Соловья-разбойника). Единственное отступление от прохоровской редакции — отказ Ильи принять дары освобожденных бекетовцев. Все эти подробности отсутствуют в печорских вариантах, связанных с местной традицией. Вместе с тем в тексте Ермолина нет ни одной формулы, характерной для печорских сказителей.
- 696 -
Разночтения РФ № 3 и БП № 35
2
А во ту он субботу да во христовскую (БП)
3
Как в заутренню поспеть ой во стольной Киев-град (РФ)
11
Как бы в пути-то ле мне да во дорожечке (РФ)
Как-де бы в пути-то ле мни да во дорожочки (БП)
12
Ах как рук бы ды своих да не кровавити (РФ, БП)
16
А все ходят во слезах да во великиих (БП)
26
Мне не надо ведь вашо да злато-серебро (БП)
38
Ах от свиста-то ты да на колени пал (БП)
65
Ах пошли тут они ко добру коню (БП)
№ 63
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 12, № 86, л. 39, 40; рукоп.; МФ, № 4, ст. 1 [«Илья Муромец и Соловей-разбойник»].
Зап. Голосновой Т. Б.: лето 1980 г., д. Карпушевка Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Ивана Егоровича, 83 г.
Замечание исполнителя: «Вот на этом и закончу. Конечно, она дальше была, эта старина. Но тогда я еще молодой был. Отец покойный, он в 70 лет помер, давно уж» (л. 40).
Начало этого прозаического отрывка перекликается с сюжетом «Илья Муромец и Сокольник», но далее следует описание боя Ильи с Соловьем-разбойником, в котором использован ряд местных формул. Редкая деталь содержится в наговоре богатыря на стрелу: он велит ей поразить Соловья и вернуться обратно (ср. такие же акценты на точное исполнение стрелой воли хозяина в № 41, а также в некоторых мезенских и кулойских текстах).
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИДОЛИЩЕ (№ 64—66)
Этот сюжет, один из самых популярных в цикле былин об Илье Муромце (см. Аст., I, с. 594), в печорском эпическом репертуаре занимает скромное место. Большинство вариантов — путаные и невыразительные. Во всех записях действие происходит в Киеве, в двух — непосредственному столкновению героя с противником предшествует нарушение Ильей запрета просить милостыню ради Христа или произносить свое имя (этот мотив популярен на Пинеге, встречается в мезенских и золотицких вариантах — см. Аст., I, с. 595). Как и в других северо-восточных записях, от могучего удара Ильи Идолище вываливается на улицу «со всем ле с простенком межоконныим». Обычно подчеркивается нежелание калики поменяться платьем с богатырем, иногда оно получает рационалистическое объяснение (см. коммент. к № 48). Варианты отца и сына Поздеевых осложнены включением сюжета «Илья Муромец и голи кабацкие».
В составе контаминированных текстов см. № 48, 52, 106, 108, а также коммент. к сводному пересказу А. Бажукова (т. 1, с. 301, 320, 502, 510; т. 2, Прилож. VII, № 1).
№ 64
ИРЛИ ФА I ФВ, 1178.1 [«Илья и Идолище»].
Зап. Федоровым Д. Г.: 1914 г., д. Устье Пустозерской вол. — от Усачева Ивана, возраст не указан.
Начало былины о победе Ильи над Идолищем. Близких параллелей в других печорских записях не обнаруживается. В тексте есть оригинальные детали: обычно безымянный калика-вестник здесь назван Васькой Пинежским и к тому же является кумом Ильи Муромца; Идолище напоминает скорее летающего змея, чем великана, как в других печорских вариантах.
Строки 27—29 на фонограмме не прослушиваются.
- 697 -
№ 65
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 66 об., рукоп., л. 8, 9, маш.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 4, л. 1, 2, маш; Л., 1939, № 2; Л., 1979, № 8 «Идолище в Киеве».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Сюжет разработан в традиционном плане, но вместо переодевания Ильи в платье калики используется чужеродный в эпосе мотив — богатырь изменяет свой облик с помощью «капель старых» (то есть старящих). Отход от традиции, вторжение бытовой лексики чувствуется и в некоторых других подробностях: вместо попа Ростовского Илья вспоминает «маменьку родимую», расправляется с Идолищем, «свистнув взаимно» «кирпичиной», которую он выхватил из печи.
Разночтения Л., 1939, № 2 и Л., 1979, № 8
3
Ушищи — как сильны блюдища (1939; 1979)
9
Скрылся старой да во городе (1939)
14
Чтобы не поминали Ильи Муромца (1939)
После 20
Сидит Идолище поганое (1979)
21
За одну щеку кладет тот буханочку (1939)
29
Попросил он у солнышка (1939)
Попросил он у солнышка Владимера (1979)
30
Подать милостыню ради Христа (1939)
34
Свистнул он в калику перехожую (1979)
36
Увернул он от ножа булатного (1939)
39
Свистнул взаимно во черны груди (1939)
Свистнул взаимно во черны груди (1979)
(Гостинцы!)
№ 66
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр 1, № 357, л. 41, 42, рукоп. МФ, кас. 19, дор. 2 «Илья и Тугарин».
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочная на р. Пижме).
Попытки припомнить содержание былины «Илья Муромец и Идолище», видимо, читанной исполнителем в молодости (см. его заключительные ремарки). Отказ Ильи «кровавити палаты царские» — мотив, не известный устной печорской традиции.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОКОЛЬНИК (№ 67—99)
Подавляющее большинство записей этой былины сделано на европейском Севере России. Северо-восточные редакции сюжета (печорские, мезенские, кулойские, часть золотницких и поморских текстов) принадлежат к одной версии, для которой характерно развернутое описание богатырской заставы, «введение в качестве действующего лица (а не только упоминаемого) матери <...> изображение охотничьих атрибутов Сокольника (ловчие звери и птицы)» (Аст., I, с. 611); сына Ильи Муромца обычно именуют Сокольником или Подсокольником. Отдельными элементами с этой версией перекликаются некоторые кенозерские записи, а также два очень близких друг другу варианта из Шенкурского (Кир., I, с. 46) и Архангельского (Кир., IV, с. 6) уездов, которые неоднократно перепечатывались и обрабатывались составителями популярных сборников и хрестоматий. В Печорском крае былина о бое Ильи Муромца с сыном занимает первое место по количеству записей (свыше 30),
- 698 -
большинство стихотворных вариантов отличается высокими художественными достоинствами. На протяжении почти целого столетия местная редакция сюжета устойчиво сохранялась в живом бытовании, ее специфические особенности легко обнаруживаются даже в дефектных, полузабытых текстах и отрывках (см. коммент. к № 78, 114, 313, Прилож. I, № 18—22 и др.).
Около половины печорских записей сделано в нескольких деревнях на реке Пижме, их уроженцы занесли местный извод былины в другие районы Печорского края (см. коммент. к № 78, 85, 98). Пижемские варианты отличаются устойчивостью композиции, богаты оригинальными деталями и выразительными формулами, не встречающимися в других северо-восточных записях, в том числе и в текстах с Печоры. Среди богатырей, охраняющих Киев на заставе, называется Мишка Торопанишка, «рода торопливого»; в описании Сокольника используется отрицательный параллелизм («Не Буян ле славной остров там шатаитсе, да не Саратовы ле горы да знаменуютсе»); отводя богатырей, которые не смогут одолеть врага, Илья Муромец говорит: «За невид („незавид“) потеряет буйну голову»; отправляя опозоренного Алешу (или Добрыню) на заставу, Сокольник иронически передает «низкой поклон» Илье и предупреждает: «Да пускай вами, г<овнами>, не заменяетця, самому ему со мной не поправитцэ»; чудесное избавление Ильи от смертельной опасности во время поединка («вдвое-втрое силы прибыло») обычно сопровождается формулой, связанной с морскими впечатлениями: «Вдруг не ветру полоска да перепахнула» (ср. один из мезенских текстов — Григ., III, 42); временное поражение богатыря мотивируется его хвастовством: «Подоспело („спутало“, „попутало“, „сретило“) его слово похвальнёё»; мать Сокольника нередко называется «поляницей да одноокой». Некоторые подробности и формулы роднят пижемские варианты с записями со Средней Печоры: богатыри стоят на заставе «недалёко от Киева, за двенадцать вёрст»; Сокольник прямо в седле пишет «ярлыки скоры грамотки»; догнав противника, Добрыня говорит ему: «Если русьской богатырь, то поворот даю, если не русьской богатырь, то я напуск держу»; возвратившись к матери, Сокольник обзывает Илью «собакой ярыжливой», «старой коровушкой базыковой». В пижемских текстах встречаются некоторые формулы, известные по записям из других северо-восточных районов, но не зафиксированные на Средней и Нижней Печоре: Добрыне ведут коня «с семи цепей, с семи розьвезей» («с восьми ремней»); различные виды оружия обобщенно обозначаются словом «бой» («тем боем друг друга не ранили», «бросили тот бой на сыру землю»). Вместе с тем в пижемском изводе отсутствуют отдельные эпизоды и общеэпические формулы, имеющиеся в других печорских записях, — ни в одном варианте не рассказывается о рождении и детстве Сокольника, нет формулы «по колена в землю утопталися», «видно, старому мне замены нет»; не упоминается, что Илье «в поле смерть не писана». Специфические особенности этого извода наиболее полно представлены в былинах Федосьи Чуркиной, Еремея и Леонтия Чупровых (№ 67, 88, 91).
Обилие оригинальных формул и подробностей не выводит пижемские тексты за пределы печорской редакции сюжета. Как правило, они касаются частностей, словесного оформления общепечорских мотивов и эпизодов; сюжетная схема былины во всех уголках этого обширного региона остается неизменной. К тому же целый ряд своеобразных формул зафиксирован на всей территории Печорского края. Это — угрозы Сокольника взять Илью Муромца «в прикащики», Добрыню — «во писари», Алешу — «чашки-ложки мыть» и т. д.; описание его расправы с Добрыней или Алешей («Да и дал ему по ж<опе> два потяпыша, да и прибавил ему два алабыша») (за пределами печорского региона эти два мотива отмечены лишь в одном мезенском варианте — Аст., I, 2); надежды Ильи на легкую и скорую победу («А не успеете вы щей котла сварить, да привезу погану да буйну голову»); упреки Сокольника матери («Тебя зовет б<лядкой>, а меня выб<блядком>») и ее ответ («Не пустым-то молодець похваляитцэ») (предпоследняя формула зафиксирована однажды на Мезени — Аст., I, 20). Если в других редакциях сюжета Сокольник подбрасывает «под облаки» палицу или меч, на лету подхватывает оружие и угрожает Илье Муромцу («Как я владею палицей, так владеть мне старым казаком»), то в печорских текстах этой угрозы нет, Сокольник «тешится» стрельбой из лука, на лету подхватывая выпущенную стрелу. Лишь в двух вариантах упоминается «палочка», причем в одном из них — вместе со «стрелочкой» (№ 76, 79). Своеобразна печорская формула, выражающая недовольство киевских богатырей вызывающим поведением «нахвальщика»: «Нас ничем зовет, ни во что кладёт». Подробное изложение предыстории Сокольника, характерное для среднемезенской редакции и некоторых других вариантов (см. Аст., I, с. 611), на Печоре встречается в 4 текстах (по 2 с низовьев и среднего течения — см. № 74, 76, 84, 87).
В составе контаминированных текстов см. № 48, 52.
- 699 -
№ 67
Онч., № 1 «Застава богатырская» [«Илья Муромец и Сокольник»].
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Чуркина (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. — от Чуркиной Федосьи Емельяновны, 55 лет (уроженки д. Аврамовской на р. Пижме).
«Эту былину знала твердо и спела прекрасно» (Онч., с. 4).
Самый полный печорский вариант былины; первая по времени фиксация охарактеризованного выше пижемского извода. Перечисляя богатырей, стоящих на заставе у Киева, певица назвала 17 имен, среди них и Скопина Ивановича. (Случай единственный, но закономерный, так как в этом районе историческая песня о смерти Скопина приобрела многие черты былин.) Интересно редкое для местной эпической традиции упоминание «славного поля Кулигова» (строка 59, ср. № 89), а также описание чудесных перьев морского орла в строках 72—76 (ср. № 69 — в другом контексте). Подобная формула часто встречается в былине о Дюке Степановиче, но на Печоре она отмечена лишь в одном варианте этого сюжета (№ 139). Необычный штрих — включение воробья в состав «охоты» Сокольника (см. также № 73). Ф. Чуркина — одна из немногих печорских сказителей, которые ввели в былину краткое воспоминание Ильи Муромца о его бое с матерью Сокольника (см. № 68, 84, 87, 88).
В подстрочнике восстановлен выпущенный собирателем при публикации отрывок былины (строки 50—99).
Примеч. соб. к строке 29: «Больше богатырей Ф. Е. вспомнить не могла, как ни старалась, но сказала, что прежде помнила всех».
31 июля 1956 г. отрывок былины, записанной от Чуркиной, спел Суслов Никандр Иванович, имея перед глазами сборник Ончукова (ИРЛИ, ФА VI МФ, 324.1. звукозапись Ф. В. Соколова в д. Лабожское Нарьян-Марского р-на Архангельской обл.):
Как-де жили на заставы богатыри,
Недалёко от города от Киёва,
Недалёко-то жили они тут пятнадцать лет.
- 700 -
Как бы тридцать их было со богатырём;
Не видали не конного, не пешого,
Не прохожого оне тут, не проежжого,
Да не серай тут волк и да не прорыскивал,
Не ясен-то сокол да не пролетывал...Н. И. Суслов был остановлен, поэтому дальше не пел.
№ 68
Онч., № 6 «Бой Ильи Муромца с сыном».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
А. Осташов опустил описание неудачных попыток других киевских богатырей противостоять Сокольнику, на бой с ним сразу выезжает Илья Муромец. В остальном текст не выходит за рамки пижемского извода, хотя и не содержит всех его деталей и подробностей. Сравнение Ильи с выпархивающим «куропатем» — перенос из былины «Илья Муромец и Калин-царь» (см. также № 72). Формула «заневид потеряшь буйну голову» обращена к Сокольнику, а не к одному из русских богатырей, как обычно.
№ 69
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 13, л. 42—53 об. (полев.), тетр. 3, л. 72—77 об. (перебел.); Аст., I, № 87 «Недалеко от Киева» [«Про старого»].
Зап. Астаховой А. М.: 21 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Николая Самсоновича, 79 лет, и Поздеева Михаила Алексеевича, 33 г.
В перебеленной записи и полевой (тетр. 13, л. 52 об.) в строке 194 после первого слова — пропуск.
«Текст представляет самый полный и стройный вариант данной былины из записанных нами на Печоре, очень близок к тексту Чуркиной (Онч., № 1, 67 нашего издания), но короче его». (Аст., I, с. 614). Н. Торопов использовал редкие на Печоре формулы: описание «пера ёрлиного» (строки 45—51), пышущей огнем стрелочки (строки 39—40). Необычен эпитет «Долгополы два брата полонённые» (ср. № 89 и дополнение Г. Чупрова к тексту Е. Чупрова — коммент. к № 70); именно этим обстоятельством Илья мотивирует отвод братьев («А от не нашей земли они, неверьные, а доспеют бы изменушку великую»).
Разночтения Аст., 1, № 87
27
Как гледел ле смотрел на все стороны
68
Как цитает Дунэй, сам россказыват
148
Посмотреть он хоцёт его ретиво серьцё
152
Ты какого отця да какой матери
158
Застоелась его дак во локтю рука
194
Он хватил ле тут матушку родимую
№ 70
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 3 об. — 12 (полев.), тетр. 3, л. 2—9 об. (перебел.); Аст., I, № 57, нап. IX «Про старого». ФА I ФВ, 656.2; СП, нап. с. 51, 52; БРМЭ, № 59а, нап. с. 305.
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Еремея Провича, 39 лет.
- 701 -
Начало былины в исполнении братьев Чупровых (Еремея, Якова, Климентия) и сына Еремея Провича — Лариона записано на фонограф:
При записи на фонограф строки 9—15 были пропущены. В полев. тетр. строки 13—15 записаны вне текста. Гаврила Иванович Чупров (из той же деревни) дополнил перечисление богатырей на заставе:
Ещо было два брата Долгополыих,
Долгополыи два брата, полонёныи:
Лука-де, Матвей, дети Петровичи.См. также № 69, строки 9, 10.
В 1978 г. экспедицией МГУ записан текст былины об Илье Муромце и Сокольнике от племянницы Е. П. Чупрова Марфы Никифоровны Поташовой (см. № 95), которая переняла её от дяди (см. коммент. к № 95). От второй племянницы — Мяндиной Евдокии Малафеевны, записаны тексты № 92, 93.
- 702 -
Былина записана от Е. Чупрова трижды (см. № 81 и 88). Несмотря на прозаическое окончание, эти варианты относятся к числу лучших печорских записей «Ильи Муромца и Сокольника», включают практически все специфические особенности пижемского извода. Через 35 лет после первой записи Чупров почти дословно повторил свой первый вариант, на том же месте прекратил пение и перешел на прозу. (В 1955 г. это окончание не было записано — собиратель ограничился собственным его пересказом.) В стихотворной части разночтения выразились в пропуске отдельных строк и дополнений текста единичными стихами, замене некоторых слов и выражений синонимами («поправитцэ» — «справитьсе», «в полон возьму» — «под меч клоню» и т. п.); в повторной записи есть лишь одна новая подробность, традиционная на Пижме, — мать Сокольника названа «богатырицей одноокой». Устойчивой по содержанию и словесному оформлению оказалась и прозаическая часть былины; в записи 1964 г. чуть подробнее рассказано о связи Ильи Муромца с матерью Сокольника, о рождении и детстве его сына, а также введено рационалистическое объяснение того факта, что соратники Ильи не предотвратили нападения Сокольника на спящего богатыря («от страху убежали все»). Интересно варьирование социально-этнической принадлежности Сокольника: выезжая на бой, Илья обещает привезти «тотарьску буйну голову» (запись 1929 г.), «боярьскую» (1955), «царску» (1964); в былине Ф. Чупрова, считавшего Е. Чупрова своим учителем, — «татарску» (№ 85).
Разночтения Аст., I, № 57
1
Ай да не близко от города, не далёко ж не
2
Не далёко от Киева — за двенадцэть вёрст
6
Караулили, хранили стольнёй Киев да град
6
Не прохожёго ой ни да ле приезжёго
14, 15
следует после 6. Вариант 15: пробегиват
59
Заев ид потерят свою буйну голову
Былина была записана 15 окт. 1965 г. на ВСГ «Мелодия» (Москва): грампластинка Д-025677,
№ 71
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 14 об. — 19 (полев.), тетр. 4, л. 1—4 об. (перебел.); Аст., I, № 79 [«Илья Муромец и сын»].
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Поздеева Ивана Петровича, 64 г.
От отца исполнителя, П. Р. Поздеева, былина на этот сюжет не записана (Аст., I, с. 614). В перебеленном тексте к строке 57 в скобках добавлено: «таковы слова» (л. 3).
Относится к редакции, к которой восходят многие печорские варианты этого сюжета, но вместе с № 72 выделяется особым концом: эпизодов покушения на жизнь Ильи и гибели сына нет, кроме того, эпизод с крестом передвинут в середину былины. В каждом из этих вариантов есть традиционные печорские подробности и формулы, отсутствующие в другом. Сын Ильи Муромца не назван И. Поздеевым по имени; в погоню за ним первым выезжает Алеша Попович, а не Добрыня, как в большинстве печорских текстов (см. также № 48, 73, 74, 81, 87). В комментируемом варианте это — результат механической замены имен, поскольку Алеше приписываются качества, свойственные обычно Добрыне («роду вежливого и очесливого» и т. д.).
№ 72
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 8, л. 23—31 об. (полев.), тетр. 2, л. 29 об. — 34 (перебел.); Аст. I, № 70 «Сокольник».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 65 лет.
К В. П. Носову во время исполнения былины присоединились Иван Григорьевич Носов, 40 лет, и Авдотья Игнатьевна Дуркина, 60 лет.
- 703 -
Запись на ФВ 7 июля 1929 г. Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд. — ФА I ФВ, 598.1.
В полевой записи (тетр. 8, л. 23 об.) и перебеленной после 15 строки неполная строка: «А на... старый». В 157 строке перебеленной записи на месте слова «паленица» — пропуск, в полевой записи — неопределенный значок (тетр. 8, л. 31).
Обилие совпадений с предыдущими текстами — наглядное свидетельство большой близости устьцилемских и пижемских вариантов, их принадлежности к одной редакции сюжета. Необычна развязка былины — примирение Ильи Муромца с сыном (см. также предыдущий текст). Эпизод с крестом, спасающим Илью от смерти, перенесен из традиционного финала в описание поединка. Сравнение богатыря с белым куропатем заимствовано из сюжета «Илья и Калин» (см. также № 68).
Подробнее о былине см. Астахова, 1, с. 613, 614.
- 704 -
Разночтения Аст., I, № 70
67
А и тут стал Добрынька им рассказывать
106
Кабы левая рука опустилася
159
А ще как та нонече паленица, право, Златыгорка
№ 73
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 63, 63 об., рукоп. «Илья Муромец и Сокольник»; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 1, 1 об., рукоп.; Л., 1979, № 6 «Про Сокольника».
Зап. Леонтьевым Н. П.: в начале 1938 г., д. Голубково Нарьян-Марского р-на — от Маркова Игнатия Терентьевича, 80 лет.
Строки 41, 100, 101, 115, 138—145, 159, 172 даны по рукописи, хранящейся в РГАЛИ. Там же примеч. соб.:
1) к строке 176: «После описания расправы Сокольника с матерью Игнатий Терентьевич выражает свое удивление: „Самому только 12 лет, а вон какой непобедимый Егорий был“»;
2) к строкам 189—195: «Строчки „крест серебряной в полтора пуда“ и дальше — „Илью посмотреть еще мертвого“ — не то составная часть текста былины, не то замечание сказителя, т. к. он не пел эти строчки, а сказал обычным тоном»;
3) на л. 1 об.: «Закончив петь, Игнатий Терентьевич сказал: „Старина эта исконна. Уж, видно, люди были таки могутны, вот про них и пели“».
В былине И. Маркова, наряду с чисто печорскими формулами (зачин — описание заставы, угрозы Сокольника, его расправа с Алешей Поповичем, диалог с матерью и др.), встречаются элементы, характерные для мезенских редакций (от рева Сокольника валятся с ног богатырские кони Алеши и Ильи). Своеобразен способ нападения Сокольника на спящего Илью Муромца — стрельба заговоренной стрелой; формула заговора ближе всего к той, которая встречается в первой версии былины «Илья Муромец и Калин-царь» (на Печоре эта версия не записывалась).
Разночтения Л., 1979, № 6
11
У нас же — де во поле по-старому
16
И ломает наши яблоки кудрявые
23
Заходит тут Илья во белой шатер
31
Он поехал к удалому добру молодцу
35
Ты зачем залетела в зелены сады (неспрося)
41
отсутствуют
63
Седлал он седло черкасское
После 88 ремарка
(друг на дружку)
100, 101
отсутствуют
110
Вынимает кинжалище — булатен нож
115
отсутствует
119
И сбросил он Сокольника со могучих плеч
121
Вынимает он кинжалище — булатен нож
Вместо 137
В плече рука остоялася (опять не может убить)
38—145
отсутствуют
159
отсутствует
161
Жил я там ровно полмесяца
171
Не видал ли ты старого на поле
172
отсутствует
181
А сам ко стрелы приговариват
- 705 -
№ 74
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 72, 72 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1—10, маш.; Л., 1939, № 3; Л., 1979, № 7 «Илья Муромец и Сокольник».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 1 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Былину перенял от Дитятева А. И.
Строка 41 публикуется по Леонт., № 3, 1939: в рукописи эта строка — «Впереди его бежит большой левый зверь».
В рукописи пропуски и примеч. соб.:
1) после строки 205: «и т. д. до слов „ретиво серцо“»;
2) после неполной строки 210: «и т. д. до слов „ни твоего отца, твоей матери“»;
3) после строки 223: «и т. д. до слов „величают удалого по отечеству“».
Пропущенные места восстановлены по соответствующим строкам рукописи: 187—189, 192—203, 187—195.
Подробный рассказ о детстве Сокольника, открывающий эту былину, роднит ее со среднемезенской редакцией сюжета. (На Печоре записано еще 3 текста с таким началом — см. общий обзор вариантов.) В остальном былина В. Тайбарейского не выходит за рамки местной традиции, отличаясь, как и другие тексты этого сказителя, стройностью композиции, отточенностью поэтических формул (см., напр., описание «охоты» Сокольника, его угрозы киевским богатырям, рассказ о том, как Илья снаряжается для боя и выезжает на поединок). Особенно впечатляюще гиперболизированное описание падения Ильи «на сыру землю» в строках 167—170. Сказитель употребляет глагол «пасти» в его древнем значении («пасут-берегут стольной Киев-град»); у других печорских певцов «караулили-хранили», «берегли-стерегли».
Разночтения Л., 1939, № 3 и Л., 1979, № 7
7
Он вздымать замог палицу буёвую (1979)
30
Не ради басы, а ради крепости (1979)
38
И поехал он ступцой по чисту полю (1979)
39
отсутствует (1979)
41
Впереди его бежит большой черной медведь (1979)
42
отсутствует (1979)
49
Он разметыват их по полю чистому (1979)
57
Эту крепкую заставу великую (1939, 1979)
63
В одних беленьких чулочках без чоботов (1979)
71
Говорит тогда старой да таковы слова (1979)
86
Уж ты серая ворона пустоперая (1939)
Ух ты, серая ворона пустоперая (1979)
109
Не по-старому едет, не по-прежнему (1939, 1979)
113
И стал Олешка рассказывать (1979)
117
Он Добрынюшку Микитича — во писари (1979)
133
Увидели: во поле курева стоит (1979)
148
Не до вас стало, не до вас пришло (1979)
154
Еще все ихны сабельки исщербилися (1979)
159
По насадочкам их копья изломалися (1979)
164
Еще бродят молодцы по колен в земле (1979)
176
Пресвята мать божья богородица (1979)
183
Завернулся он ему на черны груди (1979)
184
Разрывал он ему да латы-панцыри (1979)
186
Вынимал он кинжалище — булатный нож (1979)
188, 222
Мешать собаке кровь со печенью (1979)
- 706 -
195, 229
Как тебя, молодца, именем зовут (1979)
204
Вынимал старой кинжалище — булатен нож (1979)
207
Вынимать его ретиво сердце (1979)
208
В заведи рука права остоялася (1979)
219
И хотел вынимать ретиво сердце (1979)
222
Вынимал Илья Муромец кинжалище — булатен нож (1979)
223
И хочет он пороть груди черные (1979)
224
Мешать собаке кровь со печенью (1979)
225
Вынимать его ретиво сердце (1979)
226
В заведи рука права остоялася (1979)
231
отсутствует (1979)
239
И брал его за белы руки (1979)
246
И поехал он к морю холодному (1979)
255
Уж ты ой еси, чадо любимое (1979)
164
И ссек у ней со плеч буйну голову (1979)
269
И поехал он к старому Илье Муромцу (1979)
270
отсутствует (1979)
278
В одной беленькой рубашечке и без пояса (1939)
В одной беленькой рубашечке без пояса (1979)
279
В одних беленьких чулочках и без чоботов (1939)
В одних беленьких чулочках без чоботов (1979)
280
отсутствует (1979)
284
И кончил тогда его вечну жизнь (1979)
№ 75
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 67, 68 об., рукоп., л. 10—15, маш. «Про Сокольника»; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 43, л. 6—9, рукоп.; Л., 1979, № 5 «Про Сокольника» [«Илья Муромец и его сын Сокольник»].
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
В рукописи встречаются строчки точек, пропуски отдельных слов и стихов, которые восстановлены на основании указаний собирателя: строки 34—37, 57—60, 62, 63, 74—77, 91, 92, 95, 96, 126, 127, 132—136, 139—141. В строке 130 рукою соб. исправлено «не отца, не матери» на «ни отца, ни матери».
Одна из первых записей этого сюжета на Нижней Печоре. Общее построение былины и некоторые формулы типичны для местной редакции (описание поездки Сокольника, его диалог с матерью). Однако в тексте есть особенности, роднящие его с мезенскими записями: на заставе стоят только три богатыря — Илья, Добрыня и Алеша; Сокольник устрашает Добрыню своим ревом, от которого «у Микиты конь в окорачь пошел» (ср., напр., Аст., I, 11, 20).
Разночтения Л., 1979, № 5
11
На полете он стрелочку подхватыват
14
На правом плече — млад ясен сокол
18
Соборны церкви сделаю конюшнями
19
Чудны образы я во грязь стопчу
20
Самому князю голову срублю
21
А саму княгинюшку с собой возьму
23
Будил он Олёшеньку Поповича
- 707 -
42
Не ради басы, а ради крепости
43, 77
Не оставил бы молодца в поле добрый конь
73
Седлал он, уздал да коня доброго
81
Говорит-то старой таково слово
85
Хватали они копья очень вострые
98
Схватились они в охапочку
116
Смахнул он невежу со белых грудей
121
Увидел у Сокольника на правой руке
125
Ты коего, молодец, роду-племени
128, 136
Сидел бы у тебя я на белых грудях
130, 137
Не спрашивал бы ни отца, ни матери
132, 139
Ты коего, молодец, роду-племени
133, 140
Ты коего, молодец, да отца-матери
135, 141
Как тя, молодец, да именем зовут
136
Не спрашивал бы ни роду, ни племени
142
И сказал Сокольник старому Илье Муромцу
После 155
Говорит-то его Сокольничек
157
Ехать на заставу мне-ка время нет
158
В третий раз старой его упрашивал
186
Соскочил-то старой на резвы ноги
№ 76
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 95—102, маш.; БП, № 10 «Илья Муромец и сын».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Мяндиной Елены Григорьевны, 69 лет (уроженки д. Карпушовка).
Былину переняла от отца Г. В. Дуркина.
Данный текст по развитию сюжета отличается от известной по прежним записям среднепечорской редакции (БП, с. 529).
Основа сюжета, содержание и оформление ключевых эпизодов традиционны. Вместе с тем многие особенности текста правомерно связывать с личным творчеством исполнительницы, ее попытками «осовременить» древнюю эпическую песню. Сцены, пронизанные «драматическим лиризмом», «психологическим осмыслением взаимоотношений героев» (БП, с. 18), подчас лишены образного начала, невыразительны и многословны, а стих в таких эпизодах скорее напоминает рубленую прозу (см., напр., строки 205—215, 240—244). До Ильи Муромца на бой с Сокольником поочередно выезжают три других богатыря, социальная принадлежность которых четко разграничена: «Василий, сын крестьянский», «Алешенька, сын поповский» и «Добрынюшка, сын купеческий». Подробное описание их неудачных переговоров с Сокольником, наряду с многочисленными психологическими комментариями, приводит к разрастанию текста до 250 строк. Эпизод временного поражения Ильи Муромца опущен — богатырь сразу побеждает соперника. В тексте много новых слов и выражений, не характерных для языка эпической поэзии («защитник всему нашему народу», «винтовочки заряженые», «пули», «юный сын», «христианский сын» и др.). Интересен заговор Сокольника на оружие (строки 23—27), не встречающийся в других записях из северо-восточных районов. Певица переосмысляет некоторые постоянные эпитеты, иногда довольно удачно, напр., «копьё долгометное» (в другом тексте она использовала традиционный эпитет «отецко копьё менно долгомерно»—49). Употребление словосочетания «седелышко зеркальное» — (строка 59) — не редкость в новых печорских записях (см. № 46, 79 и др.).
Примеч. в БП, № 10: к строкам 12, 13: «...явная оговорка в эпитетах, ср. стихи 151, 152».
К строке 51: «С Добрынюшкой» — случайная вставка, ср. стихи 54, 55».
- 708 -
№ 77
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 40—42, маш., «Илья Муромец и сын»; БП, № 22 «Про Илью Муромца».
Зап. Разумовой А. П.; авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Дуркиной Марфы Дмитриевны, 70 лет.
Исполнительница смогла припомнить полтора десятка строк из начала былины, остальные эпизоды рассказала прозой. Сюжетная схема пересказа и некоторые специфические детали, обычные в печорской редакции сюжета, свидетельствуют о связи этого текста с устной традицией. Рассказ Ильи о его знакомстве с матерью Сокольника («Я у твоего тятеньки жил во конюхах») отдаленно перекликается с сюжетом «Дунай и королевна», который на Печоре не зафиксирован. «В стиле пересказа заметно воздействие сказки (сказочная формула „долго деется, скоро сказывается“; концовка-присказка: „Тут и конец, а мне кривой жеребец“; имя героя — Иванушка Сокольничек). На Добрыню перенесена традиционная характеристика Алеши Поповича» (БП, с. 543).
№ 78
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 117, маш. «Застава богатырская»; БП, № 30 «Илья Муромец» (отрывок).
Зап. Сапожниковой Д. Я.: авг. 1942 г., д. Крестовка Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Макара Ивановича, 66 лет.
В исполнении былины «проявляется свойственная М. И. Чупрову манера придавать повествованию шутливый сниженный тон» (примеч. соб.: БП, с. 536).
Начало былины — описание богатырской заставы. Упоминание Мишки Торопанца позволяет отнести этот фрагмент к пижемскому изводу сюжета «Илья Муромец и Сокольник» (М. Чупров родом из Абрамовской на р. Пижме).
№ 79
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 425, л. 567—579, маш; БП, № 43 «Про Сокольника». ФА VI МФ, 213.3; МФ, 212.4 (конец).
Зап. Колпаковой Н. П.: 25 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.
Былину усвоил от дяди со стороны матери — Дуркина Семена Васильевича, жившего в д. Кемгорт Усть-Цилемского р-на.
Из-за преклонного возраста и болезненного состояния Т. Дуркин спел всего несколько начальных строк былины, остальное сказывал. Тем не менее его текст свидетельствует о том, что «Тимофей Семенович в прошлом был несомненно незаурядным исполнителем былин» (БП, с. 135). Сказитель любит детализированные описания, развернутые троекратные повторы, имеет в своем арсенале яркие и выразительные формулы (см. строки 21—25, 121—140, 209—231 и др.). Несмотря на сказывание, в большом по объему тексте (более 350 строк) почти нет прозаизмов. Былина Т. Дуркина безупречна в композиционном плане; в ней последовательно выдерживается противопоставление Добрыни и Алеши. Предварительная характеристика богатырей подтверждается содержанием их вопросов, обращенных к Сокольнику, и реакцией последнего — Алешу он избивает, с Добрыней ведет переговоры. (В других печорских записях Сокольника пытается задержать либо Алеша, либо Добрыня.) Уникально описание панорамы, открывающейся перед Ильей Муромцем, осматривающим окрестности в подзорную трубу (строки 30—49). С эпической обстоятельностью перечисляются 8 разных направлений, а природные особенности каждой «сторонки» в точности соответствуют географическому окружению Печорского края (на юго-западе — «леса темные, дремучие», на западе — «грязи черные, болота зыбучие», на северо-западе — «снежные горы непроходимые» и т. д.). В этой формуле в качестве постоянных эпитетов использованы некоторые областные слова — «в сторонку подшелонную» (юго-западную), «подглубничную» (северо-западную). Выразительной
- 709 -
деталью, не имеющей аналогии в других текстах, сказитель дополнил традиционную формулу, описывающую возвращение избитого Сокольником Алеши: «Он лягается на коне, как худа ворона».
Перед исполнением полного текста былины Т. С. Дуркин спел вариант ее начала:
5Недалёко от города от Киёва,
Недалёко было, за двенадцеть вёрст
Была застава богатырьска.
Уж и жило тут тридцеть удалых добрых молодцов.
Как хранили они, каравулили сто..., стольнёй Киёв-град.(БП, с. 539—540)
- 710 -
Разночтения БП, № 43
2
Недалёко ли во чистом поле за двенадцать верст
114
А надо было послать Добрынюшку Микитича
131
Дралисе они, помесили матушку сыру землю до колена
293
От той от матушки Золотыгорки
№ 80
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 24, л. 130—134; маш.; БП, № 91 «Про Илью и Сокольника». Звукозаписи нет.
Зап. Колпаковой Н. П.: 25 июля 1956 г., д. Осколково Нарьян-Марского р-на — от Поздеева Павла Николаевича, 64 г.
«Текст принадлежит к основному печорскому типу обработок сюжета <...> но передает традиционную схему кратко, не развертывая эпизодов и описаний» (БП, с. 554). Упоминание «котла пива пьяного» роднит данный вариант с былиной средне-печорского сказителя Н. Торопова (№ 69). (П. Поздеев родом из тех же мест, на Нижнюю Печору он переселился за 10 лет до записи комментируемого текста — см. БП, с. 252.)
№ 81
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 417, л. 547—554, маш.; БП, № 53 «Про Илью Муромца». ФА VI МФ, 218.6; БРМЭ, № 59, нап. с. 301.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1955 г., д. Абрамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Еремея Провича, 67 лет.
Вторичная запись данной былины через 26 лет. Отклонения от первоначального текста незначительны (см. коммент. к № 70).
Разночтения БП, № 53
20
На сыру землю не ураниват
36
Вот и стал тогда старой их спрашивать
37
Уж я еду к вам во стольнёй Киев-град
161
Он и стал его тогда он и выспрашивать
№ 82
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 414, л. 538—545, маш.; РФ, т. II, 1957, с. 258—262; БП, № 51 «Про старого казака Илью Муромца». ФА VI МФ, 219. 11.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1955 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 52 г., Чупрова Маркела Маркеловича, 72 г., Чупровой Анны Лукичны, 43 г.
От Л. Чупрова, как и от жителя соседней деревни Е. Чупрова (см. коммент. к № 70), сделано несколько записей этой былины (см. № 89—91, 99). Диапазон вариаций в них несколько шире, чем у Еремея Чупрова, но изменения не коснулись структурных элементов. При повторных исполнениях сказитель изменял некоторые выражения, пропускал отдельные строки и вставлял новые, сокращал или расширял формулы-описания (характеристика богатырской заставы, угрозы Сокольника, его обращение к «слугам верным» перед боем и др.). Существенно переработана лишь формула расправы Ильи Муромца с Сокольником. Тексты Л. Чупрова содержат все основные особенности пижемского извода, в некоторых отношениях они дают самые близкие параллели к варианту Ф. Чуркиной (см. ругательства Добрыни, адресованные Сокольнику). Формула «Я у маменьки твоей прожил в таю три месяца» встречается также в былине устьцилемского сказителя Т. Дуркина (№ 79).
- 711 -
Интересны попытки исполнителя переосмыслить ставшее непонятным слово («не за что не потерять буйну голову» — 1955 г., «незавид...» — 1964 и «не за вещь» — 1978 г., «ни за што» и «незавид» — 1980 г.).
В строке 91 произведена замена: вместо «у барина корова» — «убайна корова» в соответствии с реальным звучанием на м/ф по № 99, строка 97.
Былина была записана 15 окт. 1965 г. на ВСГ «Мелодия» (Москва): грампластинка Д-025677, № 3.
№ 83
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 5, л. 16—20, маш.; БП, № 78 «Илья и нахвальщик». Звукозаписи нет.
Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
«Былина восходит к книжному источнику — к текстам № 7 и 8 первого выпуска книги „Русские былины и сказания“, изданной А. Каспари в 1894 г. как бесплатная премия журнала „Родина“. Оба указанных текста („Застава богатырская“ и „Илья Муромец и нахвальщик“) являются переложением известной шенкурской былины о богатырях на заставе из сборника Киреевского (I, с. 46). <...> Сопоставление былины Т. С. Кузьмина с текстом издания Каспари показало, что более половины ее стихов в точности или с незначительными изменениями повторяют этот текст, остальные близко следуют ему. Сохранено и самое название, данное Каспари основной части былины» (БП, с. 550).
№ 84
РО ИРЛИ, колл. 160, п. 3, № 20, л. 99—104, маш.; БП, № 67 «Про Сокольника». ФА VI МФ, 336. 1. Зап. Колпаковой Н. П.: 10 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.
Былина не принадлежит к числу лучших текстов А. Пономарева. В ней опущены или представлены некоторые ключевые эпизоды, нарушена последовательность событий, строго соблюдаемая другими печорскими сказителями. В погоню за Сокольником сразу выезжает Илья Муромец (другие богатыри даже не упомянуты), он легко выигрывает первый поединок. После убийства Сокольником матери соперники вновь «бьются-ратятся», на сей раз с переменным успехом (как в традиционном сюжете). В сцену поединка перенесен эпизод с крестом, спасающим Илью от смерти (ср. № 71, 72). В былине сохраняется немало специфических особенностей печорской редакции сюжета, а ее начало (рассказ о детстве Сокольника) перекликается со среднемезенскими и некоторыми печорскими записями (см. № 74, 87).
Разночтения БП, № 67
2
У того же было у камешка холодного
3
У той же у матушки Колмбриголки
4
У ей-то было чадо у ней милое
9
Как бы с буйной головы до сырой земли
10
Не дават ему да ехать во чисто поле
11
Ты и сын мой, чадо мое глупое
12
Уж давашь благословеньице великое
18
Уж ты чадо, ты детина бы любимое
21
ошибочно повторен стих 22
24
Отправлялся, суряжался Сокольник сын Иванович
27
Вот отправился детина да во чисто полё
31
Ведь он сам-от ти пишет ярлыки несет
38
Тут вставал да тут Илья да старой Муромец
39
Он взглянул бы вот во трубочку вот подзорную
- 712 -
40
Он смотрел все четыре да нынче стороны
43
Да ведь нас ныне, богатырей, ни во что кладет
76
Я от той же матери Златыгорки
№ 85
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 6, № 3, л. 2—5, рукоп.; БП, № 73 [«Илья Муромец и Сокольник»]. ФА VI МФ, 341. 11 (стихотворная часть текста); БРМЭ, № 62, нап. с. 313—315.
Зап. Митрофановой В. В.: 28 июля 1956 г., д. Угольное Нарьян-Марского р-на — от Чупрова Фомы Алексеевича, 56 лет.
Примеч. соб.:
1) К строкам 21—23: «Фраза, взятая в квадратные скобки, вставлена женой исполнителя».
2) К строке 28: «Начало записи на магнитофон».
Былина записана на Нижней Печоре, но связана с эпической традицией Пижмы (Ф. Чупров — племянник и ученик Е. Чупрова). Текстологический анализ полностью подтверждает эти сведения — в подробном пересказе «Ильи Муромца и Сокольника», записанном от Ф. Чупрова, содержатся все основные особенности пижемского извода, а некоторые детали встречаются только у этих двух сказителей («Не удастся вам горшка скипятить, я привезу татарску буйну голову»). Чупров-младший удачно дополнил традиционную пижемскую формулу: «Похвально слово его попутало»: «чем похвалишься, тем и подавишься» (ср. № 105). В начале текста на Алешу Поповича перенесена традиционная характеристика Самсона Колыбановича («роду сонливого»). Необычная деталь введена в заключительный эпизод: спящего Илью будит его богатырский конь, «чтобы на сонного не наехал».
Разночтения БП, № 73
2
За беду ли стало, да за великую
19
Курева-де стоит, да дым столбом валит
36
Ворона ты летишь пустопёрая
37
Сорока ты летишь загумённая
№ 86
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 29, л. 141, 142, маш.; БП, № 66 «Старина» [«Илья и Сокольник»]. ФА VI МФ, 324. 4.
Зап. Колпаковой Н. П.: 31 июля 1956 г., д. Лабожское Нарьян-Марского р-на — от Тайбарейского Никандра Васильевича, 63 г.
«Текст представляет собой смутное припоминание эпизода покушения Сокольника на жизнь спящего Ильи Муромца. Отрывочные припоминания из других былин (о Дунае, Иване Годиновиче), а также из исторической песни о Кострюке помогли исполнителю придать некоторую завершенность своему тексту, получившему совсем иной смысл: „поединщик“, которого ждет Илья Муромец, оказывается его сыном, не знающим отца, но сам Илья почему-то узнает сына (переработка случайная и неудачная)». — БП, с. 546. Вариант Н. В. Тайбарейского не имеет ничего общего с былиной его отца (см. № 74), даже нападение сына на спящего отца описано иначе.
Разночтения БП № 66
12
Ты позволь-ко мне слово вымолвить
16
Мне-ка надобно мне-ко поединщика
17
Мне побитьсе-ка надо с ним-ка, подратисе
24
Поезжает старой да не прощаетсе
В стихе 22 неясно прослушиваются 3—5 слова (витязь?).
- 713 -
№ 87
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 501. 1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 6, маш. «Илья и Сокольник».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Вокуева Гаврилы Васильевича, 82 г.
Текст записан с пения. Перед исполнением сделана предварительная запись.
В предварительном пересказе былины:
4
Было у ей одно чадо, был он лет двенадцети.
12
... уздечку точмяную
30
... князя Владимера ...
После 31 ремарка
(Ишь, как он хотел!)
52
леденистыя
После 52 ремарка
(Там, наверно, океан, — труба далеко у него брала)
80
Стретил его, Олешу, старой казак:
«Что же, Олёша, приехал не по-старому,
Что же ты, Олёшенька, не по-прежнему?»
Говорит Олёша тако́во слово:
«Едет там невежа нерусская,
Дал, говорит, мне по тяпышу,
И прибавил, говорит, мне по олабышку,
Еле я, говорит, на кони живой сижу!»
85
Брал с собой латы булатныя
88
Брал с собой еще тугой лук,
И брал с собой калену стрелу
92
Наганивал добра молодца.
После 98
Говорит Сокольник таковы слова:
«Нечего мне у вас на заставы делать»
105
Бурзомецкима
111
Проскользнуласе
117
Выскакивал старой из-под добра молодца
После 125
«Когда сидел у тебя на белой груди,
Не спрашивал у тебя роду-племени»
168
И на этом старина кончилась
Стройный по композиции, подробный и выразительный вариант — еще одно свидетельство хорошей сохранности сюжета в устной печорской традиции. Текст Г. Вокуева содержит многие специфические особенности печорской редакции былины, а также ряд эпизодов, редких в этом районе (рассказ о детстве Сокольника, воспоминания Ильи Муромца о бое и любовной связи со Златыгоркой). Редкая формула (строки 77—78) использована певцом для описания бесславного возвращения Алеши Поповича после стычки с Сокольником (ср. № 170).
Необычно описание богатырской «поездочки» Сокольника, содержащее не совсем ясную по смыслу гиперболу: «Как правой-то ногой да в струмена стоял, Ак левой-то ногой да колесо катил». В финальном эпизоде сказитель отступил от традиции: Сокольнику не удалось врасплох напасть на Илью Муромца, его заметили на заставе, что привело к повторному поединку.
На м/ф ленте плохо прослушиваются последние слова в стихе 100.
Былина была записана 15 окт. 1965 г. на ВСГ «Мелодия» (Москва): см. грампластинку Д-025677.
См. звуковое прилож. № 7.
- 714 -
№ 88
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 510. 1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п, 3, № 8, маш. «Илья Муромец и Сокольник». СП, с. 48—50 (отрывки), нап. с. 48.
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Боровская Пижемского с/с Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Еремея Провича, 77 лет.
Примеч. соб.: к строке 41: «Видимо, ошибочно не назвал Владимир-князя».
См. коммент. к № 70.
См. звуковое прилож. № 4.
№ 89
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 514.1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 10, маш. «Илья Муромец и Сокольник».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Боровская Пижемского с/с Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 61 г., и его жены Чупровой Анны Лукичны, 52 г.
Вторая запись. См. коммент. к № 82 и № 90, 91, 99.
См. звуковое прилож. № 6.
В строке 95 произведена замена: вместо «У барина корова» — «Убайна корова» в соответствии с реальным звучанием на м/ф по № 99, строка 97.
№ 90
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 512—513 «Илья и Сокольник»; ИРЛИ, ФА VI МФ, 770.5 (отрывок, копия). Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 61 г. Третья по счету запись былины от этого исполнителя (см. № 82, 89, 91, 99).
В строке 193 произведена замена: вместо «у барина корова» — «убайна корова» в соответствии с реальным звучанием на м/ф по № 99, строка 97.
№ 91
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 3, № 1, л. 1—10 об., рукоп. «Про Старого» [«Илья и Сокольник»].
Зап. Голубковым М. М.: лето 1978 г., д. Боровская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 75 лет.
Предпоследняя по времени запись былины от Л. Чупрова (см. № 82, 89, 90, 99 и коммент. к № 82).
В строке 95 произведена замена: вместо «у барина корова» — «убайна корова» в соответствии с реальным звучанием на м/ф по № 99, строка 97.
№ 92
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 1, № 3, л. 3—8 об., рукоп. «Про Старого».
Зап. Голубковым М. М. и Харитоновой В. И.: лето 1978 г., д. Замежное Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Мяндиной Евдокии Малафеевны, 51 г. (уроженки д. Абрамовской на р. Пижме).
Примеч. соб.: «Былина была исполнена по первой просьбе; вечером того же дня была записана на кассету (см. кас. 78—56)».
См. № 93.
Круглые скобки в тексте принадлежат собирателю.
- 715 -
Исполнительница — двоюродная племянница Еремея Чупрова, от которого записаны три варианта этой былины (см. № 70, 81, 88). По композиции оба ее текста близки к записям, сделанным от Е. Чупрова, конец былины она тоже пересказала прозой. В стихотворной части существенных отклонений от пижемского извода нет, а в прозаической встречаются поздние по характеру рационалистически-бытовые мотивировки: случайная встреча и бой отца с неузнанным сыном объясняются тем, что враги взяли в плен жену Ильи Муромца и его сын вырос на чужбине; возможность нападения Сокольника на спящего Илью — бегством его перепуганных слуг (этот мотив присутствует и в последней записи от Е. Чупрова—88).
№ 93
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 1, № 5, л. 10—12 об. и тетр. 2, л. 1—3, рукоп. «Былина про Старого».
Зап. Голубковым М. М. и Харитоновой В. И.: лето 1978 г., д. Замежное Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Мяндиной Евдокии Малафеевны, 51 г. (уроженки д. Абрамовской на р. Пижме). Примеч. соб.:
1. «Данную былину усвоила от отца — Чупрова Малафея Ивановича».
2. «Вариант былины см. на кассете 78—56».
См. коммент. к № 92, запись без м/ф (тетр. 1, № 2, № 3, л. 3—8 об.).
№ 94
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 2, № 6, л. 6—13, рукоп. «Илья Муромец и сын» (пересказ).
Зап. Степановой Т. А. и Тюниной Е. А.: лето 1978 г., д. Загривочная Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Семена Емельяновича, 84 г.
Довольно полный вариант пижемского извода этой былины (ср. № 67, 70, 82 и др.); некоторые традиционные подробности и формулы опущены или использованы в других эпизодах (строки 65, 80—82).
№ 95
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 6, № 1, л. 1—3, рукоп. [«Об Илье Муромце»].
Зап. Кручининой М. Н.: лето 1978 г., д. Загривочная Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Поташовой Марфы Никифоровны, 67 лет, и Поташова Афанасия Ивановича, 70 лет.
Начали петь: «Как на заставе были богатыри», — затем поправились:
Не далеко от города, не близко-то
Как на заставе были богатыри...Примеч. исполнительницы: «Старину певал дядька Еремей Прович Чупров. Долго пел. Я переняла немного» (л. 3). См. его былины № 70, 81, 88, 222.
Пересказ пижемского извода былины с отдельными стихотворными вставками.
№ 96
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 359, л. 72 об., 73 об., рукоп. «Илья Муромец и Соколик».
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочной на р. Пижме).
Примеч. соб.:
1) «Былину исполнял по собственной записи, написанной накануне, чтобы не сбиться» (л. 74 об.).
К строкам 12; 29: «Исполнитель сбился».
- 716 -
Былина записана от С. Носова дважды (см. № 97). Второй текст полнее первого, но оба они дефектны. Традиционные былинные формулы, свойственные печорской редакции сюжета, то и дело перемежаются со стихами, явно сочиненными певцом в момент исполнения и неумело стилизованные под былинные (см. строки 12—13, 19—21 и др.). С. Носов, видимо, был знаком с пижемским изводом — в его тексте есть некоторые специфические детали, встречающиеся только в записях с реки Пижмы (упоминание Мишки Торопанишки, формула «Я видел в поле коровушку базыкую»). В финальном эпизоде использованы мотивы сюжета «Святогор и Илья Муромец» с перестановкой и заменой главных героев (Илья погибает в гробу, а Добрыня и Алеша пытаются спасти его).
№ 97
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 350, л. 67, 67 об., рукоп.; м/ф, кас. 19, дор. 1 «Илья и Сокольник».
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочной на р. Пижме).
Примеч. соб.: «С. А. пел эту былину по записи, сделанной им накануне. Перед пением долго настраивался на лад, вспоминая правильный мотив. Во время пения делал исправления в тексте. Старину до конца не спел — заплакал и закашлялся» (л. 67 об.).
К строке 9, 14, 15: «слова в скобках — исправления в момент пения».
См. коммент. к № 96.
№ 98
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 19, № 246, л. 31—35, рукоп. «Илья и Сокольник».
Зап. Коробушкиным И. В.: лето 1980 г., д. Новый Бор Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Василия Пафнутьевича, 77 лет.
Примеч. соб. к строке 43: «Фраза не закончена. Пропуск собирателя»; к строке 39: «пороть (колоть)»; к строке 47: «Илья».
Одна из последних по времени фиксаций пижемского извода (В. Чупров родом из д. Аврамовской на р. Пижме). Несмотря на явные следы разрушения былины, прозаическую форму исполнения, в тексте сохранены многие специфические подробности и формулы; иногда содержащиеся в них художественные образы понимаются буквально («будто остров колыбается», «алабыш насадил ему на руку»).
От В. П. Чупрова в том же году был записан вариант, представляющий отрывочное припоминание сюжета (см. Прилож. I, № 21).
№ 99
ИРЛИ, ФА ЛМК 36.6 [«Илья Муромец и Сокольник»]; 36,6 (отрывок, дубль) — из архива Ю. Е. Красовской; СП, с. 35 (отрывок), нап., с. 36.
Зап. Красовской Ю. Е.: 29 июля 1980, д. Боровская, Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Чупрова Леонтия Тимофеевича, 77 лет и Чупровой Анны Лукичны, 68 лет.
Примеч. соб.:
1) к строке 55: «Л. Т. Чупров смолкает, А. Л. Чупрова ошиблась и спела „могучими“ вместо „могучиим“»;
2) к строке 82: «В данном случае „й“ заменяет „его“. В бытовой речи такая форма тоже встречается»;
3) к строке 125: «„...уздайте“ пропущено (обычно поет), вместо него путаница слов»;
4) к строке 154: «В данном варианте былины пропущен эпизод, в котором Илья, уезжая, хвалится: „Не успеете вы щей горшок сварить, привезу евонну буйну голову“. В конце третьего дня боя его „встречает“ собственное похвальное слово, которым он чуть не накликал на себя гибель»;
5) к строке 179: «„Ежель“ — ошибочно, поправился».
Последняя по времени запись от Л. Чупрова (см. № 82, 89, 90, 91 и коммент. к № 82). Былина до конца не допета.
- 717 -
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬ (№ 100—104)
Самая популярная из цикла былин о татарском нашествии на Киев известна в разных версиях и редакциях. Многие мотивы и эпизоды роднят ее с близкими по тематике сюжетами: «Илья, Ермак и Калин», «Камское побоище», «Михайло Данилович», «Суровец-Суздалец» и др. (см. Азб., с. 166—174). На Печоре записано 11 вариантов, которые безоговорочно можно отнести к данному сюжету (в том числе 7 — контаминации с другими былинами об Илье); к ним примыкает один текст неясной сюжетной принадлежности, условно названный «Илья Муромец и сила неверная» (№ 103). Кроме того, целая группа вариантов переходного типа содержит мотивы и образы, характерные для сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» и былин о татарском нашествии с Ильей Муромцем в главной роли (см. общий обзор вариантов былины о Василии Игнатьевиче и комментарии к № 58, 203, 206, 207, 208, 209, 213). В репертуар печорских певцов входили также близкие к «Илье Муромцу и Калину-царю» сюжетные образования «Камское побоище» и «Потап Артамонович» (сюжет «Суровца-Суздальца» с мотивами былины о богатыре-малолетке). Подавляющее большинство печорских записей комментируемой былины относится ко второй версии сюжета, осложненной рассказом о клевете бояр и заключении Ильи Муромца в погреба. Эти эпизоды детально разрабатываются местными сказителями, содержат ряд оригинальных подробностей и устойчивых формул. (Выслушав просьбу князя Владимира или его слуг защитить Киев, «старой казак челом не бьет, головы не гнет», зато по первому слову спасшей его от смерти княгини Апраксии выскакивает из темницы: «Будто белой тут куропать выпархивал».)
Для печорских записей характерно отсутствие некоторых эпизодов, популярных в других регионах. Ни в одном тексте нет стрельбы из лука по шатру русских богатырей с целью разбудить их и призвать на помощь. (Этот мотив крайне редок и в соседних районах: на Мезени он зафиксирован лишь однажды — Аст., I, 33, а в одном из кулойских вариантов переосмыслен — Григ., II, 55.) В печорских, мезенских и кулойских былинах нет рассказа о вырытых татарами подкопах, о временном пленении Ильи говорится только в текстах, зависимых от Сборника Кирши Данилова (см. коммент. к № 52, 104, Прилож. II, № 6). Лишь в одном варианте, восходящем к устной традиции, татарское войско возглавляет Калин-царь (№ 101), его имя фигурирует также в указанных выше книжных по происхождению текстах и в одной записи «Ставра Годиновича», тоже связанной с книгой (№ 179). В кулойских былинах Калин не упоминается, а в мезенских фигурирует в двух вариантах «Камского побоища» (Григ., III, 90, 111).
В составе контаминированных текстов см. № 43, 48, 49, 52, 57, 61, а также комментарии к сводной былине А. М. Хаханзыкской (Прилож. III, № 1), сводному пересказу А. М. Бажукова (Прилож. II, № 6).
№ 100
Онч., № 2 «Илья Муромец в опале».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Чуркина (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. — от Чуркиной Федосьи Емельяновны, 55 лет. (уроженки д. Аврамовской на р. Пижме).
«Эту старину Ф. Чуркина помнила очень плохо, только в общих чертах, и только на усиленную мою просьбу согласилась ее пропеть, причем, когда пела, часто путалась и останавливалась, чтобы припомнить. При сравнении этой старины с предыдущей (см. № 67 — Сост.) и последующей (см. № 117 — Сост.) разница в обработке содержания видна сразу. По всему видно, что старина припомнилась во время пения, а не передавалось слышанное и усвоенное ранее» (Онч., с. 16).
После строки 6 примеч. соб.: «Старина эта, говорила мне Ф. Е., пелась стариками непосредственно после старины о женитьбе Дуная. После смерти Дуная Илье М. доставалась его шуба, из-за которой все и началось» (Онч., с. 16).
В тексте подробно разработана первая часть второй версии сюжета (конфликт между Ильей и князем Владимиром, подготовка к битве с врагами), о самом подвиге богатыря скупо сообщено прозой. Ф. Чуркина последовательно изображает думных бояр «изменщиками»: они клевещут на Илью, для пущей верности предпочитая устному доносу письменный («ерлыки скоры грамоты»), они же сообщают «Ковшею Бессмёртному» о заточении богатыря и беззащитности Киева. Княгиня Апраксия так же последовательно принимает сторону оклеветанного
- 718 -
героя, убеждает князя не верить доносчикам, а в минуту опасности иронически советует ему искать у них помощи. Драматизм положения Ильи Муромца усугубляется тем, что он сознает свою силу и повинуется только «закону да государеву» (строки 63—66). В сюжет о татарском нашествии удачно вписались мотивы из былины о голях кабацких, плач киевлян по любимому богатырю (строки 61—62) — с их помощью подчеркивается кровная связь Ильи с трудовым людом, его огромная популярность в Киеве. Оригинальна мотивировка недовольства героя княжеским подарком — шуба была предназначена не ему, а Дунаю (редкий в русском эпосе случай прямой переклички былин о разных богатырях). В тексте немало выразительных формул и постоянных эпитетов («Ты ведь востра баба, да всё догадлива», «уж и звыше ума цюдо состоялосе», «книги старопечатныи» и др.), но вместе с тем встречаются чрезмерно растянутые эпизоды (допрос Ильи Муромца и его попытки оправдаться перед князем), проявления сентиментальной чувствительности, не вяжущиеся с суровым обликом богатыря (плач Ильи и коня, встретившихся после долгой разлуки).
№ 101
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 62, рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1—5: маш.; Л., 1939, № 6; Л., 1979, № 12 «Добрыня и Калин-царь».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 1 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.
Исполнитель не помнил, от кого перенял данную былину.
Текст своеобразен во многих отношениях. Это единственный на Печоре устный по происхождению вариант былины о татарском нашествии, в котором вражеское войско возглавляет Калин-царь. На роль главного героя выдвинулся Добрыня, заменивший Илью Муромца (обычно он только читает послание иноземного царя и помогает Илье окончательно разгромить татар, иногда по его поручению созывает русских богатырей). «В одном из исследований сюжета отмечается, что вариант В. Тайбарейского дает близкую параллель к Сказанию о Захарии Тютчеве (из цикла повестей о Куликовской битве) — Добрыня послан в ставку Калина с просьбой об отсрочке, но он «палицей пролагает себе путь к царскому шатру <...> отсекает голову самому царю», и лишь в финале былины на помощь Добрыне приходят другие богатыри (Азб., с. 170).1 Комментируемый текст может служить еще одной иллюстрацией взаимодействия былин о татарском нашествии и сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» — в нем использован запев о турах златорогих, а имя татарского посла — «Игнатий сын Иванович». Вариант отличается несомненными художественными достоинствами, лаконичными и отточенными поэтическими формулами (см., напр., развернутую характеристику посла в строках 37—54; формулу, выражающую сожаление князя Владимира об отсутствии в Киеве Ильи Муромца в строках 84—86). В ультиматум вражеского царя включено необычное требование провианта для татарской «силы»; этот мотив получает дальнейшее развитие в иронически-почтительной, реплике Добрыни (стихи 124—125).
Упоминание «царицы златорогоей» в первой строке — случайная обмолвка певца или неточность собирателя (в стихе говорится о «турице златорогой»).
Разночтения Л., 1939. № 6 и Л., 1979, № 12
1
У той ли у царицы златорогоей (1979)
11
Врите, мои дети любимые (1939; 1979)
28
Написал ему ярлык — скору грамоту (1979)
31
отсутствует (1979)
32
Поехал Игнатий дорогой прямоезжеей (1979)
34
Он скакал через стену городецкую (1979)
- 719 -
37
Он ехал стороной — не дорогою (1979)
55
Говорил тогда солнышко Владимир-князь (1979)
61
Он сломал все печати поганые (1979)
69
Ладит худшую силушку повырубить (1979)
70
Ладит лучшую силушку всю повыгонить (1979)
99
На те ли холмы на окатисты (1979)
114
Тогда берет он палицу буевую (1979)
118
Добрался Добрыня до черна шатра (1979)
138
Они вырубили рать-силу великую (1979)
№ 102
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 8 об., 9, рукоп.; ед. хр. 5, л. 1—7, маш.; Л., 1939, № 4; Л., 1979, № 9 «Илья Муромец в опале у Владимира».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Строки 1—110, отсутствующие в рукоп. из архива собирателя, даны по рукоп. РГАЛИ.
В построении сюжета есть лишь одно заметное отклонение от местной традиции: дважды описывается нападение на Киев неверного короля, что не свойственно русскому эпосу (исключение — былина о Камском побоище). В первый раз Илья Муромец разбивает вражеское войско, за что и получает от князя шубу. Эту мотивировку следует отнести на счет личного творчества И. Осташова (она не обязательна), а второе вторжение неверного короля продиктовано сюжетной необходимостью. Как и другие печорские варианты, комментируемый текст отличается социальной заостренностью: в финальном эпизоде Илья «всех выбил тут бояр да толстобрюхиих», князь Владимир трусливо прячется от него «во глубок погреб». Хотя сказитель упоминает других русских богатырей, в знак протеста против княжеского произвола покинувших Киев, вражеское войско Илья истребляет в одиночку (явление нередкое в печорских записях этого сюжета; см., напр., № 61). В былине встречаются формулы, позаимствованные из других эпических песен: обращенный к Апраксии монолог Ильи (строки 146—147) — из «Козарина» (ср. № 269); рассказ о том, как княгиня унимает разгневанного богатыря — из былины «Василий Буслаев и новгородцы» (ср. № 237, 238) и др.
Разночтения Л., 1939, № 4 и Л., 1979, № 9
3, 8
Нагнал он силы много-множество (1939, 1979)
5
Стал просить он Илью Муромца (1979)
7
Напал на меня король неверные (1939, 1979)
15
Не оставил бы молодца да в поле добрый конь (1939, 1979)
20
Бил он рать трои суточки (1939, 1979)
26
Подарил старому он кунью шубу (1979)
31
Будь, моя шуба, таланиста (1979)
32
Не давай меня, шуба, в обидушку (1939, 1979)
40
Та же участь солнышку Владимиру (1979)
54
Докармливат так она его, допаиват (1939, 1979)
66
Нет его, атамана-защитника (1939, 1979)
72
Волос долог, а ум короток (1939, 1979)
88
Посмотреть во глубоком погребе (1939, 1979)
100
Понапрасно я те посадил во глубок погреб (1939, 1979)
120
Звал его я до трех раз (1939)
Звал я его до трех раз (1979)
124
Поди ты зови его да покайся нынь (1979)
- 720 -
126
Потому он со мной — ни словечика (1979)
127
Ты поди, скажи да поканайся нынь (1939)
Ты поди-сходи да покайся нынь (1979)
141
Отойди подале от глубока погреба (1979)
144
Брал он ее за белу шею (1939)
145
Целовал он ей лицо белое (1939)
154
Твой доброй конь — стоит (1939)
164
Не оставил бы молодца да в поле добрый конь (1939, 1979)
181
Сидят тут бояре толстобрюхие (1939)
186
отсутствует (1979)
187
Брал он ее за белы руки (1979)
196—197
отсутствуют (1939)
204
Простил его да во первой вине (1979)
№ 103
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 2, № 4, л. 16—18, рукоп.; БП, № 49 «Илья Муромец и сила неверная». ФА VI МФ, 223. 10; БРМЭ, № 58, нап. с. 299.
Зап. Власовой З. И.: 29 июня 1955 г., д. Рощинский Ручей Усть-Цилемского р-на — от Поздеевой Татьяны Ивановны, 70 лет.
После 34 строки примеч. соб.: «Дальше запись сделана со слов, а не с голоса. Голос больше „не бежал“, старушка устала и не могла петь» (БП, с. 542).
Формально текст завершен, но его сюжетная принадлежность остается неясной. Подробно развернув сцену пира у князя Владимира и хвастовства за столом, певица кратко сообщила о победе Ильи Муромца над «силой неверной». Наиболее вероятна связь этого текста со второй версией сюжета «Илья Муромец и Калин-царь». (Собираясь на битву с врагом, богатырь просит у князя коня — с аналогичной просьбой Илья часто обращается к Апраксии после своего освобождения из заточения.) Описание угощения богатыря («ковригу хлеба берет за щеку») — неудачный перенос из былины об Идолище Поганом. В репертуаре Т. Поздеевой есть еще одна эпическая песня (и тоже скомканная, неясная по сюжету) о вражеском нашествии на Киев (№ 209).
Разночтения БП, № 49
4
Да собиралисе еще мальчички богатыри
9
Да вот все старый казак да Илья Муромец
Примеч. к строке 9
«Исполнительница, начав стих словами: „Да вот вси солнышки“, запнулась и затем продолжала, как в тексте»
19
Да уж как солнышко ли Владимир-князь поднимается
№ 104
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 7, № 1, л. 1, 1 об., рукоп. «Илья Муромец и Калин-царь».
Зап. Громовым А. Л.: лето 1978 г., д. Замежная Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Поздеева Якова Семеновича, 53 г.
Пересказ отражает некую связь с текстом из Сборника Кирши Данилова (№ 25), о чем свидетельствуют выражения: «русские люди хвастать любят», «ты теперь сидишь, как лысый бес», — а также нехарактерное для устной традиции Печоры имя татарского царя «Калин».
- 721 -
КАМСКОЕ ПОБОИЩЕ (№ 105)
Сюжет примыкает к былинам «Илья Муромец, Ермак и Калин», «Илья Муромец и Калин-царь», нередко контаминируется с ними. Зафиксирован во многих районах бытования русского эпоса, но особенно популярен на Мезени (Азб., с. 142—152, 284). На Печоре не получил широкого распространения — записан один вариант и один прозаический отрывок, связанный с книжным источником (см. коммент. к Прилож. I, № 26). Оба текста испытывали воздействие сюжета «Василий Игнатьевич и Батыга» (см. общий обзор вариантов этой былины на с. 404—408). В них говорится только об одном чуде — воскресении перебитого вражеского войска («которого секли надвое, из того-де стало нонче двое же...»); во время второй битвы количество врагов не увеличивается (это характерно и для большинства мезенских былин). Развязка в печорских записях благополучная: богатыри вновь уничтожают врагов, погибают лишь братья Долгополые, бросившие вызов «силе небесной».
№ 105
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 1, с. 284—295 «Про „Маево“ побоище»; Онч., № 26 «Маево побоище».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
В публикации 1902 г. к строке 26 («От того ёт духу человеческа») примеч. соб.: «При пении былин одни и те же слова одним и тем же человеком произносятся неодинаково: ёт и от, ён и он, Югарище и Тугарище, чарь и царь и пр. Всякий раз я записывал, как произносилось» (Изв. ОРЯС, 1902, с. 284).
Первая часть текста охарактеризована на с. 303. Интересны некоторые штрихи в образе Ильи Муромца: он отказывается во время битвы стеречь шатер, мотивируя это тем, что не сможет усидеть при звуках боя; сурово осуждает легкомысленное хвастовство братьев Долгополых (строки 364, 365), а в их гибели видит справедливое возмездие: «Чем они похвалились, тем и подавились». Оригинальная деталь — Добрыню оставляют «берекчи-стерекчи золоту казну», потому что он трое суток собирал богатырей и устал — встречается также в двух мезенских записях (Григ., III, 111, Аст., I, 12). Необычное название былины (ср. «Мамаево побоище» в одном из мезенских вариантов — Григ., III, 44, представляющем смесь традиционных эпических мотивов и личного творчества исполнителя), а также указание другого мезенского певца на существование двух названий былины «Камское побоище» и «Мамаево побоище» (Григ., III, с. 592).
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ (№ 106—108)
Сюжет редко оформлялся как самостоятельное произведение, обычно его соединяли с другими эпическими песнями — то в качестве пролога к основному повествованию («Илья Муромец и Идолище»), то в качестве вставного эпизода (былины о татарском нашествии на Киев). Рассказ об угощении Ильи Муромца голями кабацкими и о его столкновении с чумаками-целовальниками включался в состав сводной былины об этом богатыре, иногда отмечались немотивированные контаминации (с сюжетом «Святогор и Илья Муромец» — на Мезени, Григ., III, 114; Аст., I, Прилож. № 2; с «Небылицей» — на Пинеге, Григ., I, 138). Наибольшее количество записей сделано на Кенозере. В северо-восточных регионах этот сюжет не получил широкого распространения. Кроме упомянутых выше имеется всего по одной записи с Мезени (Григ., III, 51 — в составе былины «Илья и Идолище») и Кулоя (Григ., II, 28 — фрагмент, по которому трудно судить, является он началом комментируемой былины или другого сюжета). На Печоре, где голи кабацкие играют заметную роль во многих эпических песнях, сюжет фиксировался 4 раза, но только однажды — как самостоятельное произведение. В двух случаях он органично включен в былину «Илья Муромец и Идолище» (№ 106, 108), а в третьем — в состав сводной былины об Илье и тоже предшествует рассказу о его победе над Идолищем (№ 48). Отдельные эпизоды, характерные для этого сюжета, встречаются также в былинах о татарском нашествии («Илья Муромец и Калин-царь», № 100 — угощение богатырем голей кабацких и «Василий Игнатьевич и Батыга», № 204 — убийство чумака и угощение голей). В прозаическом своде С. Марковой, зависимом от книжных источников,
- 722 -
эпизод с голями дан не в местной, а в прионежской редакции (№ 52). В некоторых печорских текстах традиционная сцена в кабаке осложняется подробным рассказом о богатырском сне Ильи Муромца и убийстве разбудившего его чумака-целовальника. Оригинальная формула, которую произносит Илья перед разграблением винных погребов: «Как беду-ту я доспел, дак наб друга доспеть».
В составе контаминированных текстов см. № 48, 52, а также коммент. к сводной былине А. Н. Хаханзыкской (Прилож. II, № 1).
№ 106
Онч., № 20 «Илья Муромец, голи кабацкие и Угарище».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
Самый полный печорский вариант былины «Илья Муромец и Идолище», отличающийся от других записей развернутыми и выразительными картинами (портрет Идолища, его поведение в княжеском тереме, обжорство; язвительные реплики Ильи Муромца). Удачно включение в былину сюжета об Илье и голях кабацких, позволившее еще до стычки с главным противником подчеркнуть демократизм богатыря, его исключительную физическую силу. Словно предчувствуя, что ему предстоит совершить подвиг — освободить Киев, Илья не боится кары за убийство целовальника: «Мы не будем в городе виноваты же». У П. Поздеева, как и у его сына, опущен диалог о том, как выглядит Илья Муромец, сколько он ест и т. п. Название былины и упоминание Югарина в тексте (строка 293) свидетельствует о том, что «Идолище» — не собственное, а нарицательное имя. Выразителен образ униженного и растерянного князя Владимира, который в присутствии Идолища «говорить не смет», на жалобу чумаков отвечает: «Что я могу делати? У меня самого на дому беда», — и даже на учтивый вопрос Ильи, долженствующий поднять его княжеский престиж («велишь кровавить гриню?»), отвечает уклончиво: «Я не знаю, что присоветовать». О концовке варианта см. коммент. к былине того же исполнителя «Чурило и неверная жена» (№ 153).
№ 107
Онч., № 62 «Илья Муромец и голи».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Текст А. Вокуева производит впечатление цельного, законченного произведения, не нуждающегося в продолжении. Как и в кенозерской редакции сюжета, Илья Муромец появляется в Киеве в платье калики перехожей. Поведение целовальников, отказавшихся напоить богатыря в долг и даже принять в залог его нательный крест, ничем не мотивировано. (Ср. № 106, 108, где Илье не верят «и на петь денежек», потому что на нем «платье калическо, изношено».)
№ 108
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 24—31 (полев.), тетр. 4, л. 7—10 об. (перебел.); Аст., I, № 78 «Илья Муромец и Издолищо».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Поздеева Ивана Петровича, 64 г.
И. Поздеев, сын П. Р. Поздеева, перенял былину у отца, в композиционном плане повторяет его вариант (см. № 106). Есть лишь одно существенное нововведение: Поздеев-младший еще удачнее скрепил контаминируемые сюжеты (выслушав жалобу чумаков на буйство захожего калики, князь пригласил его к себе: «Узнал князь: эта калика — не худа блоха»). «В отношении стилистической обработки видно, наоборот, свободное отношение И. П. Поздеева к тексту отца. Точных совпадений стихов не имеем. <...> Иногда усвоена
- 723 -
лишь идея, формулировка дана иная (ср., напр., строки 89—91 у Ончукова и 42, 43 наст. изд.). Отдельные места сильно сокращены. <...> Иногда описание <...> совсем опускается. <...> Пропускаются повторения» (Аст., I, с. 595).
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И РАЗБОЙНИКИ (№ 109—113)
Рассказ о столкновении Ильи Муромца с разбойниками зафиксирован во всех основных районах бытования русского эпоса, но в самостоятельную былину он оформляется сравнительно редко (наибольшее количество таких текстов записано на Пинеге). Гораздо чаще этот сюжет контаминируется с другими былинами об Илье, включается в состав более сложных по композиции произведений в качестве одного из эпизодов («Три поездки Ильи Муромца,» «Илья Муромец и Соловей-разбойник»). На Печоре бытовал и как отдельная эпическая песня (5 вариантов), и как часть былины о Соловье-разбойнике. Композиционная схема печорских текстов предельно проста и устойчива; как и в других районах, больше всего различий в развязке. В составе сюжета «Илья Муромец и Соловей-разбойник» встреча богатыря со станичниками (или ратью) обычно предваряется мотивом трех дорог, в самостоятельных былинах подчеркивается ее случайность (герой подвергается нападению разбойников по пути на охоту).
В составе контаминированного текста см. № 48, а также коммент. к сводному пересказу А. М. Бажукова (Прилож. II, № 2).
№ 109
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 39—41 (полев.), тетр. 3, л. 27 об., 28 об. (перебел.); Аст., I, № 59 [«Илья Муромец и станичники»].
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.
Текст предельно упрощен; вполне завершенная в сюжетном отношении былина уместилась в 34 строках. И. Е. Чупров сохраняет редкую в русском эпосе деталь — ссылку богатыря на то, что у него «дело заезжее», «хлебцы завозные». «Ср. использование образа <...> в эпизоде освобождения Чернигова в былине о Соловье-разбойнике у Киреевского, I, с. 35» (Аст., I, с. 602).
№ 110
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 11, л. 1—14 об. (полев.), тетр. 3, л. 38, 38 об. (перебел.); Аст., I, № 53 «Про старого» (отрывок).
Зап. Астаховой А. М.: 12 июля 1929 г., сел. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Поздеевой Анны Максимовны, 70 лет.
Примеч. соб. в рукописи: «Сперва сказала словесно, потом спела. Напев „Бутмана“ Еремея Чупрова из Абрамовской».
См. нап. Аст., I, № 10 или к № 216.
Зачин былины традиционен для печорских записей (выезд «старого» на охоту). Совет богатыря разъехаться по домам, адресованный тем, у кого есть «молоды жоны,» видимо, перенесен из сюжета о царе Соломоне (ср. два варианта «Ильи Муромца и Соловья-разбойника», где эта формула дана в более развернутом виде,—41, 47).
№ 111
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 114, 115, маш. «Илья Муромец и разбойники»; БП, № 29 «Про старого казака» [«Илья Муромец и станичники»].
- 724 -
Зап. Сапожниковой Д. Я.: авг. 1942 г., д. Крестовка Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Макара Ивановича, 66 лет.
Вариант восходит к былине И. Е. Чупрова, отца сказителя (см. № 109), и в основном повторяет ее. М. Чупров ввел в текст троекратное обращение «старого» к станичникам, несколько дополнительных стихов, при повторах не сокращал формулы, что привело к увеличению объема (55 строк против 34 у отца).
Разночтения БП, № 29
1
Как да ездил старой да по чисту полю
6
Как хотят да старика побить-ограбити
17
Худа гунишка да лисья шубенка
22
С конем, животом разлучить хотят
№ 112
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 26, 27, маш.; БП, № 19 [«Илья Муромец и разбойники»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Осташовой Ксении Кондратьевны, 78 лет.
Начало былины традиционно, но первые строки зачина своеобразны. Описание борьбы богатыря со станичниками и его молитвы по случаю победы (строки 23—46) не имеет аналогий в северно-русских записях и, очевидно, сочинено исполнительницей (об этом, в частности, свидетельствует почти полное отсутствие поэтических образов, устойчивых эпических формул).
№ 113
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 2, № 99, л. 174, 175, рукоп.; БП, № 47 [«Илья Муромец и станичники»]; ФА VI МФ, 223.1; БРМЭ, № 57, нап. с. 296, 297.
Зап. Власовой З. И.: 28 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Михеева Акима Евпсихеевича, 89 лет. Сюжетная схема варианта обычна для местной традиции; А. Михеев подробнее других печорских певцов описывает переговоры Ильи с разбойниками (строки 8—30), удачно вводит в третий его монолог упоминание «сабли вострой некровавленой» (от увещеваний богатырь переходит к угрозам). Расправа со станичниками (строки 46—48), возможно, перенесена из сюжета «Наезд литовцев», известного на Печоре. (Ср. аналогичную формулу в одном из вариантов былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»—47.)
Разночтения БП, № 47
8
Уж и бить вам меня да нынче не за что
12
отсутствует
13
Дешевой ценой — да ровно двадцать пять
21
Дорогой ценой — да ровно двадцать пять
31
Как станичники на то же не варуют
ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА (№ 114)
Согласно исследованиям, сюжет принадлежит к числу самых поздних по времени окончательного оформления былин об Илье Муромце (Аст., I, с. 614); основной ареал распространения — Восточное Прионежье и Кенозерско-Каргопольский край. На Печоре и в прилегающих районах мотив трех дорожек и рассказ о столкновении Ильи Муромца со станичниками нередко используется в сюжете «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
- 725 -
известна и самостоятельная былина «Илья Муромец и разбойники». Сюжет «Трех поездок» в старых записях отсутствует, лишь в двух вариантах встречаются мотивы из второй поездки (Мезень и Кулой). В последние десятилетия на Печоре записаны: стихотворный вариант былины и сводный пересказ об Илье Муромце, включающий ее мотивы. Оба текста связаны с книжными источниками (см. коммент. к № 63 и 114).
В составе контаминированного текста см. также № 52 (отдельные мотивы).
№ 114
ПИЯЛИ, КЗ, МФ. 506. 1—2 «Три поездки Ильи Муромца»; ИРЛИ, ФА VI МФ, 769.1 (отрывок, копия); БРМЭ, № 56, нап. с. 292, 293.
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет.
Как и другие былины В. Лагеева (см. коммент. к № 38, 179, 242), текст восходит к книге. Видимо, источник во всех четырех случаях один: составитель печатных текстов пользуется теми же приемами обработки фольклорного материала (они скомпонованы из отдельных строк, позаимствованных из различных научных изданий былин; литературная правка минимальна). В комментируемой былине множество редких, а то и уникальных формул и подробностей, близкие параллели к которым обнаруживаются в записях из разных районов России (Кенозеро, Пудога, Выгозеро, Поморье, Онега, Пинега, Симбирская губерния). Ср. строки 1—3, 31, 133, 134, 135 в комментируемом тексте и соответственно строки 1—3 (Кир., I, с. 1), 65 (Гильф., 271), 102 (Гильф., 221), 143, 144 (Григ., I, 21).
Из других вариантов заимствованы упоминание «наличных» денег (Кир., I, с. 86, строка 40), описание освобождения обманутых королевичной гостей (Гильф., 226, строки 107—108), расправы с коварной красавицей (Рыбн., 154, строки 148—152). Бескровная развязка первого эпизода (устрашив разбойников, богатырь отпускает их) не характерна для этого сюжета и перенесена из былины «Илья Муромец и разбойники». Текст завершается распространенной в Прионежье былинной концовкой «А и с той поры Илью ныньче славу поют»; формула не известна устной традиции Печоры (она встречается еще в одной записи, связанной с книгой, — см. коммент. к № 248). В былине В. Лагеева нет деталей или формул, характерных для местной эпической традиции. Единственный оригинальный эпизод — объяснение Ильи с королевичной, которая назвалась Златыгоркой (перенос из «Ильи Муромца и Сокольника») — не соответствует канонам русского героического эпоса (в нем каждая былина — замкнутая структура, прямые переклички между разными сюжетами крайне редки). Очевидно, этот эпизод сочинен составителем книжного текста. Он есть в «былине двадцать третьей» из «Книги о киевских богатырях» В. П. Авенариуса (СПб., 1876, с. 267—276), которая содержит почти все вышеупомянутые мотивы и подробности.
Былина была записана 15 окт. 1965 г. на ВСГ «Мелодия» (Москва): грампластинка Д-024792, № 2.
См. звуковое прилож. № 1.
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН (№ 115, 116)
Сюжет зафиксирован практически во всех районах бытования русского эпоса — от беломорского побережья до Терека, от Заонежья до Алтая и Восточной Сибири. Однако, несмотря на широкую географию и сравнительно большое количество записей, ни в одном регионе эта былина не выдвинулась на первый план; развернутых, логически завершенных вариантов наберется не более полутора десятков, причем большинство из них записано до революции. Явное ослабление интереса к этому сюжету исследователи склонны объяснять тем, что в европейской части России его почти повсеместно вытеснял близкий по содержанию и композиции сюжет «Илья Муромец и Идолище» (см. об этом: Д и А, с. 399—401).
Обе печорские записи «Алеши и Тугарина» относятся к числу лучших вариантов этой былины; особый интерес они представляют еще и потому, что сделаны Н. Е. Ончуковым в местах активного бытования сюжета «Илья Муромец и Идолище» и позволяют привести дополнительные аргументы, подтверждающие генетическую связь этих двух былин (см. об этом коммент. к сюжету «Илья Муромец и Идолище»). Тексты печорских
- 726 -
сказителей содержат почти все ключевые эпизоды основной версии сюжета — «Алеша побеждает Тугарина в Киеве» (Азб., с. 287): выбор Алешей и его спутником дороги на росстани; диалог с хозяином пира по поводу места за столом; обжорство Тугарина и колкие насмешки Алеши Поповича над ним; короткая стычка в княжеских палатах (Тугарин бросает в Алешу нож, тот удерживает Екима от схватки и откладывает поединок на следующий день); молитва богатыря о дожде, который смочил бы бумажные крылья Тугарина; изворотливость и хитрость Алеши, помогающие ему одолеть противника; возвращение Алеши в город с головой врага на копье. В печорских былинах Тугарин изображается как великан-змеевич, но не змей: он ездит на коне, вооружен, как обычный воин-всадник, в его угрозе расправиться с Алешей нет ничего «змеиного»:
Да хошь ли Олёша я конём стопчу?
Да хошь ли Олёша я копьём сколю?
Да хошь ли Олёша я живком сглону?(Последняя фраза тоже естественна в устах исполина.) В обоих вариантах Еким — слуга, а не побратим Алеши Поповича и, в отличие от уральских записей, нет даже намека на любовную связь княгини с Тугариным. Несмотря на очевидную близость текстов А. Вокуева и П. Маркова, в них есть и разночтения, касающиеся порой весьма существенных моментов.
№ 115
Онч., № 85 «Олеша Попович, Еким паробок и Тугарин»; Д и А, № 35.
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
В строке 91 слово «не утерпел» восстановлено по аналогии со строкой 79.
Один из лучших среди всех известных науке вариантов этой былины, сохранивший целый ряд архаичных деталей. «Обращает на себя внимание упоминание града Суздала (Суздали). Наряду с традиционными Черниговом и Киевом такое немотивированное упоминание, а также точное упоминание слова „смерд“ оставляют впечатление древности соответствующих частей текста» (Д и А, с. 401). Князь Владимир в этом варианте рад приезду Алеши, он предлагает богатырю самые почетные места за столом, надеясь найти в нем заступника. Видимо, такие отношения с князем изначальны для печорской традиции (ср. аналогичное поведение Владимира в родственном сюжете «Илья Муромец и Идолище»). С одним из печорских вариантов «Ильи и Идолища» (№ 133) былину Маркова роднит указание на то, что Алеша с Екимом садятся «на пецьку на муравленку, под красно хорошо под трубно окно». (Видимо, создатели этой формулы считали, что в княжеской «гриденке светлоей» топили по-черному, как в русских домах XVI в.) Обмен Алеши платьем с «названым братом Гурьюшком» выглядит чужеродной вставкой: Алеша уже «расшифровал» себя на пиру; в отличие от Ильи Муромца («Илья и Идолище») ему нет смысла маскироваться. П. Марков использует редкие детали и формулы, близкие параллели к которым обнаруживаются в текстах, записанных за многие сотни, а то и тысячи верст от Печоры. В описании боя с Тугарином подчеркивается, что «Олёшенька ведь вёрток был, подвернулся под гриву лошадиную», и Тугарин потерял его из виду; смертельный удар врагу Алеша нанес «из-под гривы лошадиноей». Аналогичным образом развиваются события и в варианте заонежского сказителя А. Чукова (Рыбн., 24, строки 43—40), а также в былине о нашествии татар мезенского певца М. Михашина (Григ., III, 98(402)1). Молитву Алеши о дожде Марков сопровождает выразительной ремаркой: «Олёшина мольба богу доходна была». Подобной формулы нет ни в одной былине, записанной в европейской части России, но есть она в тексте с реки Индигирки («Олёшина-та молитва богу дохонная» — РФ, 1, с. 214). И у Кирши Данилова: «Алешины молитвы доходны ко Христу» (КД, 20). В текстах печорского сказителя, в том числе и в комментируемом, как и в Сборнике Кирши Данилова, часто встречается наречие «втапоры». Оригинальна концовка былины Маркова. Насмешки
- 727 -
Алеши над головой побежденного Тугарина изредка встречаются и в других текстах (Мезень — Григ., III, 30(334)); Заонежье — Гильф., 99; Западная Сибирь — Гул., Прилож. I, № 11). Однако печорский певец дает самую развернутую формулу, в которой иронически переосмысливаются портретные детали («голова — будто пивной котел» и т. д.). Примечательно, что именно такое описание внешнего вида врага чаще всего используется в печорских вариантах «Ильи Муромца и Идолища» (см. № 65, 106). Приведенный в начале комментируемой былины портрет Тугарина построен на других художественных образах (строки 61—64). «Аналогичным представляется отказ Алеши Екиму идти на бой из-за того, что у Екима силы вдвое больше (ст. 125—127)» (Д и А, с. 401). Видимо, все дело здесь в порче текста: Марков просто не допел постоянную формулу до конца. Ср. в былине «Илья и Идолище» пудожского сказителя Н. Прохорова и его учеников:
Ах ты сильный, могучий Иванище! <...>
Есть у тя силы с дву меня,
А смелости-ухватки половинки нет(Рыбн., 118)
№ 116
Онч., № 64 «Алеша Попович, Еким и Тугарин».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.
Действие происходит не в Киеве, хотя он и упомянут в тексте, а в Чернигове; князь и княгиня не названы по именам. В отличие от варианта Маркова и печорских записей былины «Илья Муромец и Идолище», в которых князь Владимир учтиво принимает заезжего богатыря (калику), здесь черниговский князь и не помышляет о хлебосольстве: сперва заявляет, что в гридне «все попризанято», а когда ему указывают на свободные места, предлагает гостям устраиваться «на печке на муравленке». Это — достаточно убедительная мотивировка отказа Алеши и его спутника остаться на княжеском пиру в финале былины. (Ср. алтайский вариант, в котором герои отказываются от предложенных князем мест, а в конце былины, как и в комментируемом тексте, не принимают запоздалого приглашения «за единый стол» — Гул., 40.) Появление заключительной формулы продиктовано развитием сюжетного действия.
В тексте Вокуева Тугарин перед боем привязывает себе «крыльё» <...> «гумажноё» (в былине Маркова бумажные крылья не у самого Тугарина, а у его коня). В разгар поединка Алеша пускается на хитрость, обманом заставляя Тугарина обернуться. Его противник изображается как неповоротливое чудовище (ср. варианты с р. Индигирки — РФ, 1, с. 215, 216).
АЛЕША ПОПОВИЧ И СЕСТРА БРАТЬЕВ ЗБРОДОВИЧЕЙ (№ 117)
Сравнительно редкий сюжет. Подавляющее большинство записей сделано на Пинеге и в Поморье, единичные тексты найдены в центральных районах России и в Белоруссии. География записей былины и примыкающих к ней баллад об Иване Дудоровиче и Федоре Колыщатом, практическое ее отсутствие в тех районах, где популярна близкая в сюжетном отношении былина о Хотене Блудовиче, позволили исследователям предположить среднерусское происхождение этой эпической песни (Д и А, с. 408). На Печоре и соседней Мезени сюжет фиксировался по одному разу.
№ 117
Онч. № 3 «Олеша Попович и сестра братьев Долгополых»; Д и А, № 48.
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., д. Чуркина (на р. Пижме) Усть-Цилемской вол. — от Чуркиной Федосьи Емельяновны, 55 лет (уроженки д. Аврамовской на р. Пижме).
- 728 -
После строки 119 примеч. соб.: «Дальше Ф. Чуркина знала старину уже не так твердо и пела не совсем уверенно» (Онч., с. 25.)
«Название текста, по-видимому, дано собирателем, так как в самом тексте не встречается прозвище „Долгополые“, известное по некоторым вариантам былины „Гибель богатырей“ и по различным эпическим текстам книжного происхождения.
Текст исполнен в хорошей традиционной манере. В то же время он — поздний по ряду признаков <...>. Описание сватовства, с разрешения князя и участием Ильи Муромца и Добрыни Никитича, следует считать новинкой, введенное местной традицией или даже самой певицей. <...> Столь же чинное сватовство, заменившее собой лихой увоз, встречается еще в вариантах из Нижней Зимней Золотицы» (Д и А, с. 410).
«Лука и Матвей, дети Петровичи», «роду вольнёго, смирённого» упоминаются в былине Ф. Чуркиной «Илья Муромец и Сокольник» (№ 67) и тоже без эпитета «Долгополые». Однако вряд ли это слово внесено в название былины собирателем — во многих печорских записях «Ильи Муромца и Сокольника» братья Долгополые (часто «Лука да Матвей, дети Петровичи») входят в состав богатырской заставы (см. № 68, 96, 103, 199 и др.), упоминаются они также в одном из вариантов былины о наезде литовцев (№ 263) и в былинах о татарском нашествии на Киев (№ 105, 203).
ДУНАЙ ИВАНОВИЧ — СВАТ (№ 118—131)
Одна из самых популярных былин, отличающаяся стабильностью сюжета, единой трактовкой основных образов-персонажей, одинаковой мотивировкой их действий. Региональные различия касаются имен собственных, оформления отдельных эпизодов, второстепенных деталей. Существенные отклонения от общерусской редакции сюжета, как правило, связаны с разрушением текстов и вторжения в былину сказочных элементов. Из 15 печорских вариантов 3 записаны на Нижней Печоре, 2 записи повторные. В качественном отношении они заметно уступают прионежским, поморским и мезенско-кулойским вариантам. Многие сказители смогли вспомнить лишь начало былины, в большинстве текстов отсутствуют финальные эпизоды (состязание в стрельбе и гибель Дуная и Настасьи). Даже имя главного героя не во всех вариантах традиционно. Характерных только для Печоры особенностей в былине немного: устойчивое имя иноземного царя «Семен Лиховитый» и необычные подробности в портрете невесты («сквозь ее рубашку тело видети», сквозь тело — кости, сквозь кости — мозги, «из кости в кость мозг переливается — скатен жемчуг перекатается»).1 От соседних мезенских вариантов печорские отличаются отсутствием целого ряда мотивов (Дунай пирует вместе со всеми, а не сидит в погребах; он сам подсказывает князю, где искать невесту; Семен Лиховитый недоволен сватовством, но не чернит князя Владимира; нет мотива реки, протекающей от крови героя, и т. д.). Традиционный для этой былины поединок Дуная с Настасьей почти повсеместно вытеснен сказочным эпизодом встречи богатыря со спящей в шатре поляницей (см. также мезенский текст — Григ., III, 99).
№ 118
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 3, с. 340—349; Онч., № 45 «Дунай Иванович».
Зап. Ончуковым Н. Е.; июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Дмитрия Карповича, 40—45 лет.
«Старина записана со слов...» (Изв. ОРЯС, 1902, с. 349).
- 729 -
Несмотря на импровизаторские наклонности исполнителя, текст в основе своей традиционен. Первое сватовство протекает мирно, хотя киевские богатыри ведут себя агрессивно и в случае отказа готовы взять невесту «боем». Нерешительность Семена Лиховитого мотивируется отсутствием старшей дочери — «крыла в доме правого». (Аналогичный художественный образ есть в одной из мезенских записей — Григ., III, 63.) Необычен финал былины — нет состязания в стрельбе, Дунай убивает жену после ссоры на пиру. Поведение богатыря осуждается («Во хмелю-то он суразен был» и т. д.), трагическая развязка трактуется в этическом плане как «суд от царя и от бога» за его грехи (см. гневную отповедь Авдотьи в строках 277—282). Как и в ряде других северо-восточных записей, у иноземного царя не 2, а 3 дочери (см., напр., Аст., I, 85) — это еще одно проявление влияния сказок на былину. О поведении богатырских коней у коновязи см. коммент. к № 136.
№ 119
Онч., № 86 «Дунай».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.
Начало былины не записано, так как, по мнению собирателя, оно идентично началу былины «Дунай», спетой Д. К. Дуркиным (№ 118, строки 1—150). При сопоставлении, однако, видно, что даже «стыковые» стихи пропеты П. Г. Марковым и Д. К. Дуркиным различно:
Строки
Марков П. Г.
Строки
Дуркин Д. К.
1
Выходили удалы добры молодцы
107
Выходили молодцы да все на улицу
2
Выходили молодцы да вон на улицу
Начало былины дано в подстрочнике.
Комментируемый текст содержит некоторые исконные для этой былины мотивы и подробности, утраченные другими сказителями (пленение Дуная и разгром войска Семена Лиховитского, описание боя Дуная с Настасьей — правда, уже после их любовной связи в шатре). Марков использовал редкую в русском эпосе формулу — совет одного русского богатыря другому, как победить поляницу («треси ей за пельки, пинай под гузно» — ср. КД, 50; Рыбн., 165, некоторые северо-восточные варианты «Дуная» — Григ., II., 33, III, 41).
№ 120
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 6, л. 22—25 об. (полев.), тетр. 2, л. 7—9 об. (перебел.); Аст., I, № 76 [«Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 1 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Овчинниковой Агафьи Родионовны, 62 г.
Былина записана со слов и выправлена при пении. Исполнительница заметила: когда поется, «так складнее, а сказываешь, так как сказку» (Аст., I, с. 514).
Традиционное начало былины, завершающееся характеристикой идеальной невесты. Имена собственные не традиционны: Дуная заменил Васенька Окулович — герой былины о царе Соломане, Апросинью — «Марина да лебедь белая» — «очень популярное вообще на Печоре имя женского персонажа» (Аст., I, с. 581). А. Овчинникова «былину слышала от стариков, но видела и в книге» (там же).
Публикуется спетый вариант по полевой рукописи, где круглыми скобками обозначены изменения, внесенные при пении, а квадратными — принадлежащее сказанному варианту.
Сказанный вариант
3
Заводился у князя почестен пир
4
отсутствует
- 730 -
Вместо 5, 6
6, 5
15
Глупее-то хвастат малыма детушка<ми>
25
Тихую смирную речь да приговаривает
27
Все вы сидите́ да все понежены
28
отсутствует
33
Сполюбовницу мне да супротивницу
Между 33 и 34
Супружницу да молоду жену
34
Все тут на пиру да приумолкнули
38
А от меньшего от бельнего ответу нет
41
Выставаёт тут удалой доброй молодец
42
Уж тут Васенька Окулович
44
Уж я прежде досель
45
отсутствует
46
Живал я за синим морём
49
Три года живал я во конюхах
51
Уж я три года жил я во писарях
52
Есь у него да две дочери
54
А в чисто́м ведь поле ездит бога́тырем
55
А друга есть Марина дочь Семеновна
58
Ходит она в тонкой белой рубашецке
60
Тело у ей сквозь рубашку да видитце
При пении также добавлялись отдельные слова, частицы, напр.:
Пение
Рассказ
2
Как у ласкова у князя
У ласкова у князя
7
Да как все ли на пиру
Все на пиру
14
Как глупой хвастает да
Глупой хвастает
19
Он на сапог ле о сапог
Он сапог о сапог,
Иногда изменялись формы слов или менялся их порядок, например:
9—11
еной
иной
30
А как уж я
А уж я как
40
Из того ли ведь угла
Из того ли это угла
Семёнушка
Семёна
И в полевой и в перебеленной рукоп. в строке 38 над словом «бельнего» поставлен «?»
№ 121
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 45 об. — 49 (полев.), тетр. 4, л. 19 об. — 22 об. (перебел.); Аст., I, № 85 «Про Тарокана, сына Заморенина».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Павла Федоровича, 54 г.
Исполнитель рассказал 38 строк, затем после долгих упрашиваний их спел, далее вновь перешел на сказ. В полевой записи круглыми скобками отмечены добавления при пении: строки 1—11, 18—19, 26, 31, 32, 37.
- 731 -
В строке 22 после «Ох вы» — слово неразборчиво. Квадратными скобками отмечены опущенные при пении слова.
Публикуется спетый вариант по полевой записи.
Сказанный вариант:
8
Стол-от идёт-де о полустола́
9
Пир-от идёт-де во полу́пира́
10
отсутствует
21
Сам такую речь да выговариват
22
Уж как все на пиру сидите поженены
24
Уж я один-де хожу да нежонат живу
27
Чтобы можно было ее замуж взять
28
Чтобы можно было-де жоной назвать
29
Уж как все на пиру тут призадумались
30
Уж как все на честном да запечалились
34
А у пришлого у нишшого ответу нет
35
Из того ли из-за столика передьнёго
36
Со той ли скамьи-лавки дубовоей
38
Тарокан-де сын Заморенин
Текст сильно разрушен, не завершен и испытал явное воздействие сюжета «Соломан и Василий Окулович» (в роли свата Дуная заменил Тарокан Заморенин, послы князя Владимира отправляются к Семену Лиховитому на кораблях). Тарокан говорит, что у заморского царя три дочери, но характеризует только двух. Судя по заключительным ремаркам сказителя, он слышал или читал (см. Аст., I, с. 470) и вторую часть сюжета, в которой описывается поединок главного героя с Настасьей-поляницей.
№ 122
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 8, л. 46 об. — 50 об. (полев.), тетр. 2, л. 37 об. — 39 (перебел.); Аст., I, № 72 [«Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 7 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 65 лет, и Носова Якова Прокопьевича, 60 лет.
Былина не окончена, т. к. исполнитель отказался петь, сказав, что «дальше как следует не знает».
Изображение затворничества младшей дочери — мотив, встречающийся в заонежских вариантах (см. Аст., I, с. 577, 578, 581).
В. Носов — единственный печорский певец, от которого сделаны повторные записи «Дуная» (см. № 126, 129). Комментируемый текст обрывается на рассказе Дуная о младшей дочери Семена Лиховитского, которую богатырь считает достойной стать женой князя Владимира. Как и в других былинах сказителя, экспозиционные сцены переданы обстоятельно, изобилуют живописными деталями. Вторая запись, сделанная в 1940 г. (№ 126), значительно полнее. В. Носов ввел в некоторые эпизоды дополнительные подробности (описание пира, развернутый портрет невесты-красавицы), а главное — продолжил повествование, доведя его до счастливой женитьбы князя Владимира. Необычная роль отведена Алеше Поповичу — он должен отвлечь внимание заморского царя, «засесть» с ним «играть в пешечки», а тем временем другие сваты поведут переговоры непосредственно с невестой. Сватовство проходит мирно, хотя намеки на возможное насилие в тексте сохранились. Последняя строка интересна перенесением крестьянских свадебных обычаев в княжескую среду: «Свели молодых на подклет, повалили спать». Третий вариант, записанный от В. Носова всего через 2 года (№ 129), резко отличается от двух первых. В роли главного героя Дуная заменяет Скопин, сюжет «Дуная» механически соединен с исторической песней о смерти Скопина (в 1929 г. Носов исполнял ее как самостоятельное произведение — Аст., I, 74). В рассказе о добывании невесты для князя Владимира опущены некоторые подробности, Скопин по собственной
- 732 -
инициативе описывает красавицу — Афросинью, побуждая тем самым князя свататься к ней. В текст введены некоторые мотивы других былин (отвод Чурилы из числа сватов).
№ 123
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 25 об. — 30 (полев.), тетр. 3, л. 18—20 (перебел.); Аст., I, № 65 [«Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Гаврилы Ивановича, 50 лет.
Традиционное начало былины, содержащее экспозицию и завязку сюжета. Об основных событиях сказано в нескольких строках (55, 56); судя по всему, исполнитель когда-то слышал о поединке Дуная с его будущей женой, но не знает и не встречался с таким концом, «чтобы Дунай взял Овдотью за себя. Ведь он не за себя ходил свататься, а за князя, за князя и взял» (Аст., I, с 581).
№ 124
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 7—9 (полев.), тетр. 3, л. 57 об. — 59 (перебел.) [«Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 15 июля 1929 г., д. Карпушевка Усть-Цилемского р-на — от Носова Василия Евдокимовича.
Собирателем не указаны дата и место записи. Определены по расположению текстов в полевой и перебеленной тетрадях.
Обычное для печорской традиции начало «Дуная».
№ 125
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 68, 68 об., рукоп., л. 23—28, маш. «Про женитьбу Владимира»; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 6, л. 1—8, маш. «Женитьба Владимира»; Л., 1979, № 11 «Про женитьбу Владимира».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 10 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Примеч. соб.: «Эту былину <...> некоторые былинщики Печоры называли иначе — „Дунай Иванович“. Он — главное действующее лицо» (Л., 1979, с. 333).
На месте строк 101, 103—105, 231—233 — строка точек; строка 234 неполная. Восстановлены на основании указаний соб.
Самый полный вариант былины среди всех послереволюционных записей. Семен Лиховитый решительно отвергает сватовство князя Владимира, его дочь тоже противится атому. Текст И. Осташова — единственный на Печоре, в котором Дунай убивает отца невесты. В начале второй части сюжета события развиваются нетрадиционно: Дунай мирно договаривается с Настасьей и женится на ней. Финальный эпизод — состязание супругов в стрельбе из лука — близок к варианту П. Маркова (№ 119).
Разночтения Л., 1979, № 11
12
Сапог о сапог приколачивает
22
Все ребята тут да прираздумались
72
Говорит Дунай да сын Иванович
78
Поехал Дунай сын Иванович
85
Аль приехал ко мне в услуженьице
94, 101
Срубила б у тебя буйну голову
111
Предал его да смерти лютоей
- 733 -
125
Горькими слезами она заплакала
140
Подъезжает к шатру чернобархатну
153
Говорит она таково слово
155
Убил я князя Лиховитого
182
Ой есь, Дунай сын Иванович
189
Положим колечко на головушку
194
отсутствует
199
Встал Дунай сын Иванович
205
Говорит-то Настасья дочь Семеновна
208
И клала себе на голову колечико
№ 126
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 76, 77, рукоп.; Л., 1979, № 10 «Про солнышко Владимера».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 19 авг. 1940 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 75 лет.
Повторная запись (см. коммент. к № 122).
Разночтения Л., 1979, № 10
4
Про всех людей торговыих
8
Собрались ребята на почестен пир
13
Княженецка радость — в полурадости
21
У всех у вас жены повыбраны
25
Вы не знаете ли кто мне-ка супружницу
29
Сквозь ейные чтобы рубашки тело видети
31
А не скатен жемчуг перекатается
50
Прежде, досель, в молоду пору
58
Три года я жил у него в стольниках
61
Было у Семена тогда две дочери
64
Ездит-гулят все во чисто поле
65
Бьется-дерется все с богатырьми
71
За семью она стенами за каме́нными
72
За семью за дверями за железными
73
За семью за замочками немецкими
74
За семью за околенками хрустальными
76
Сидит-живет на стульчике ремешчатом
83
Ровно скатен жемчуг перекатается
84
Загорелось у солнышка ретиво́ сердце
Вместо 90
Олёша Попович умеет играть
Во мелки пешки-шахматы
К 90 сноска:
Это говорит уже Дунай Иванович
92
А в ту ли пору, а в это времечко
93
Мы сходим к Опросенье дочь Семеновной
107
Скоро они да в стремена вступили
108
И скоренько да на коней вскочили
110
Увидели — в поле только курева стоит
114
Вставали ребята ко красну крыльцу
115
Слезали ребята со добрых коней
122
Садилися на стульчики дубовые
- 734 -
126
О сватовстве Опросеньи дочь Семеновны
128
написано отдельно, взято в скобки
130
Пошли они Опросеньи доложилися
136
Есть у меня папочка Семен Лиховитый
139
За мною дело не будут спорное
143
Отец-маменька с ними скоро решилися
156
В стремена вступил и на коня вскочил
158
Ко старому казаку да к Илье Муромцу
164
Слезали они со добрых коней
172
Водочки все повыпили
174
Сходили они да во божью́ церко́вь
177
Пришли они в гридню во столовую
182
Все они стали веселы
В варианте Л., 1979 последовательно изменено ць на ч, отдельные слова даны в литературной форме (вместо русськие — русские, един — один, младшого — младшего, у его — у него, в тюрьмы — в тюрьме, товарищев — товарищей, охвотою — охотою, гриню — гридню, везали — вязали и т. п.), снято большое количество ударений.
№ 127
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 43, 44, маш.; БП, № 23 «О Добрынюшке Никитиче» [«Дунай»].
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Дуркиной Марфы Дмитриевны, 70 лет.
«Краткий прозаический пересказ былины о Дунае с прикреплением ее к Добрыне. Из всего сюжета четко в памяти М. Д. Дуркиной сохранился лишь эпизод состязания Дуная с женой в стрельбе с трагическими последствиями этого состязания, частично переданный в стихотворной форме» (БП, с. 534). В тексте немало грубоватых просторечий, диссонирующих с традиционной былинной лексикой и стилистикой («девка», «подрались», «почухарилась», «брюхо»). В то же время М. Дуркина сохранила в своей памяти выразительную формулу, не имеющую параллелей в других записях: похваставшись на пиру, Марья Семеновна говорит, что Добрыня умеет «ездить да не по впол меня, а стрелять-то не во треть меня».
Разночтения БП, № 25
13
Добрынюшка говорит
15
Обвенчались и пир стали пировать
39 (22)
А прижил ты мне два отрока
Цифра в скобках означает № строки по БП внутри прозаического текста.
№ 128
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 46—49, маш.; БП, № 26 «Дунай».
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Хабариха Усть-Цилемского р-на — от Осташова Якова Андреевича, 65 лет.
«Былина в исполнении Осташова отличается хорошей сохранностью поэтических образов, художественно-словесных формулировок. Сказитель плавно, не обрывая ни одной строчки, вел свое повествование, а окончив, признался
- 735 -
в своем увлечении этой былиной» (примеч. соб. — БП, с. 535). Повествование обрывается увозом невесты для князя Владимира. В строках 76—79 использован популярный образ разбойничьих песен.
№ 129
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 8—13, маш.; БП, № 33 «О Скопине» [«Дунай-Скопин»].
Зап. Лупановой И. П.: авг. 1942 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 78 лет.
Данный вариант представляет собой контаминацию двух сюжетов: «Дунай» и «Скопин».
Былину не закончил: «Вот и все. Дальше не пели» (БП, с. 117).
Третья по счету запись этого сюжета от В. Носова (см. коммент. к № 122 и Прилож. III, № 3).
№ 130
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 91, л. 146—148, маш.; БП, № 63 «Женитьба солнышка Владимира». ФА VI МФ, 325.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 31 июля 1956 г., д. Лабожская Нарьян-Марского р-на — от Суслова Никандра Ивановича, 65 лет.
При пении во время записи на магнитофон исполнитель сбился на строках 4, 5:
Ан на всех же купцей, попов, богатырей,
Как на русских могучих все богатырей,но сам заметил свою ошибку и попросил исправить (см. текст).
Текст содержит только первую часть сюжета. «Эпизоды сватовства и увоза Ефросиньи переданы кратко и без изображения конфликта и военного столкнования. <...> Необычным для „Дуная“ является поездка сватов на корабле» (БП, с. 545).
№ 131
Арх. филолог. ф-та Сыктывкарского университета, п. 10, тетр. 1а, 1981 г., рукоп. «Про Владимира-князя» (отрывок).
Зап. Егоровым И. Н. и Зелениным А. В.: лето 1981 г., сел. Усть-Цильма — от Чупровой Федосьи Ефимовны, 73 г.
Отрывок из, начала былины. Упоминание Греции — результат возможного знакомства с каким-то печатным текстом.
БОЙ ДОБРЫНИ С ДУНАЕМ (№ 132—137)
«Былина на редкую в русском эпосе тему о столкновении двух русских богатырей друг с другом. <...> Принадлежит к числу малоизвестных» (Аст., I, с. 568). Самое большое количество записей сделано на Кулое, чуть меньше — на Мезени и Печоре; 2 варианта записано на Зимнем берегу. За пределами северо-восточного субрегиона сюжет фиксировался только на Пудоге в составе былины «Добрыня и Алеша» (версия Н. Прохорова и его учеников).
Наиболее полными и цельными в идейно-художественном отношении являются мезенские тексты. В них неизменно признается моральная правота Добрыни, Дунай осуждается киевскими богатырями и князем Владимиром. Оставляя на шатре подпись «со великими угрозами», Дунай посягает на свободу действий других богатырей, чем справедливо возмущается Добрыня:
- 736 -
Ишше этих страстей дак нам боетисе —
Нам не надобно по полю поляковать.(Григ., III, 17)
Будто нам уж молодцам и в поле выезду нет.
(Григ., III, 37)
Золотицкие и большинство кулойских вариантов относятся к этой же версии сюжета, но в них нет такой четкости и определенности в критериях моральной оценки главных персонажей, да и осуждение Дуная далеко не всегда столь безоговорочно. Печорские варианты гораздо беднее подробностями, во многих из них скомкана концовка, лишь в двух текстах (№ 132, 133) рассказывается о том, как Илья Муромец рассудил Добрыню с Дунаем, еще один сказитель прозой сообщил: «Стар казак приехал <...> и их рознял» (№ 135). Главное отличие печорской версии от мезенско-кулойской — мирная развязка. Оба богатыря оказались по-своему правы: Дунай не оставил шатер «без угроз молодецкиих», а Добрыня не побоялся этих угроз. Такой же финал характерен для пудожских вариантов, в которых место Дуная занимает Алеша Попович. Эту версию сюжета одни исследователи считают более поздней по времени возникновения (Аникин, с. 54—56), другие — более древней (Русский былинный эпос на Севере, с. 154, Д и А, с. 388). Все 6 печорских вариантов былины записаны в Усть-Цилемском районе.
№ 132
Онч., № 7 «Бой Добрыни и Дуная»; Д и А, № 22.
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.
Предлог <с> в строках 50, 118, 128 восстановлен по аналогии со строкой 59.
Самый ранний по времени записи и самый полный печорский вариант былины, содержащий некоторые подробности, утраченные сказителями следующего поколения (размышления Ильи Муромца о том, как ему поступить после выяснения этнической принадлежности сражающихся богатырей; рассказ Дуная о своей службе иноземному королю). А. Осташов вложил в уста Ильи выразительную формулу:
Разве на земле-то стало да ноньце юзко вам?
Кабы до́ неба-то стало да ноньце низко вам?В другом месте сказитель еще раз подчеркнул эту важнейшую мысль былины (русские богатыри должны жить в мире друг с другом): «Не дерутца ле где руськие богатыри; кабы два ноньце руських, дак помирить надо». Любопытно упоминание «моря Варальского» — еще одно свидетельство географической осведомленности печорцев.
№ 133
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 31 об. — 35 (полев.), тетр. 4, л. 11—13 (перебел.); Аст., I, № 82 [«Добрыня и Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Дмитрия Карповича, 83 г.
Былину на данный сюжет Н. Е. Ончуков от Д. К. Дуркина не записал.
В основном текст не выходит за рамки печорской традиции. Однако Д. Дуркин не описывает поединка богатырей — Дунай преследует Добрыню, едущего в Киев, где их мирит Илья Муромец. Мотивировка примирения — «один оставил шатер с угрозою, а другой хоть попил-поел — не унес ничего» — знаменует собой еще больший отход от первоначального осмысления конфликта, характерного для мезенско-печорской версии сюжета.
- 737 -
Разночтения Аст., I, № 82
11
Задумал приворотить к шатру да к чернобархатну
48
Почищай ты у их да....
49
И подпирай у их ты....
№ 134
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 2, л. 43—47, (полев.), тетр. 3, л. 48—50 об. (перебел.); Аст., I, № 49 [«Добрыня и Дунай»].
Зап. Астаховой А. М.: 13 июля 1929 г., сел. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Савелия Дементьевича, 62 г.
Строки 1—72 спеты, остальные переданы словесно.
В полевой записи к строке 38 в скобках добавлено: «все розведывать» (тетр. 11, л. 44 об.).
«Восходит к редакции единственного варианта у Ончукова (см. № 132), отличаясь от последнего лишь некоторым словесным переоформлением, а от всех печорских вариантов — необычным для печорской традиции концом: убийством Дуная. Конец этот, возможно, Савелий Деменьтьевич, позабыв настоящий, тут же придумал (см. слова самого исполнителя: „Как тут было, не знаю“). Но, может быть, исполнителю когда-нибудь приходилось слышать былину с трагическим концом. <...> Пел на тот же напев, что и былину о Садко. Напев этот близко стоит к песенным напевам, и местами он также разбивает отдельные слова, как это делается в песне» (Аст., I, с. 569).
Как и в большинстве других печорских текстов, Добрыня сначала отъезжает от шатра Дуная и лишь потом, побоявшись неминуемых обвинений в малодушии, возвращается и учиняет погром. В изображении хмельного буйства Добрыни чувствуется ироническая насмешка («Пал коню своему под ноги» — см. также следующий текст).
Разночтения Аст., I, № 49
35
Думучись Добрыня прираз... ах да призадумался
№ 135
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 11, л. 18—20 об. (полев.), тетр. 3, л. 41 об. — 43 (перебел.); Аст., 1, № 52 [«Добрыня и Дунай»].
Зап. Астраховой А. М.: 12 июля 1929 г., сел. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Афанасия Максимовича, 75 лет.
Примеч. соб. к строке 9: «Очевидная оговорка вместо „чернобархатный“, см. следующий стих».
«Текст, как и другой вариант из той же деревни от С. Д. Чупрова (№ 134), восходит к редакции этого сюжета, зафиксированной в записях Ончукова (см. № 132). По словесному оформлению оба варианта из Замежного чрезвычайно близки, что объясняется частым совместным исполнением. <...> Позабыв в подробностях конец былины, А. М. Чупров помнит все же, в противоположность Савелию Чупрову, о благополучном исходе и о роли Ильи Муромца.
„Невой-река“ — очевидно, переосмысление непонятной „Несей-реки“» (Аст., I, с. 569).
№ 136
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 30 об., 31 об. (полев.), тетр. 3, л. 21 об., 22 об. (перебел.); Аст., I, № 66 [«Добрыня и Дунай»].
- 738 -
Зап. Астаховой А. М.: 10 июня 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Гаврилы Ивановича, 50 лет.
Исполнитель спел только три первых строки, чтобы показать напев, остальной текст рассказал.
Полузабытый, путаный текст, в котором выпущены многие ключевые эпизоды. Вместо Дуная на спящего противника сначала хочет напасть, а потом будит его Добрыня. Г. Чупров использовал популярный в богатырских сказках и изредка встречающийся в былинах мотив: Добрыня спускает своего коня к коню противника, чтобы по их поведению узнать, кто победит в предстоящем бою (см. № 118, 127, а также Марков, 37, Рыбн., 130, 131, Григ., III, 99).
№ 137
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 406, л. 518, маш.; БП, № 42, нап. IV «Про Добрыню». ФА VI МФ, 212.2.
Зап. Колпаковой Н. П.: 23 авг. 1955 г., д. Кривомежная Усть-Цилемского р-на — от Носова Лазаря Михайловича, 76 лет.
«Текст представляет собой начало былины о встрече и бое Добрыни с Дунаем. Дальнейшее повествование исполнителем забыто. Следы забвения былины несет и данный отрывок: не указано, что в шатре (или над входом в шатер) находилась надпись, заключавшая угрозы тому, кто посмеет тронуть оставленные напитки и еду, — это и побуждает Добрыню учинить разгром шатра» (БП, с. 539).
Разночтения БП, № 42
14
Уж как вырвал шатер на мелки дребезги
ДЮК СТЕПАНОВИЧ И ЧУРИЛА ПЛЕНКОВИЧ (№ 138—152)
В сборнике Н. Ончукова сюжет представлен единственным вариантом (Онч., № 24), что не соответствует его истинному месту в репертуаре печорских сказителей. Новые записи вывели былину о Дюке в число наиболее популярных, по общему количеству вариантов (15) Печора уступает лишь Онего-Каргопольскому краю, значительно превосходя все остальные районы Русского Севера. Подавляющее большинство текстов отличается сложной композицией.
Текстологический анализ заставляет усомниться в справедливости утверждения, что «печорские варианты переводят конфликт в план личного столкновения Дюка и Чурилы» (Аст., II, с. 743). По своему идейному пафосу печорские варианты близки к прионежским и кенозерско-каргопольским; почти все содержащиеся в них эпизоды и мотивы подчинены главной художественной задаче — подчеркнуть превосходство Галича над Киевом. Этому способствует использование ряда традиционных мотивов, известных по записям из других регионов (Дюк опасается замарать сапоги на грязных улицах Киева, пренебрежительно отзывается с киевских калачах; посланцы князя Владимира принимают за пожар сияние золоченых крыш и маковок Дюкова терема и даже сарая, они путают нарядных служанок богатыря с его матерью, не в силах оценить и малой части Галицких богатств). Этой же цели служат оригинальные детали и подробности, удачно найденные местными певцами (см. коммент. к № 138, 139, 141, 143, 147, 150). Дюк бросает вызов всему Киеву, поэтому князь Владимир нередко велит заключить его в темницу, в Галич отправляет самых известных богатырей, а в одном из вариантов сам едет «описывать Нижнюю Галицу» (№ 145). Что касается Чурилы, то в записях нового времени его часто заменяют более популярные былинные герои, прежде всего Алеша Попович—143, 145 (та же тенденция характерна для мезенских и кулойских текстов).
Сюжетная схема этой былины на Печоре довольна устойчива и содержит все ключевые эпизоды (выезд Дюка из родного города и напутствие матери, похвальба на пиру у князя Владимира, два состязания с Чурилой, оценка мужества богатыря), однако в порядке их следования вариаций гораздо больше, нежели
- 739 -
в онегокаргопольских записях. Особого внимания заслуживают оригинальные мотивы и подробности, которых в печорских текстах немало (в основном они концентрируются в первой части былины).
1. В прионежской традиции инициатором столкновения, как правило, является Чурила, Дюк вынужден защищать свое доброе имя и делает это с блеском. В печорских вариантах Галицкий богатырь с самого начала настроен агрессивно — в церкви он силой вытесняет Чурилу с правого клироса и язвительно прерывает его сетования:
Не то ноньце поют да не то слушают —
Поют и слушают обедню воскресенскую.2. Активную роль в развитии действия играет Илья Муромец — как и в ряде других районов, он покровительствует Дюку, помогает ему советами, удерживает от скоропалительных решений. Обычно былинные певцы ничем не мотивируют симпатии Ильи к заезжему молодцу, лишь в кенозерско-каргопольской редакции сюжета освещается предыстория их отношений. Иное художественное решение (быть может, не столь удачное, если помнить традиционное бескорыстие Ильи Муромца) нашли печорские сказители. Зная характер своего сына и предвидя неминуемые осложнения в Киеве, мать Дюка дает ему подарок для Ильи Муромца — «перстяночки барановы», перчаточки «жемчужные», «златы»; они Илье «во люби пришли». Нечто подобное есть и в одном из золотицких вариантов (ТМ, 49), но сходство оказывается чисто внешним, так как подарок — «Дюковые обродочки» — унизителен для Ильи Муромца. В печорских же текстах его авторитет непререкаем.
3. В ряде вариантов Дюку приходится отложить свою поездку, так как обиженный конь отказывается ему служить:
Не могу я нести тебя в стольный Киев-град:
Ты кормил меня травой-осотою,
Поил меня водой болотною.Богатырь насыпает коню «пшены белояровой», поит его ключевой водой и только после этого отправляет в путь.
4. В начале былины большинство сказителей использует такой мотив: поднявшись на высокую гору, Дюк смотрит в подзорную трубу во все четыре стороны; подробно описывается открывающаяся перед ним панорама. На Печоре это описание приобрело характер «общего места» и встречается в нескольких сюжетах («Илья Муромец и Сокольник», «Бой Добрыни с Дунаем», «Козарин»).
5. Родина Дюка устойчиво именуется «Нижней Малой Галицей», «Корелой пребогатой».
6. Среди Галицких сокровищ, поразивших воображение послов князя Владимира, выделяется чудесная «братынечка позолочена», у которой «семьдесят семь рожков».
В приведенном перечне преобладают сюжетообразующие элементы, что дает полное право говорить о существовании печорской редакции данной былины. Характерные для нее мотивы и подробности зафиксированы как в Усть-Цилемском, так и в Нарьян-Марском районах, лишь описание братыни не отмечено в низовьях Печоры.
Специфические черты этой редакции сюжета наиболее полно представлены в текстах № 138, 139, 141, 142 этого издания, а беднее всего — в вариантах, испытавших книжное влияние и лишь частично восходящих к устной традиции (№ 148, 149). См. также Прилож. III, № 2.
№ 138
Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн 3, «Печорские былины», № 5, с. 317—325; Онч., № 24 «Дюк Степанович».
Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
«Старина записана со слов» (Онч., Изв. ОРЯС, 1902, с. 325).
Один из лучших печорских вариантов, содержащий почти все отмеченные выше особенности местной редакции сюжета. Именно этот текст дал повод говорить о «переводе конфликта в план личного столкновения Дюка
- 740 -
и Чурилы» (Аст., II, с. 743) как о специфической черте печорской традиции. Между тем и в былине Поздеева далеко не все замыкается на личном соперничестве Дюка и Чурилы, ибо последний трактуется как представитель всего Киева, ставленник князя Владимира и «бояр толстобрюхих». В художественной структуре данного текста важное место занимает эпизод с «колачиком крупищетым», который пришелся Дюку не по вкусу. Чурила сам подчеркивает, что дело не только в личной неприязни гостя к нему;
Что это за такой богач пришел?
Над тобой, над князем, ломается,
Над божьим даром изгиляется.Последовательно выигрывая у Чурилы одно состязание за другим, Дюк тем самым ставит под сомнение богатство и славу стольного Киева. Заключительные слова его матери звучат как вывод-обобщение (строки 249—250).
Сказитель использует прием предварения событий: наказ Омельфы Тимофеевны сыну не состоит из общих сентенций («княженевски пиры злы-омманчивы», «не захвастай своим богачеством»), мать подсказывает, как узнать Илью Муромца; она заранее уверена, что «перстяночки эти ему в люби придут». Поздеев — один из двух печорских певцов, называющий Дюка «боярином» (строка 176), второй — Т. Кузьмин, вариант которого испытал сильное влияние книжных источников (см. коммент. к № 148). В Прионежье и Каргополье героя этой былины постоянно именуют «боярским сыном».
Разночтения 1902 г.
256
А впредь не хвастает
№ 139
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 6, л. 29 об. — 44 и тетр. 7, л. 2 об. — 26 (полев.), тетр. 2, л. 12—29 об. (перебел.); Аст., I, № 71, нап. XI «Дюк Степанович».
Зап. Астаховой А. М.: 1—2 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 65 лет.
Запись на ФВ 7 июля 1929 г. Гиппиуса Е. В., Эвальд З. В. — ФА I ФВ, 598.1:
- 741 -
Ай во етоей ай да во Нижной Малой да Галицы,
Ай да есь ле да там, живёт да пречесна вдова
Как по имени дак Омельфа ли дак Тимофеёвна.
Ай да есь у неё да чадо любимо, едино чадо,
Ах молодой-то ли наш князь да верной, право, Дюк Степановиць.
Ай да немножко ёт рожденьица, восемьнадцать лет.
Ах да предумалось ле ему да преохвотилось,
А где съездить ле где сходить ли, верно, к синю морю,
А на те ноньче да на круты баские бережка,
А на ти ноньче на пески ле жолты Макарьёвски,
А пострелять ле там гусей ле, белых ли лебедей.Былину перенял от Торопова Игнатия Васильевича. Текст записан в два приема: вторая часть (начиная с 223 строки) спета 2 июля, исполнялась неохотно, на более быстрый напев, чем первая часть былины. Сказителю подпевала дочь Марфа, 15 лет, и внучка Татьяна, 13 лет (см. биографическую заметку о Носове В. П., с. 485).
Былина записывалась во время пения, отчего в записи есть невосстановимые места (Аст., I, с. 584—585).
Единственный печорский вариант, в котором противопоставление Киева Галице заметно приглушено, а князю Владимиру отведена роль третейского судьи в спорах Дюка и Чурилы. В значительном по объему тексте (567 строк) из многочисленных эпизодов и подробностей, бросающих тень на Киев и его князя, сохранены только те, без которых нарушилась бы логика повествования. Видимо, такое сужение конфликта — результат сознательной творческой установки В. П. Носова или одного из его учителей, так как антикиевская тенденция чувствуется даже в кратких, полуразрушенных печорских вариантах. Во всем остальном былина Носова остается в русле местной традиции, содержит практически все характерные для печорской редакции сюжета особенности (нет только эпизодов, связанных с Ильей Муромцем, его имя вообще не упоминается). Исполнитель хорошо владеет былинным стихом, любит повторы, детализированные описания, обладает богатым запасом эпических формул. Особенно часто он использует синонимичные словосочетания — «роздеватися-розболокатися», «находоцка-нападоцка», «поехал-погонил» и пр. Пристрастие певца к развернутым повторам не всегда художественно оправдано (напр., словесная перепалка Чурилы и Дюка в церкви — строки 181—201). В. П. Носов — единственный печорский сказитель, сохранивший редкое в северо-восточных районах описание чудесных орлиных перьев. (В прионежско-каргопольском регионе этот мотив очень популярен). В строках 218—223 сказитель допустил
- 742 -
неточность (по логике вещей, вместо прямой речи должно быть повествование от третьего лица). «Енисей-река» (строка 257) — позднейшая замена традиционной «Пучай-реки» или «Непры-реки» (Днепра). В строках 325 и 346 использована формула волшебных сказок.
В повторной записи 1940 г. (№ 142) некоторые эпизоды опущены или сокращены. Не упоминается чудесная братыня, из трех состязаний Чурилы с Дюком осталось только последнее; первая стычка между ними происходит не в церкви, а на пиру, что приводит к явным алогизмам (формула «не то нонче поют, не то слушают оказывается неуместной»). Изменена и развязка былины — Дюк прощает своего заносчивого соперника.
Разночтения Аст., I, № 71
3
Как по смени ай Ёмелфа да Темофеевна
4
А-сь да как есь у ей да едино чадо
5
Ах да молодыи да Дюк да Степановець
6
А да немного е от рожденьица да двенадцать лет
57
Поеждяй назад ты да в Нижную Галицю
152
А ты здраствуй, удалый добрый молодец
307
А у мня-то дело приезжее
419
А пускай не находит на меня Чурило да бладо Плёнкович
448
Да гумаги повыдержали на тысецу
Примеч. соб.:
К строке 53: «„ю“ в слове Дюк звучит почти совсем как „ё“».
К строке 58: «„я“ близко к „ё“, иногда „ай-ей“».
К строке 113: «в рукописи неразборчиво».
Строка 127 была вставлена дополнительно.
Строка 158 была вставлена при проверке.
К строкам 282, 296, 507, 508 — в рукописи пропуски.
№ 140
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 26 об. — 28 (полев.), тетр. 3, л. 67 об., 68 об. (перебел.); Аст., I, № 90 «Дюк Степанович».
Зап. Астаховой А. М.: 19 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Николая Самсоновича, 79 лет.
«Былину пел на тот же напев, что и остальные, заметив, что следует петь по-другому, но ему тяжело» (Аст., I, с. 585).
Собиратели записали только начало былины, по которому можно судить, что вариант Н. Торопова относится к местной редакции сюжета (упоминается «Нижняя Малая Галица», подробно описан выезд Дюка «на шоломя на укатисты» и осмотр окрестностей в подзорную трубу). Даже в небольшом 30-строчном отрывке проявляется незаурядное мастерство сказителя; в полном виде его былина, несомненно, заняла бы почетное место среди других печорских записей.
Текст Н. Торопова — единственный, в котором указывается, что Киев расположен к востоку от Галицы (обычно указывается южная — «летняя» сторона, в одном варианте — северная).
№ 141
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 65 об., 66 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1—11, маш.; Л., 1939, № 10; Л., 1979, № 19 «Дюк Степанович».
- 743 -
Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
В рукописи на месте строк 25—30, 51—58, 60—64, 101—105, 108—112 — строки точек. Строка 107 — неполная. Восстановлены на основании указаний соб., по аналогии.
Сохраняя основные приметы местной редакции сюжета, комментируемый вариант по композиции проще № 138, 139 (опущены эпизод с конем и диалог Дюка с княгиней Апраксией или слугами князя Владимира — приехав в Киев, герой сразу отправляется в церковь). Изменен порядок основных эпизодов — былину заключают скачки на конях через Дунай-реку. Подобно В. П. Носову, И. Осташов трактует описание имущества Дюка, как оценивают назначенные князем «писари» Алеша Попович и Добрыня. Вместе с тем в тексте настойчиво подчеркивается антитеза «Киев-Галица». Уже в экспозиционной части содержится явный намек на превосходство Галицы (строки 33—40). Чурила, не простивший Дюку стычки в церкви, на пиру умело настраивает киевлян против «чужака»:
Тебя, князя, ничем зовёт,
Нас, богатырей, ни во что кладет.(Эта формула, по всей вероятности, перенесена из былины «Илья Муромец и Сокольник».) На Дюка «осердились все», даже «арестовали» его, лишь Илья Муромец «не дават его в обидушку», садит за передний стол по праву руку от себя. И молодой богатырь благодарен своему заступнику: выиграв первые два состязания, он не рубит сопернику голову, как предусмотрено уговором.
Поглядел он на старого Илью Муромца
И простил Чурила млада Пленкова.В целом вариант Осташова выдержан в традиционном духе, насыщен постоянными формулами, повторами. Удачно найден сказителем мотив-скрепа, органично соединяющий эпизод на пиру с состязанием платьями. Пытаясь унизить Дюка, заносчивый Чурила заявляет:
Я куплю-продам тебя одной своей куньей шубою!
Включение в текст новой лексики порой диссонирует с общим возвышенно-поэтическим лексическим строем былины («арестовали», «пальто», «магазин сбруи лошадиной», «рюмка вина»).
Разночтения Л., 1939, № 10 и Л., 1979, № 19
3
Выезжает Дюк сын Степанович (1979)
4
отсутствует (1979)
5
Выезжает на горы Сарачинские (1979)
13
Говорит-то Дюк сын Степанович (1939, 1979)
16
Поворотил он своёго коня доброго (1979)
36
Не огонь горит и не зарево (1939, 1979)
38
Сарай у нас горит серебряной (1939)
41
Говорит Дюк да сын Степанович (1939)
47
Уж не дам я тебе благословеньица (1939)
49
Молодехонько ты, дитя, зеленехонько (1979)
56, 65
Уж не дам я тебе благословеньица (1939, 1979)
59
Третий раз Дюк ее выспрашивал (1939, 1979)
69
Заплакала мать его родимая (1979)
75
Ой еси, мое чадо милое (1939, 1979)
84, 85
отсутствуют (1979)
88
Своими плечами могучими (1979)
96, 110
Говорит Дюк да сын Степанович (1979)
- 744 -
114
Выходили они да все на улицу (1939)
126
Тот-де Дюк сын Степанович (1979)
127, 128
отсутствуют (1939)
146
Все стали на него поглядывать (1939)
147—156
отсутствуют (1939)
158
Тут Дюк с Чурилом крепко спорили (1939)
177
Клал ярлык в седелышко зеркальчато (1979)
180
В ту же да Нижну Галицу (1939)
187
отсутствует (1979)
188
отсутствует (1939)
Да ой есь, матушка родимая (1979)
189
отсутствует (1939)
После 195
Вымал свое пальто да воскресенское (1979)
213
Рубить у Чурила буйну голову (1939, 1979)
215
отсутствует 1939)
221
Говорит Чурило таково слово (1939)
После 238
ремарка отсутствует (1939)
242
Я ей только кухарочка (1939)
Я, — говорит, — ейна кухарочка (1979)
244
отсутствует (1939)
253
отсутствует (1979)
264
Ой есь, удалы добры молодцы (1939)
Ой еси, удалы добры молодцы (1979)
268
Подала по рюмке вина заморского (1979)
270
По другой подала рюмочке вина заморского (1979)
281
Не описать нам ейно имущество за целый год (1979)
287, 288
перестановка строк: 288, 287 (1939)
292
Описывали только два месяца (1939)
296
Заберет нас на круглый год (1979)
298
отсутствует (1979)
300
Рубить-разбить его буйну голову (1939)
302
Стали его да упрашивать (1979)
Стали его упрашивать, уговаривать (1939)
306
Не стал ему рубить да буйну голову (1939)
Не стал рубить его да буйну голову (1979)
312
Тут-то они прирасспорили (1979)
322, 323
отсутствуют (1939)
336
Не омочил он ни копытика (1979)
№ 142
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 77 об., 78 об., рукоп.; Л., 1979, № 18 «Про Дюка сына Степановича».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 20 авг. 1940 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 75 лет.
Повторная запись (см. коммент. к № 139).
Разночтения Л., 1979, № 18
3
По имени Омельфа Тимофеевна
- 745 -
14
От буйно́й главы до сырой земли
25
Берет он уздилочку тесменную
30
Скоро он, Дюк, в стремена ступил да на коня вскочил
31
В стремена вступил да на коня вскочил
68
Быстрые речки — на скок скакнем
71
Ко своей ли маменьке родимоей
76
Поил его водой ключевою
78
Говорил ему свой добрый конь
86
К своей ли маменьке родимоей
87
Просил он у ней благословеньица
88
От буйной главы до сырой земли
103
Со всема ли со русскими бога́тырьми
106
Не хвастай своей золотой казной
111
Говорил тут Чурило таковы слова
114
Всех стеснил рускиих богатырей
115
Меня-то, Чурилку, вовсе с места сжил
119
Говорил еще Чурила во второй нако́н
123
О своей-то ли буйной го́лове
127
У которого больше у нас окажется
137
Гости незваны, гости не́жданны
145
Калачик съешь — другой хочется
149
Не описали у него еще конюшен двор
150
Не описали лошадей хорошиих
151
Не описали сбрую лошадиную
158
Со великим большим богачеством
В варианте Л., 1979 заменено ць на ч, тца на ться, отдельные слова даны в литературной форме (вместо приохвостилось — приохотилось, благословленьицо — благословеньицо, о тысячи — о тысяче, у его — у него, медляные — медяные и т. п.).
№ 143
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 126—132, маш.; БП, № 3 «Дюк Степанович».
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
В тексте сохранена общая сюжетная канва былины, однако он не отличается высокими художественными достоинствами. Совсем не упомянут Чурила Пленкович; в одних эпизодах его заменяет князь Владимир, в других — Алеша Попович (сцена на пиру, перескакивание на коне через Днепр-реку). Заметен отход от традиционной былинной фразеологии, склонность певицы к импровизации. Забывая традиционные для «Дюка» эпические формулы, она охотно вводит в свой текст сказочные мотивы, элементы плачей, исторических песен, развернутые описания из других былинных сюжетов. Как правило, такие переносы сопровождаются переосмыслением постоянных формул, их деформацией. Так, в строках 58—61 с трудом угадывается формула укора коню из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», а в строках 116—121 — описание чудесных пуговиц Дюка. (Кстати, использованные здесь поэтические образы связаны не с печорской, а с прионежской традицией.)
Не исключено знакомство А. Носовой с печатными источниками. Ее вариант крайне беден сугубо печорскими мотивами и формулами, даже мать главного героя названа не «Омельфой Тимофеевной», а «Офимьей Федоровной». С местной редакцией сюжета былину Носовой роднит упоминание чудесной «братыни рожков семьдесят»,
- 746 -
хотя описана она как чара с отравленным вином в исторической песне о смерти Скопина и некоторых других эпических песнях (строки 166, 167).
Далее следует крайне неудачная импровизация:
Пахнет ароматом ужасныим,
От аромата все пьянешеньки.В наказе матери героя использована формула, встречающаяся во многих печорских и некоторых мезенских вариантах былины о поездке Василия Буслаева (строки 16, 17). Формула также подверглась деформации. В то же время в тексте есть мотивы, не свойственные местной эпической традиции (упоминавшееся выше описание платья Дюка, бой со «змеей лютой», который справедливо рассматривается в литературе как вариация прионежского мотива «трех застав» — БП, с. 527). Это позволяет предположить переплетение книжных по происхождению элементов с устной печорской традицией (тем более, что в сводной былине А. Носовой о Добрыне влияние печатных источников еще более ощутимо — см. коммент. к № 31). Исполнительница стремилась выдержать стихотворный ритм, но часто сбивалась на прозу (строки 130—133, 178—185 и др.): текст сказывался, а не пелся.
№ 144
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 37—39, маш.; БП, № 24 «Дюк Степанович».
Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Уег Усть-Цилемского р-на — от Дуркиной Марфы Дмитреевны, 70 лет.
Краткий, путаный вариант, соединяющий стихотворные фрагменты с прозаическим пересказом. В стихотворных отрывках М. Дуркина сохраняла былинную фразеологию, традиционные печорские формулы, а переходя на прозу, сбивалась на схематичный и маловыразительный пересказ. Подробно описано выхаживание богатырского коня, которого слуги Дюка (а не он, как обычно) кормили «сеном осотенным», поили «водой болотенной». Нижняя Галица не упоминается, Киев заменен «Ярославом-городом», Пучай-река — «широкой Печорой». Соперником Дюка является не Чурила, а сам князь Владимир: он сажает богатыря в темницу. В тексте встречаются некоторые элементы сказочного оформления (подчеркивание огромного веса одежды и обуви Дюка — их даже Добрыня «не может снести»; богатырский сон героя; типично сказочная концовка).
Разночтения БП, № 24
70
Тут поехал он туда, где был [Дюк] посажен...
80
...жив и здоров
№ 145
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 59—63, маш.; БП, № 13 «Дюк Степанович».
Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.
Довольно полный вариант, содержащий основные особенности печорской редакции сюжета (родина Дюка названа «Нижней Малой Галицей», традиционна роль Ильи Муромца, описано столкновение в церкви с Алешей Поповичем, заменившим Чурилу Пленковича). Несмотря на скомканный конец, противопоставление богатой Галицы Киеву выдержано последовательно, с особой четкостью сформулировано в словах Дюка:
Я, грит, думал, хорош, пригож стольный Киев-град,
А в стольном Киеве ничего нету.
- 747 -
Чурила Пленкович не упоминается, его роль перешла к Алеше Поповичу. Князь Владимир сам отправляется в Галицу описывать богатства Дюка. Изменен традиционный порядок эпизодов: сначала соперники состязаются в скачках через Неву-реку, а затем повествование переходит в обычное русло. Есть в тексте оригинальная деталь, не известная по другим печорским записям, — в церкви Дюк «своим зычным голосом покрывал он всех попов-дьяков». Близкие по характеру мотивы встречаются в двух кулойских вариантах — Григ., II, 45 (257) и 51 (263). Перед строками 90—93 очевидный пропуск исполнителя (или собирателя) — укоры Дюку оказались включенными в его собственный монолог. В строке 111 «вальяжные» (пуговицы) — переосмысление традиционного постоянного эпитета «вальячные» (т. е. литые, чеканные).
Разночтения БП, № 13
104
Открывала седёлышко зерка́льчато
№ 146
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 10—14, маш.; БП, № 34 «Дюк Степанович».
Зап. Лупановой И. П.: авг. 1942 г., сел. Усть-Цильма — от Кислякова Ивана Григорьевича, 70 лет.
Данный «вариант испытал сильное воздействие сказочного жанра как более знакомого и близкого сказителю (от И. Г. Кислякова записано более 16 сказок)» (БП, с. 537).
Замена Днепра или Пучай-реки в эпизоде состязания конями Невой-рекой встречается и в других печорских вариантах (см. № 145).
Примеч. соб.: «Строки 34—38 вставлены сказителем позже» (БП, с. 121).
Подробнее о былине см. БП, с. 537.
«И. Г. Кисляков — известный в Усть-Цильме сказочник, и это наложило отпечаток на единственный записанный от него былинный текст — в нем перемежаются стихотворные и прозаические фрагменты. Начало былины передано стихом, сохраняются постоянные формулы, развернутые описания, параллелизмы и другие особенности поэтического языка героического эпоса. Во второй части — «о состязании» — исполнитель окончательно перешелл на прозаический пересказ. <...> Образы богатырей сопровождаются определениями, связанными с современными понятиями: Чурила — главный генерал, Дюк становится почетным гражданином Киева. Имеются и другие случаи модернизации: «документы пишет о своей головы», «его уже заарестовали», «обрядился в самоцветную пальто» (БП, с. 537).
И. Кисляков придерживается традиционной для Печоры сюжетной схемы, но передает ее не столь подробно, как П. Поздеев, В. Носов или И. Осташов; состязание платьем и опись имущества соединяет в одном эпизоде. Необычно отчество Чурилы — «Никитич» (очевидно, позаимствовано из былин о Добрыне). Любопытно указание, что в княжеских палатах Дюк «молится по старой религии» (строка 77). В районе, где позиции старообрядчества в прошлом были особенно сильны, такая деталь служит знаком глубокой симпатии создателей былины к герою. И не случайно исполнитель завершил свой пересказ словами: «Покорил Дюк сын Степанович, покорил он богатырей богатством всех, покорил он стольний Киев-град».
Разночтения БП, № 34
46
Во двенадцать войлышков, во двенадцать потничков
68
...бегают, малят
109 (108)
Наш пир не во что кладешь, па́ря, ничем считаешь
128
отсутствует
134
Тоже цены не могли дать
138
отсутствует
Цифра в скобках означает № строки по настоящей публикации, не совпадающей с БП.
- 748 -
№ 147
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 158—160, маш.; БП, № 9 «Про богатырева сына» [«Дюк Степанович»].
Зап. Ермолиной И. К.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Савуковой Татьяны Антоновны, 63 г..
Прозаический пересказ былины, по существу уже превратившийся в богатырскую сказку. В тексте выпущены некоторые важные эпизоды, утрачены имена героев, в том числе и главного; лишь мать «богатырева сына» названа по имени, но оно не традиционно — «Владимирка». Тем не менее связь варианта с былинной традицией Печоры не вызывает сомнений. Т. Савукова использует ряд местных формул, в ее пересказе описана чудесная «братына в семдесят рожков», подробно сообщается, как герой выходит на гору и смотрит в подзорную трубу в «западну, северну и летнюю сторону». Обычным для этой былины состязаниям предшествует участие героя в своеобразном турнире киевских богатырей. Проявив высокое воинское искусство, «богатырев сын» получает всеобщее признание, приглашается на пир, где разворачиваются дальнейшие события.
Разночтения БП, № 9
24
Кого махнет...
27
...в свои высокие хорома
28
...и поехали к дому высокому, хорошему
34
...лягнул стену каменну, стена задрожала
53
...а и стены огнем зияют
№ 148
РО ИРЛИ, р, V, колл. 160, п. 3, № 7, л. 30—39, маш.; БП, № 84 «Про Дюка». ФА VI МФ, 327.8; БРМЭ, № 55, нап. с. 287.
Зап. Колпаковой Н. П.: 4 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.
«Превосходный текст, обнаруживающий большое мастерство Кузьмина как сказителя былин. В тексте нет специфических для печорской традиции мотивов, кроме традиционного на Печоре упоминания Малой Галичи и Карелы пребогатой. Отсутствует эпизод высматривания Киева в подзорную трубочку, не упоминается подарок, привезенный Дюком Илье Муромцу (перчатки). С другой стороны, наблюдаются элементы, сближающие текст с прионежскими вариантами: чудесные и опасные заставы на пути в Киев, недоумение оценщиков при виде сверкающей Галичи (неужели Дюк велел спалить Галичу к их приезду?); каждодневная мена масти Бурушкой в эпизоде состязания конями; презрительное обращение Дюка к Чуриле в конце былины: «Не с богатырями бы тебе, Чурила, ведаться, а водиться бы с киевскими бабами» (см., например, все эти мотивы: Рыбн., 16, 29; Гильф., II, 85, 152, 159 и др.). Очевидно, Т. С. Кузьмин слышал или читал былину в прионежской редакции или в обработке, использовавшей прионежские тексты. Вместе с тем есть детали, восходящие к другим былинам: ср. образ Чурилы (строки 51—53) с описанием первого появления Чурилы в былине Кирши Данилова об этом богатыре (КД, 18); юмористическое изображение того впечатления, которое он производит на женщин (строки 54—56), текстуально совпадает с соответствующими стихами нижегородского текста из сборника Киреевского (Кир., IV, с. 87) и варианта сказительницы А. М. Пашковой (Пар.-Сойм., с. 76). Начальные же строки текста Кузьмина (1—4) непосредственно связаны с известными стихами Лермонтова — вступлением в «Песню про купца Калашникова»: «Мы сложили ее на старинный лад», «Мы певали ее под гуслярный звон» (БП, с. 552). Т. Кузьмин, как и С. Маркова, упоминает «Почай-реку», использует описание чудесных пуговиц, отличающееся от традиционного печорского. (Подробнее см. коммент. к № 149). Оригинальный художественный образ:
- 749 -
Во столовой полы да все хрустальные,
Под полами-то верно жива рыбица, —очевидно, генетически связан с побывальщиной Дмитриевой из Заонежья: «<...> половицы в полу стеклянные, под ними вода течет, рыбки разноцветные; а хлестнет рыба хвостом, половица точно треснет. Упирается князь, боится ступать по половицам, однако же ведут, так надо идти» (Рыбн., 88).
Разночтения БП, № 84
3
Еще кто бы-то ль, братцы, давнюю песню спел
4
Всё песню ту спел да под гуслярный звон
8
Со своей ли-то родимоей со матушкой
14
Еще съездить-то мне-ка в стольний Киев-град
24
Не боюся я ведь горы ведь толкучии
31
Проскакал-то его ведь и Бурушко
32
Подъезжает он к птицам да вот и клевучиим
45
Еще-то всё-то ведь здесь да не по-нашему
53
Еще зонтиком Чурила призакрылся жо
54 (55)
Еще молодушки глядят, да как оконницы звенят
65 (66)
Молодой ле ты боярин, Дюк Степанович
70(71)
Как у вас-то ведь в Киеве печки все глиняные
201(202)
И обрушился Чурила засередь реки
Цифры, заключенные в скобки, означают номера строк по настоящей публикации, не совпадающе с БП.
№ 149
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 6, № 5, л. 10, 11, рукоп.; БП, № 76 «Дюк Степанович».
Зап. Митрофановой В. В.: 24 июля 1956 г., д. Качгарт Нарьян-Марского р-на — от Марковой Софьи Степановны, 78 лет.
Комментируя тексты С. Марковой, А. М. Астахова пришла к выводу, что сводная сказка о Добрыне и пересказ былины о Дюке — «сплав слышанного ею в устной традиции и читанного в книгах» (БП., с. 549). К этому можно добавить, что и третья былина Марковой — об Илье Муромце — восходит к книжным источникам (см. коммент. к № 52). Связь с местной традицией проявляется в том, что Дюк по совету матери дарит Илье Муромцу «перцятоцки, жемчугом шитые»; использован также мотив откармливания коня перед дальней дорогой (причем и сам богатырь за это время так «отъелся», что Омельфа Тимофеевна его не узнала). Как и в тексте Осташова (№ 141), Дюк еще до приезда в Киев убедился в превосходстве родного города: осмотрев с горы окрестности, он пришел к выводу: «Ничего в Киеве хорошего нет, белое все, церкви белые, а у нас все золотое». (Возможно, эта деталь появилась в результате буквального прочтения топонима «Золотая Орда», заменившего в комментируемом тексте традиционную «Галицу».) Некоторые мотивы роднят вариант Марковой с записями из Прионежья и Каргополья — «мена масти конем Дюка в состязании конями, исключение Алеши Поповича из числа оценщиков из-за его «загребущих рук». <...> Своеобразной и очень удачной деталью текста является изображение ошибки Дюка, принявшего княгиню Апраксию за портомойницу, — ошибки, обратной, той, которую совершают посланцы от князя Владимира на родину Дюка, принимающие портомойницу за мать Дюка. <...> В конце рассказа ясно припоминание стихотворения А. К. Толстого «Сватовство» (БП, с. 549). Перечень прионежско-каргопольских (или, во всяком случае, не печорских) деталей можно дополнить. Маркова упоминает «лопатниц», «метельниц», которые идут по улице впереди матери Дюка (эта подробность обычна в кенозерско-каргопольских текстах, изредка встречается в пудожских, но не характерна для печорских, мезенских и кулойских вариантов). В описании чудесных пуговиц на одежде Чурилы использован популярный в Прионежье поэтический образ («Чурила провел палочкой по пуговкам, дак с одной стороны мальчик, а с другой девочка, дак поцелуются»).
- 750 -
Сказители Печоры подчеркивают изысканность наряда другими средствами — каждая пуговка поет своим голосом. Для местных записей не характерен гидроним «Пучай-река». И в «Дюке», и в «Добрыне и змее» действие происходит на Непре, Дунай-реке, Енисей (Несей)-реке, и лишь в былинах С. Марковой и Т. Кузьмина (см. коммент. к № 148), явно связанных с книгой, фигурирует «Пучай-река». Что касается ошибки Дюка, по платью принявшего княгиню Апраксию за портомойницу, то эта художественная находка, видимо, тоже не принадлежит Марковой. Данный мотив встречается в побывальщине, записанной в Заонежье П. Н. Рыбниковым (Рыбн., 88), а позднее не раз фиксировался в этом же районе (Аст., II, 142, 149).
Разночтения БП, № 76
5
...дак пошел по городу искать коня, кто укажет
№ 150
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, № 3, № 1, маш.; РФ, т. XII, 1971, с. 234—237 «Дюк Степанович». ФА VI МФ, 769.6; СП, с. 22—24 (отрывки), нап. с. 23
Зап. Балашовым Д. М.: июль 1963 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Вокуева Гаврилы Васильевича, 81 г.
Примеч. соб. к строкам 19, 113, 125 — «исполнитель сбился».
Одна из последних по времени печорская запись былины о Дюке. Вариант содержит целый ряд специфических особенностей местной редакции сюжета (упоминание «Нижней Малой Галицы», столкновение Дюка с Чурилой в церкви, описание чудесной братыни). Некоторые эпизоды опущены (осматривание окрестностей в подзорную трубу, сближение Дюка с Ильей Муромцем, состязание конями), но те, которые введены, излагаются обстоятельно, скомпанованы удачно. Повествование начинается с рассказа об отце богатыря, что необычно для «Дюка» и, видимо, объясняется влиянием былин о молодости Добрыни и Василия Буслаева. Обращает на себя внимание форма имени отца Дюка «Стефан», как нельзя более уместная в сюжете, приуроченном к Галицо-Волынской земле. Интересна еще одна особенность варианта. Приехав к терему князя Владимира, Дюк видит три кольца для привязывания коней — медное, серебряное и позолоченное и подписи, сообщающие, что предназначены они для всадников, принадлежащих к разным сословиям. Богатырь рассудил, что у себя в Галице он живет «простым мужиком», «добрым купцом» и «великим князём», и привязал своего коня сразу за все три кольца. Близких параллелей к этому уникальному мотиву обнаружить не удалось, но отдаленное сходство прослеживается в одном из кулойских вариантов «Дюка» (Григ., II, 51), в мезенской былине о Камском побоище (Григ., III, 111), в текстах с Пинеги (Григ., I, 14(50), устья Индигирки (БС, № 83). Все это позволяет считать своеобразную «иерархию колец» для привязывания коней не домыслом Г. Вокуева или его предшественника, а традиционной, хотя и редкой деталью.
Разночтения РФ, т. XII
4
Как ище того Степан скоро́ преставилсе
19
отсутствует
56
Как богатыри те ище приедут
113
отсутствует
132
Кабы тим да мы платьем с тобой цветныим
133
Отвечает на то ле Дюк ище Степанович
137
Привезут мне платьё ище цветное
Былина была написана на ВСГ «Мелодия» (Москва) 15 окт. 1965 г.: грампластинка Д-025678, № 1.
- 751 -
№ 151
Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 360, л. 74, 74 об., рукоп. «Дюк Степанович».
Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет.
Примеч. соб.: к строке 6 — «произносит хм’ел’наго»,
к строке 9 — «исполнитель сбился».
«Былину исполнял по собственной записи, написанной накануне, чтобы не сбиться» (л. 74 об.).
Стяженный и сильно разрушенный текст, в котором схематично переданы два эпизода: пренебрежительный отзыв Дюка о киевских калачах и списывание его имущества княжескими слугами. Печорской специфики сюжета в варианте не обнаруживается.
№ 152
Арх. филолог. ф-та Сыктывкарского университета, п. 10, тетр. 1а, 1981, рукоп. «О Дюке Степановиче» (отрывок).
Зап. Егоровым И. Н. и Зелениным А. В.: лето 1981 г., сел. Усть-Цильма — от Чупровой Федосьи Ефимовны, 73 г.
Начало былины. Упоминание Нижней Малой Галицы свидетельствует о ее связи с местной традицией.
ЧУРИЛО ПЛЕНКОВИЧ И КАТЕРИНА (№ 153—164)
Былина о Чуриле и Катерине — одна из популярнейших на Русском Севере, имеется большое количество как старых, так и новых ее записей. Ключевые эпизоды устойчиво повторяются во всех районах бытования этого сюжета, однако отношение исполнителей к персонажам варьируется, что отражается на стилистическом оформлении и особенно на развязке былины. Диапазон этих вариаций необычайно широк: оскорбленный муж убивает обоих любовников, служанку-доносчицу, а иногда и на себя накладывает руки (Гильф., 8); он убивает неверную жену и Чурилу, а на служанке женится (см. публикуемые тексты); карает жену, отпуская любовника («До тебя-то мне, Чурило, делу нету-ка» — Гул., 33; «Ты был, Чурило, званный гость» — Гул., 27); после гибели Чурилы Катерина решается на самоубийство (кенозерская редакция). В одних редакциях сюжета подчеркивается глубина и искренность чувства Катерины, семейно-бытовой конфликт приобретает трагическое звучание (Гильф., 224 и другие кенозерско-каргопольские записи), в других любовники изображаются в нарочито сниженном, даже ироническом плане (Гильф., 8 и другие повенецко-толвуйские варианты). В разных районах бытования сюжет осложняется некоторыми дополнительными эпизодами (сборы и выезд Чурилы в повенецко-толвуйской редакции, игра Чурилы и Катерины в шахматы в кенозерско-каргопольских текстах); в былине используется много оригинальных формул, часто иносказательных, построенных на метафорических образах и параллелизме; ареал распространения этих формул, как правило, совпадает с границами регионов. Мужские имена героев устойчивы; если не считать механические переносы из других былин, то варьирование отмечается лишь на фонетическом уровне («Чурила» — «Щурилушка», «Пермята» — «Бермята» — «Берма» — «Ярма» — «Вельма» и др.). Жену Пермяты обычно называют Катериной (Прионежье, Выгозеро, Кенозерско-Каргопольский край, Моша, Сборник Кирши Данилова); в записях с Алтая и из северо-восточных районов европейской части России (в том числе и с Печоры) она чаще остается безыменной, реже получает одно из популярных в руссом эпосе женских имен — «Василиста», «Настасья Викулична». Из 12 печорских вариантов 9 записано в Усть-Цилемском районе (одна запись повторная) и 3 — на Нижней Печоре. Все тексты принадлежат к одной редакции сюжета, ряд особенностей которой обнаруживаются также в записях с Верхней Мезени (Аст., I, 6, 16.) В печорской редакции служанка всегда принимает сторону обманутого мужа, настойчивые попытки Чурилы подкупить ее заканчиваются безрезультатно. Пермята без колебаний убивает Чурилу, но готов простить жену «во первой
- 752 -
вины». Однако героиня отказывается от примирения с нелюбимым мужем, провоцируя его на расправу. С чувством глубокой скорби она говорит о Чуриле: «Не зайдет боле другожды красно солнышко» (№ 153), готова разделить его участь: «Да куда полетел блад ясён сокол, да туда же лети лебедь белая» (7 вариантов из 9), а в одном из текстов не скрывает своей ненависти к мужу (№ 156, строки 113—115). (Ср. попытки героини отравить мужа в записях с Зимнего берега и Пинеги.) С такой группировкой персонажей полностью согласовывается женитьба Пермяты на служанке.
В этой былине местные сказители избегают детализации и развернутых описаний, предпочитая скоротечные, драматические диалоги. Даже троекратные повторы (попытки Чурилы подкупить служанку, «допрос» жены о вещах Чурилы) не вызывают замедления действия, а способствуют предельному обострению ситуации, подготавливают эмоциональные взрывы и решительные, бескомпромиссные поступки героев.
Для печорской редакции сюжета характерны повторяющиеся по вариантам мотивы и формулы, не встречающиеся или редкие в других регионах. Почти во всех текстах подчеркивается, что в доме Пермяты
Тут и зажил Чурило по-домашнёму.
Свешал всё платьицё на грядоцьку,
Кабы шапочку, перчятоцьки на лавоцьку...Аналогичная формула есть в одном из верхнемезенских вариантов (Аст., I, 16), в другом она дана в сокращенном виде (Аст., I, 6). Упрекая Чурилу, служанка обычно прибегает к метафорическому иносказанию, иногда расшифровывая его скрытый смысл: «Ты не парь же кишку да во чужом горшку» (№ 188, 189, 191), «Ты чужу пашню пашешь, да своя так и стоит, ты чужу жону любишь, да своя так живёт» (№ 160—164). На аллегорическом иносказании построен и разговор служанки с хозяином: «Заскочил к тебе конь да в зелены сады, уж как топчет твою да шолкову траву». В такой же функции этот образ использован в одном из верхнемезенских текстов, в другом он понят буквально (см. об этом: Аст., I, с. 64). Печорские певцы, как правило, не дают портрета Чурилы (исключение — вариант П. Дитятевой—156), лаконично описывают и его выезд из дома. (В ряде других районов описанию выезда и внешности героя уделяется много внимания и места — см., напр., Гильф., 189, ТМ, отдел 3, 48.) И хотя в текстах нет прямых указаний на внешнюю красоту Чурилы, слушатели, видимо, всегда представляли его красавцем. Этому способствует употребление постоянных эпитетов «премладый», «молоды-душа», сравнение героя с ясным соколом. В таком же ключе воспринимается зачин былины, где Чурило употребляется «беленькому заюшку», «чернохвосту горносталю», прокладывающим следы по свежей «порохе снегу белого». Кстати, упоминание снега — крайне редкая в русском эпосе деталь. В северно-русских текстах «Чурилы и Катерины» неизменно подчеркивается, что снег выпал не вовремя — либо слишком рано (на Воздвиженье, т. е. 14 сентября по старому стилю, — Пинега, Григ., I, 45), либо слишком поздно (на Благовещенье, 25 марта по старому стилю, — в кенозерско-каргопольской редакции). Дальше других пошли печорские сказители, у них действие происходит в середине лета:
Ай выпала пороха снегу белого,
И не во пору порошиця, не вовремя,
Ай да середи лета, о Петрова дни.(Петров день — 29 июня по старому стилю.) Обильный снегопад ранней осенью, поздней весной, а тем более летом — явление исключительное; пейзажная зарисовка словно предваряет драматическое развитие событий и трагическую развязку былины. Примечательно, что такого вступления нет в тех редакциях сюжета, в которых Чурило и Катерина изображаются в сниженном плане.
№ 153
Онч., № 25 «Чурило и неверная жена».
Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.
- 753 -
Текст содержит почти все характерные особенности печорской редакции сюжета. Трижды пытаясь подкупить служанку, Чурило обещает ей все более ценные вещи: «платоцик на головушку <...> пети рублей», «лентоцьку <...> десяти рублей», «шубеецьку <...> двадцати пети рублей». Мотив подкупа служанки устойчив в печорских текстах, но перечень подарков сильно варьируется («башмачки», «сапожки», «платье», «шаль», «сережки» и др.).
Как и в некоторых других северо-восточных записях (Аст., I, № 16, и № 160 в нашем издании), в комментируемом тексте содержится намек на предшествующие описываемые отношения Чурилы с Пермятой:
Кабы прежде тебе да было сказано,
Уж досель тебе было ище наказано,
Не ходи ты в мои да в зелены сады,
Не топчи ты мою да шолкову траву.Неуклюжая отговорка Чурилы: «Я эки-ти речи не слыхивал», видимо, принадлежит П. Поздееву (в других вариантах она не встречается).
Интересна перекличка концовки поздеевского варианта с текстами заонежского сказителя А. Чукова (Гильф., 148, 149 и др.) и былиной из Сборника Кирши Данилова (КД, 3):
Уж как синему ле морю на утишеньё,
Кабы нам всем, молодцам, на послыханьё,
Кабы старым-ле старухам на долгой век.Правда, печорский певец, как и в другой своей старине («Илья и Идолище»—106), использовал эти строки не в качестве концовки, а не совсем удачно включил их в формулу расправы богатыря с противником.
№ 154
Онч., № 69 «Чурило и неверная жена».
Зап. Ончуковым Н. Е.: май — июнь 1902 г., д. Верхнее Бугаево (на р. Печоре) Усть-Цилемской вол. — от Шишолова Василия Дорофеевича, 40—45 лет.
«Старину про Чурила спел он прекрасно, с большим чувством, применяя, верно, содержание старины к своей доле; при пении голос его дрожал и В. Д. несколько раз всхлипывал» (Онч., с. 276).
Типичный для печорской традиции текст, в котором представлены практически все композиционные и стилистические особенности местной редакции сюжета. Необычно имя жены Пермяты — «Настасья дочь Колашнича» (см. также вариант И. Носова—155). Обильны бытовые подробности варианта (рассказ о том, как «зажил тут Чурило по-домашнему», ироническое описание застигнутого врасплох героя: «Да лежит-де Чурило да без почтанников»). Эти же детали имеются в тексте Носова, что свидетельствует о его генетической связи с комментируемым вариантом.
№ 155
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 3 об. — 7 об. (полев.), тетр. 3, л. 100 об. — 103 (перебел.); Аст., I, № 75 «Про Чурилу».
Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Ивана Григорьевича, 40 лет.
Былина сначала рассказана, а потом спета. На стиле сказалось влияние исполнительской манеры В. П. Носова, с которым обычно пел И. Г. Носов. (Аст., I, с. 643, 644).
В полевой записи строка 50 заключена в скобки, в перебеленной — отсутствует.
«Вариант восходит к зафиксированной Ончуковым печорской редакции сюжета. Очень близок к варианту 1901 г» (№ 154 наст. изд. из д. Бугаево), «не только повторяя в точности всю композицию, но и словесные
- 754 -
формулировки. Так же, как в указанном варианте Ончукова, жена Пермяты именуется „Настасья дочь Калашница“. Единственное отличие <...> от прочих печорских вариантов — изображение героини, захваченной врасплох „в одной тонкой рубашечке без пояса“ и т. д., причем это изображение, характерное в олонецких вариантах для эпизода неожиданного возвращения мужа, здесь перенесено на встречу ею Чурилы» (Аст., I, с. 643).
Разночтения Аст., I, № 75
48
Ай-я пойду схожу, право, Перметы́ скажу
№ 156
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 6 об. — 12 об. (полев.), тетр. 5, л. 18—22 (перебел.); Аст., I, № 97 [«Чурила и неверная жена»].
Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкий нац. округ — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.
Былина была сначала сказана, потом спета. Оба варианта довольно сильно различаются. В полевой записи круглыми скобками отмечены добавления и изменения при пении, квадратными — то, что относится к рассказанному варианту. Публикуется спетый вариант по полевой записи.
При пении вставлялись частицы, местоимения, союзы, напр., строки 20, 21, 27, 28, 29 при рассказывании звучали так:
Колотится в колечико серебреное...
Заперты ворота крепко-на́крепко...
Не белый куропат налетывал...
Ясный сокол прилетывал,
Пришёл-то Чурила бладой Плёнкович...
Ясный сокол прилетывал,
Пришёл-то Чурила бладой Плёнкович...Спетый и рассказанный варианты различаются часто и формой слов, напр.: «пороху» и «порошка», «статнёй» и «статный», «стольнёй» и «стольный», «рецей» и «речей», «по-учёному» и «по-уцёному» и т. п.
Наиболее значительные расхождения рассказанного варианта:
7
отсутствует
11
отсутствует
12
Шуба его куния
Между 15 и 16
На головоцке шапочка чу́рванка
16
Идет-то Чурила вдоль по городу
Между 19 и 20
Заходит на крылечушко прекрасное
22
Выходила Маремьяна дочь Микулишна
24
Из речей сама да выговариват
31
Целовала в уста сахарныя
36
Весит кунью шубу на спицю
41
Тут-то девушка ходит чернавушка
42
Из рецей-то сама выговариват
43
Ты вставай-ко, Чурила бладо Плёнкович
47
Говорит Чурило бладо Плёнкович
49
Не ходи ты-тко, девушка, во б<ожью> ц<ерк>овь
56
Я схожу, девка, во божью церко́вь
58
Говорит Чурило бладо Пленкович
- 755 -
61
На то девушка не сд<авает>ца
63
Выходила девка во божью церковь
69
Приходит девиця ко своему хозяину
75
Заселилса черной конь в чисто́ поле
76
Топцёт он твою траву шолковую
77
Пьёт воду медвя́ную
79
Запирал он книжки божии
80
Скоро выходит из божье́й церкви
87
Мусьски плечи его расшевелилися
89 и 90
даны в ином порядке: 90—89
91
Богатырское сердце разъерилося
95
Входит Пермята в гридню тёплую
98
Бросил Чурилу в чисто́ поле
116
Говорит-то Пермята во второ́й нако́н
119
Говорит Маремьяна во второ́й нако́н
121
Было бы у меня в руках копьё бурзомецкое
124
Говорит-то Пермята во трете́й након
128
отсутствует
130
Тут-то Пермяте за беду́ встаёт
134
Тут Маремьянушке смерть случилася
135
Взял он девушку-чернавушку за себя замуж
В рассказанном варианте былина кончается строкой: «Повенчалися во божьей церкви и стали жить».
В 14 строке в последнем слове полевой записи читаются лишь первые буквы; в перебеленной слово осталось нерасшифрованным, в Аст., I — «петишелковые».
Строка 19 печатается по сказанному варианту, так как при пении произошла обмолвка, вместо Пермяты был назван Чурила: «Ко тому же Чуриле на крылечушко».
В строке 72 в полевой записи после слов «Уж читаешь» неразборчивое написание, в перебеленной оно восстановлено как «книжки божии».
В строке 90 последнее слово в полевой записи неразборчиво, в перебеленной расшифровано как «помутилося», но поставлен «?».
В строке 93 первое слово в полевой записи читается «топнул,» около него стоит «?». В перебеленной — «толкнул».
Вариант отличен от обычной печорской редакции: описание Чурилы и его одежды, диалог Пермяты и его жены после убийства Чурилы. Диалог, вероятно, — творчество сказительницы: в вариантах не встречается. Действие приурочено к Киеву. Имя — «Маремьяна» — обычно в былинах печорской традиции, встречается в былинах брата Прасковьи Ивановны — А. И. Дитятева (см. № 180) и в былине самой П. И. Дитятевой «Фатенко» (см. № 187).
№ 157
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 11, л. 5 об. — 7 (полев.), тетр. 3, л. 35, 36 об. (перебел.); Аст., I, № 55 «Чурила».
Зап. Астаховой А. М.: 12 июля 1929 г., сел. Замежное Усть-Цилемского р-на — от Тороповой Татьяны Григорьевны, 77 лет.
Былина была сначала передана словами, потом после долгих уговоров спета. При пении внесены изменения и дополнения: круглыми скобками отмечены добавления при пении, квадратными — опущенные слова. Публикуется спетый вариант по полевой записи.
- 756 -
Сказанный вариант
2
Серёдка лета о Петрова дни
11
Я давно ждала тя, дожидаласэ
12
Повела его да по новы́м сеням
13
Привела его да в тёплу лёжницу
15
Свешал платьицё на грядоцьку
22
Пошла она да по новым сеням
23
По новым сеням да в тёплу лёжницу
26
Зажил Чурило по-домашнёму
27
Свешал платьицё на грядоцьку
40
Пойду схожу да Пермяты́ скажу
В строках 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 20, 25, 29, 37, 39, 43, 44, 46 отсутствуют частицы «да», «де»; в строке 19 нет частицы «же»; в строке 34 вместо «девушка» — «девоцька»; в строке 41 нет местоимения «ты».
Былина «восходит к той же печорской редакции, что и вариант И. Г. Носова» (см. № 155 наст. изд.). «В кратко досказанный полузабытый конец внесено указание на расправу, характерную для былин об Иване Годиновиче и Добрыне и Маринке». (Аст., I, с. 643). Жена Пермяты названа «Окулиной да Миколаёвной», что, видимо, вызвано разрушением былины.
Разночтения Аст., I, № 55
33
отсутствует
46
Мне не надо твоя шуба куньея
№ 158
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 4, рукоп. «Чурилко Пленкович и Пермя сын Михайлович».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 1938 г., выселок Красное Куйского колхоза «Красное знамя» Нижнепечорского р-на — от Карманова Григория Андреевича, 57 лет.
В основном оставаясь в рамках местной традиции, текст содержит ряд мотивов и подробностей, не укладывающихся в печорскую редакцию сюжета. Пермя дважды отлучается из дома — на охоту (ср. мезенские записи, Аст., I, 6, 16) и в церковь; непоследовательно поведение девушки-чернавушки — сперва она покрывает любовников, а затем принимает сторону обманутого мужа. Возможно, противоречия появились от механического включения в печорскую редакцию элементов иной обработки сюжета, не зафиксированной в достаточном количестве вариантов. Оригинально описано поведение служанки в церкви (строки 93, 94) — подобной формулы нет в других текстах былины. Необычно и троекратное обращение Перми к своей жене с предложением повиниться и ироническое повторение ее слов после жестокой расправы (строки 137, 138 — метафорические образы истолковываются буквально). «Спаленка ложная» (строка 101) — очевидно, неудачное перефразирование традиционной «ложни теплой».
№ 159
РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 9 об., рукоп. «Перемет сын Иванович».
Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.
Краткий вариант. В нем отсутствует ряд деталей и подробностей, характерных для большинства печорских текстов. Иносказательный образ чужого коня, который топчет траву в зеленом саду, заменен туманным указанием
- 757 -
на неопределенный вещий сон (строка 47). Подобно П. Поздееву (№ 153), исполнитель намекает на прежние отношения между Чурилой и Перемятом (строки 58—61), отчего былина воспринимается как развязка давно начавшейся жизненной драмы. Оригинальны некоторые бытовые и психологические подробности: Перемят возвращается домой «ходом задниим»; служанка долго не верит решению хозяина жениться на ней, и Перемяту приходится трижды повторять свое предложение.
№ 160
Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 123—125, маш.; БП, № 4 «Чурила и неверная жена».
Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.
Данный вариант — первая запись в р-не реки Цильма в 1942 г. В основном восходит к печорской редакции, представленной записями Ончукова и Астаховой (БП, с. 527).
Начало былины спето.
Текст не выходит за рамки местной редакции сюжета, хотя некоторые традиционные мотивы не развернуты. Замена обычного для среднепечерских вариантов иносказательного образа «Ты не парь кишку во чужом горшку» другим песенным: «Ты чужу-то пашню пашешь, а своя так стоит», адресованное жене предложение Пермяты покаяться «во первом грехе», употребление слова «ушкан» вместо «заюшка» — характерные особенности всех вариантов, записанных в д. Трусовская на реке Цильме, левом притоке Печоры (см. следующие тексты). Точное указание на время суток: «Уж как по тёмному утру, утру раннему» — видимо, личное нововведение А. Носовой, не вяжущееся с контекстом (в середине лета невозможна церковная служба «темным утром»).
Разночтения БП, № 4
68
...пированьем-столо́ванием
№ 161
РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 410, л. 529, 530, маш.; РФ, 2, 1957, с. 264, 265; БП, № 37 [«Про Чурилу»]. ФА VI МФ, 207.7; Нап. — РФ, 2, 1957, с. 270.
Зап. Колпаковой Н. П.: 18 авг. 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.
Данный текст, как и предыдущий, относится к цилемскому изводу печорской редакции сюжета. «Укор Перемякиной служанки повторяется дважды, соответственно этому дважды изображена попытка Чурилы подкупить служанку с повышением ценности подарка» (БП, с. 538).
Разночтения БП, № 37
2
Ах-ы не в пору порошица, не во́времё
3
Как серёдь конца лета да о Петро́ва дни
4
Ах как по этой по порохе да не ушкан скакал
11
Ты чужу пашню пашешь, а своя-то стоит
13
Уж я пойду, схожу да Пермяты скажу
14
Не ходи-ко, служанка, ты еще не сказывай
17
Мне не дороги да твои златы серёжечки
19
Ах забралсе Чурила да в теплу спаленку
20
Ах разулсе, разделсе да по-домашнему
21
Ах сафьяны-ти сапожечки ле под лавочку
26
Уж ты ой еси, Чурила да Бладокленкович
- 758 -
№ 162
ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 509. 12; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 7, маш. «Чурило и жена Пермяты».
Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Рочевой Полины Никитичны, 39 лет.
Одна из последних по времени новых записей «Чурилы и Катерины» на Печоре, свидетельствующая о популярности этой былины и устойчивости местной редакции сюжета. «Шапочка-рукавочка» — очевидно, испорченное «шапочка-рогавочка» (ср. «шапочку с рогавками» — у другого былинного щеголя Дюка — Рыбн., 131). «Шубка-фуфаечка» — пример вторжения новой лексики (в повторной записи этого словосочетания нет — см. следующий текст).
№ 163
Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 9, № 12, л. 19—21, рукоп. «Про Чурилу».
Зап. Нефедовым А. М. и Селивановым Ф. М.: лето 1978 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Рочевой Полины Никитичны, 53 г.
В 1964 г. от П. Н. Рочевой былину «Чурило и жена Пермяты» записал Балашов Д. М. (см. № 162).
Повторная запись, сделанная от П. Рочевой через 14 лет, местами почти дословно совпадает с первой; особенно стабильны постоянные формулы. Незначительные вариации касаются употребления частиц и предлогов, изменения некоторых окончаний слов; певица заменила также названия подарков, которые Чурила предлагает служанке Пермяты. Во время исполнения Рочева слегка сбилась, что привело к неоправданному повтору (строки 10—13, 25—27).
№ 164
ИРЛИ, ФА ЛМК, 36.4 «Чурило и Катерина» — из архива Ю. Е. Красовской.
Зап. Красовской Ю. Е.: лето 1980 г., д. Трусово Усть-Цилемского р-на — от Рочевой Полины Никитичны, 55 лет.
На фонограмме слышен второй голос; исполнитель не указан.
Обычный для печорской традиции вариант, содержащий основные элементы местной редакции сюжета. В финальной части былины опущена сцена уличения жены Пермяки в неверности — обманутый муж сразу находит Чурилу и срубает ему голову.
СноскиСноски к стр. 718
1 Ср. сходный по содержанию эпизод в одной из мезенских записей «Камского побоища» — Илья Муромец одной рукой подает Кудреванку «скорый ерлык», а другой срубает ему голову — Аст., I, № 44.
Сноски к стр. 726
1 Здесь и далее в жирных скобках указан сквозной номер текстов по всем томам.
Сноски к стр. 728
1 Таков же портрет невесты в одном из кулойских вариантов — Григ., II, 8 и в одном мезенском тексте — Аст., I, № 18, который, видимо, испытал влияние печорской традиции (в нем царь не назван по имени, но его дочери носят отчество «Семеновна»). Такого рода деталь встречается лишь в сказках (Аф., 1, с. 321, 324, 369; Худ. с. 56 и др.).