79
БЫЛИНЫ НА ПЕЧОРЕ
I. Этническая история региона
Сложная этническая история завершилась расселением славян по Восточной Европе. Восточные славяне (русские) были носителями высокого уровня этнического сознания, выразившегося в образовании Древнерусского государства и закрепленного им. Единый и последовательно повторявшийся в разных северных районах процесс формирования северно-русского массива имел своеобразие в отдельных частях региона, которые определяли как исторические, социально-хозяйственные и этнокультурные особенности различных групп восточных славян (русских), расселявшихся по Северу, так и их контакты с местными народностями.
Письменные источники свидетельствуют о появлении русского народа в бассейне Печоры в Новгородско-Верхневолжский период освоения Севера (вторая четверть XII в. — 1578 г.).1 На первом этапе этого периода (до 1238 г.) идет интенсивное «данническое» освоение Печоры новгородцами, характерное для общей деятельности Новгорода на большей территории Севера — в Поморье, Подвинье, на Мезени, о чем неоднократно упоминается в летописях. В первой половине XIII — начале XIV в. «на пути в Печору» образуются подвинские «ростовщины», составляющие в совокупности большую область, протянувшуюся от верховьев Северной Двины до впадения в нее Пинеги; население этой области оказалось в сфере влияния русского Верхневолжского центра и заселялось его жителями. «Ростовщины» вместе с возникшим в XIII в. Великим Устюгом несомненно сыграли большую роль в Русском продвижении на восток — в Вычегодский и Пермский края — и на север — на Мезень и Печору. В XIII—XIV вв. на Мезени и Печоре одновременно «промышляют» новгородские и великокняжеские (Ростов, Москва) ватаги, при этом вторые организуются по указанию Ивана Калиты и Дмитрия Донского.
С конца XV в. исторические судьбы северных районов протекают в рамках Русского централизованного государства. В течение XV—XVIII вв. толчком к появлению русского населения в отдаленных северных районах служила, как правило, целенаправленная деятельность государства: строительство пограничных монастырей-крепостей, острогов и слобод для торговли с народами Севера и Сибири; так, примерно в одно время возникают Лампожня на Нижней Мезени и Пустозерск на Нижней Печоре.
Ядро, которое положило начало складыванию населения как Пустозерска (на рубеже XV и XVI в.), так и возникшей несколько позднее (20-е или 40-е гг. XVI в.) Усть-Цильмы, составляли немногочисленные московские служилые люди, основавшие Пустозерск и оставшиеся на поселение, несколько новгородских семей, начавшие во главе с Ласткой «копить слободу» Усть-Цильму; смешанное коми-русское население, сложившееся в восточной части Севера и содержащее какой-то «чудской» элемент, а также коми-пермяки. Эту реальность и отражал первый письменный источник по русскому населению Печорского края — «Книга платежница Поморские Пустозерские
80
волости 1574—1575 гг.». Выделение в «Платежнице» русского и пермяцкого населения свидетельствует, что большинство жителей осознавали себя русскими; т. е. русское самосознание (и, следовательно, язык) — в землях ли исхода или в месте окончательного поселения — преобладало, несмотря на сложное этническое происхождение переселенцев. В этот период в «Платежнице» встречаем следующие известные в позднейшей истории, включая историю эпической устной культуры, фамилии: Хабаровы, Сумароковы, Носовы, Тороповы (Пустозерск), Чупровы, Рочевы, Чуркины, Дуркины (Усть-Цильма).2 Перечисленные устьцилемские фамилии встречались на Пинеге и верхней Мезени.
В истории заселения Печоры и сложения групп пустозеров и устьцилемов можно выделить три этапа.
Начальный этап — первая половина XVI — конец XVII в, — интенсивное заселение низовой Печоры.3 Заселение, судя по коренным немногочисленным фамилиям первопоселенцев и системе владения и пользования водными угодьями, сохранившейся до начала XX в., велось родственными группами по мужской линии. Первыми поселениями были Пустозерск и, видимо, Устье, расположенные по обе стороны Пустого озера, жители которых составляли одну «сотню» в семужьих речных тонях и совместно владели озерами.4 В течение второй половины XVI—XVII вв. появился ряд групповых поселений к северу и югу от Пустозерска, в результате чего низовая Печора оказалась заселенной на протяжении 150 км: Андех, Пойлова, Йокуши, Оксино, Мокеево, Пилемская (Пылемец), Сопки, Тельвиска, Нарыга, Великая Виска. Таким образом, на первом этапе возникли территориальные границы расселения пустозеров — от Андега до Великой Виски, и дальнейшее заселение русскими происходило внутри очерченного района.
На Средней Печоре в течение первого этапа возникло только устьцилемское «гнездо» деревень в радиусе 0,5—6 км от самой Усть-Цильмы; по существу это были «заимки» в 1—2 двора, жители которых были связаны с населением Усть-Цильмы родственными узами и общим владением пригодной для пашни земли.
На первом этапе Пустозерск — как местный центр государственной власти (здесь жил воевода), крупный торговый пункт (через него велась торговля с соседними и приходящими ненцами, а также шел путь в Приуралье и Сибирь), как место, открывающее широкие возможности для богатых рыбо-зверобойных промыслов, — имел несравнимо больше преимуществ и притягательной силы для переселенцев, чем бедная частновладельческая слободка Усть-Цильма. Рост пустозерского населения далеко обгонял таковой же в Усть-Цильме, на поселение оставались люди, работавшие в Пустозерске по найму; во второй половине XVI в. здесь помимо русских и пермяков числились первые оседлые ненцы («самоядь тяглая некрещеная»),5 принявшие участие в формировании «типа пустозера». Неурожай в земледельческих северных областях, откуда шел хлеб на Печору, неоднократные набеги ненцев (карачей) и остяков на Пустозерск и Усть-Цильму во второй половине XVII в. вызвали временное запустение волости и отлив части населения в другие районы и в Сибирь.
Второй этап (конец XVII — первая половина XVIII в.) связывается с новой волной русских переселенцев на Печору, вызванной движением старообрядчества. На далекой Печоре старообрядцы появились позднее, чем в других северных областях и в Поволжье (в истории старообрядческого движения это перемещение было вызвано гонением властей на прежних местах их оседания).
Пустозерск стал, как известно, местом заключения вождей старообрядцев (Аввакум) и изгнания опальных деятелей (Голицын, Матвеев и др.), т. е., потеряв свое первоначальное военно-торговое значение, он продолжал исполнять роль проводника государственной политики. Видимо, поэтому старообрядцы не селились в Пустозерской волости, а среди самих пустозеров было распространено идущее «сверху» мнение о старообрядцах как о врагах официальной церкви и власти. Правда, это не мешало появлению и здесь «ревнителей веры» и их скрытых сторонников, но характерно, что впоследствии наблюдалось «идеологическое» отчуждение пустозеров и устьцилемов и открыто старообрядческой у первых считалась, по данным Н. Е. Ончукова, только д. Бедовая (и единичные
81
выселки, возможно, более позднего времени). Старообрядческое движение не вызвало, таким образом, заметного увеличения населения, и на этом этапе низовая Печора пополнилась несколькими деревнями, основанными главным образом выходцами из старых «пустозерских» селений: Голубково, Лабожская, Бедовая и др.
Зато на Средней Печоре появление старообрядцев вызвало настоящий демографический взрыв. Наплыв старообрядцев в устьцилемское «гнездо» не только увеличил его население, но способствовал переселенческому движению из Усть-Цильмы в ближайшие районы: в течение этого периода были заселены реки Цильма, Пижма и Нерица, часть населения ушла еще восточнее — на р. Ижму, где приняла участие в формировании «ижемцев» (смешанного коми-русского населения с преобладанием коми элементов). На этом этапе разрослось устьцилемское «гнездо», появились поселения на Средней Печоре (к северу от Усть-Цильмы) — Кривая Виска, Уег, Кунгурская, Егорковские выселки,6 на Пижме — Абрамовская, Замег и др.
Врастание старообрядцев в этнокультурную и бытовую среду устьцилемов и коми (зырян), отход местных жителей от церковного православия были достаточно органичны: освоение новых мест для жительства по рекам Средней Печоры велось совместными группами пришельцев и «коренного» населения, церковь не имела здесь своих представителей и не поддерживалась, как в Пустозерске, государственной властью, миссионерская деятельность отсутствовала.7 В то же время свободолюбивый дух, трудолюбие и высокая культура пришельцев не могли не вызвать понимания и уважения, в силу чего они заняли лидирующее положение в местной среде, оказав решающее воздействие на культурно-идеологический уровень окружающего населения. Возникновение Великопоженского старообрядческого скита на р. Пижме, основанного, как полагают,8 членами Выговского общежительства («Поморское согласие»), концентрация в этой местности «элитарной» части старообрядцев — носителей русской традиционной и письменной культуры — обусловили некоторые культурно-бытовые особенности «пижемцев», прослеживавшиеся до начала XX в.
На втором этапе Пустозерск и Усть-Цильма поменялись местами по значению в социально-экономической жизни Печорского края. Общими причинами этой смены были: утрата северными морями своей ведущей роли во внешнем политике и торговле России и перемещение акцента на экономическую связь внутренних областей. Усть-Цильма, расположенная гораздо выгоднее Пустозерска для целей всероссийского внутреннего рынка, стала печорским центром, обеспечивавшим вместе с Чердынью и Усть-Сысольском торговлю северо-востока Европейской России и последней — с Сибирью. В Пустозерской волости «центр тяжести» переместился в с. Великую Виску, в природном и хозяйственно-торговом отношении имевшую ряд преимуществ перед Пустозерском — южное расположение, бо́льшую близость к Усть-Цильме и т. д.
Третий этап формирования русского населения Печорского бассейна (конец XVIII — начало XX в.) был временем относительной стабилизации в районе Нижней и Средней Печоры, т. е. временем внутренних передвижек, перемещений (Пустозерская волость) и расширения территориальных границ (Усть-Цилемская волость). Но продолжалось и областное переселение, самое заметное следствие которого — появление отчетливого «русского пласта» на Верхней Печоре. Местные старожилы в XIX в. называли своими предками старообрядцев (волна XVIII в.), но потом они были перекрыты выходцами из Чердынского уезда (из Ныроба, Покчи, Искора), от которых вели свое происхождение жители в конце XIX — начале XX в., о чем свидетельствует также общность чердынских и верхнепечорских фамилий.9 В сложении антропологического типа верхнепечорских русских сыграли роль остяки (вишерско-сосвинские манси): еще в XX в. жители помнили остяцкое происхождение родителей, хотя сами считали себя русскими и говорили по-русски.10 Малодворные немногочисленные русские поселения на Верхней Печоре к началу XX в. создали русский очаг.
82
Перемещение и расселение пустозеров и устьцилемов на третьем этапе происходило довольно интенсивно. У пустозеров это движение вызывалось в основном разрушением старых мест поселений (подмывание берегов, заливание деревень, пожен во время половодья) и желанием поселиться ближе к тоням и сенокосным угодьям. Устьцилемская «диффузия» была связана в первую очередь с бурным ростом населения, теснотой в Устьцилемском «гнезде», имущественным расслоением, а также сходными с пустозерскими причинами. Таким образом, новые поселения в Пустозерской волости образовывались часто «расщеплением» старых: из Старой Сопки возникли Большая и Малая Сопки, из Нарыги — Большая и Малая Нарыги; жители д. Пойловой переселились в основанную в XIX в. Кую и составили в ней как бы вторую деревню; из старого села Мокеево часть жителей ушла в Большую Сопку, а другая часть основала д. Макарово и т. п.11 Усть-Цилемская волость значительно расширилась в западном (по р. Цильме) и северном направлениях (по Нижней Печоре), причем в заселении Печоры участвовали не только собственно жители Усть-Цильмы, но также население с ранее освоенных рек Пижмы, Нерицы и даже из Ижемской волости (из Ижмы, Мохчи, Сияжской и др.).12
К началу XX в. Пустозерская волость состояла из 18 селений (+ 4 выселка, 15 мужских душ), сгруппированных в три сельских общества: Пустозерское (9), Куйское (6), Великовисочное (3). Самыми крупными селами были Великая Виска (110 хозяйств) и Оксино (76 хозяйств). По официальным данным, подавляющая часть селений имела этнически смешанный состав (так, в Куйском обществе 1/8 составляли ненцы, в Пустозерском и Великовисочном обществах проживали ненцы и коми-зыряне), в пяти селениях зарегистрировано чисто русское население (М. Сопки, Пустозерск, Тельвиска, Голубково и Пылемец).13 В северных и самых старых поселениях происходила заметная убыль населения.14 Усть-Цилемская волость, являвшаяся административным центром Печорского уезда, состояла из 81 селения, образующего 7 сельских обществ: Абрамовское, Хабарицкое, Усть-Цилемское, Гаревское, Нерицкое, Кривомежное и Замежное. Два самых поздних припечорских общества — Абрамовское и Хабарицкое, вместе с Устьцилемским, насчитывали 2/3 селений всей волости (61), но крупных поселений в волости, кроме Усть-Цильмы (383 хозяйства) и Гарево (64 хозяйства), не было.15 Ненцы и коми-зыряне составляли незначительный процент (и то только в первых трех обществах), будучи поселенцами последних десятилетий XIX — начала XX в.
Итак, с самого начала появления постоянного русского населения на Печоре действовали факторы исторического, социально-хозяйственного и этно-культурного плана, обусловившие локальные особенности формирования двух групп на Нижней и Средней Печоре — пустозеров и устьцилемов.
1. Пустозерск начинался как военный острог и проводник государственной власти, где находились ее представители. «Костяк» пустозеров составили московские служилые люди, чье русское самосознание носило уже государственный характер. Усть-Цильма, хотя и была утверждена в качестве слободы царской грамотой, создавалась новгородцами, сознание которых в известной степени противопоставляло себя «московскому» самосознанию.
Разница в областном происхождении русских (Москва, Новгород, различные северные районы) и уровне их этнического сознания обусловливала разную же степень его выраженности у пустозеров и устьцилемов. Московские первопоселенцы и государственное значение Пустозерска способствовали большей чистоте и высоте русского самосознания и консолидации населения. Название (и самоназвание) «пустозеры» распространялось на жителей поселений, далеко отстоящих от Пустозерска, и, возможно, никогда там не бывавших; ни на одном из этапов формирования населения здесь не возникло иного местного названия, подобного «пижемцам» Средней Печоры.
2. Хозяйственные занятия пустозеров и устьцилемов, при всей общности природных и социальных условий, имели существенные различия, обусловленные разницей в тех же условиях: первые складывались как исключительно неземледельческое население тундровой зоны, вторые — прежде всего как земледельцы, несмотря на всю
83
относительность этого понятия в таежно-тундровой зоне. Богатые речные и морские промыслы, морская торговля и пути сообщения, более надежная защита от нападений кочевых народностей привлекали в Пустозерскую волость разнообразное население из русских областей и способствовали укреплению на первом и втором этапах лидирующего значения этого района как русского на крайнем северо-востоке Европы. Все это сказалось в том, что хозяйственно-географические границы расселения и владений пустозеров обозначились уже на первом этапе, и впоследствии только заполнялись внутренние «пустоты».
3. Хозяйственные дифференциация и замкнутость пустозеров и устьцилемов привели к тому, что браки между жителями этих групп были редки. Известно, что в XIX—XX вв. богатые пустозеры и устьцилемы считались завидными женихами на Пинеге, Мезени и Кулое, откуда они и привозили себе невест; пустозеры вступали также в браки с женщинами из ненцев, а устьцилемы брали жен из «зырянок», вследствие чего многие устьцилемы были двуязычны. Отсутствию тесных брачных связей между пустозерами и устьцилемами безусловно способствовало и «вероисповедальное» различие, возникшее на втором этапе в связи со старообрядчеством. Имеются данные, что даже зять-устьцилём не всегда получал самостоятельную долю в тонях у тестя-пустозера и по существу работал у него наймитом.
Обособленность русских групп не слишком быстро стиралась и в последующем, третьем этапе, а в отдельных случаях даже возросла.
***
Особенности исторического формирования пустозеров и устьцилемов проявлялись в середине XIX — начале XX в. в ряде отличительных черт их материальной и духовной культуры.
Основное хозяйственное различие — исключительно неземледельческий, промысловый характер занятий пустозеров и земледельческо-промысловый — устьцилемов. С этой разницей была связана система общественных отношений, выражавшаяся в основном в формах владения и пользования водными и земельными угодьями. Общим признаком этой системы являлась старая «родо-переселенческая» форма, которая сохранилась как в архаическом, захватном, способе владения, так и в позднем, общинном.
Основой экономической жизни пустозеров являлись рыбные промыслы, которыми было занято все работоспособное население практически круглый год, лов рыбы производился в море (Губе), в реке и на озерах. Сами пустозеры делили рыбные промыслы на лов белой (сиг, сельдь, омуль, «зельдь») и красной (семга) рыбы; оба приносили основной доход и продукт питания, поэтому из 533 хозяйств волости промыслом белой рыбы занимались 413 хозяйств, промыслом семги — 250.16 Озерным рыболовством (сиг, пелядь, щука, окунь, сорога), также приносившим немалый доход, занимались все жители.
Лов белой рыбы происходил в весенне-летний период — от вскрытия до ледостава Печоры; внутри этого периода промыслы той или иной рыбы приурочивались к определенным календарным датам, например, после ледохода до Иванова (Петрова) дня — лов сигов, после Петрова дня — лов сельди, с Ильи (20.VII) до Воздвиженья (14.IX) — лов семги (мужчины), с Успенья до Воздвиженья — лов «зельдей» и омулей (женщины). После ледостава до Рождества (и позднее) уходили на озера и шары Печоры.
Пустозеры владели самыми богатыми в промысловом отношении семужьими и белорыбными угодьями на реке и на морском берегу; белорыбные были в свободном, захватном владении, семужьи, как наиболее ценные, находились в общинном владении. Все семужьи угодья делились на тони. Речные тони распределялись между мужскими душами, поэтому мужское население волости было разбито на «сотни»; обычно «сотню» составляли жители двух-трех селений (по родственным связям). «Сотня» состояла из артелей-«родов», артели в количестве 5 человек полагалась одна надельная единица, выражавшаяся в плавно́й сети семужьего лова — поплави. Отметим обязательные ежегодные передвижки артелей-родов по тоням. Для пользования морскими тонями души делились на 11 «шестаков», и каждый «шестак» получал по жребию по одной тоне. Надельной единицей «шестака» было
84
ставное орудие — предмет, который обслуживал артель в 13 человек.17 В конце XIX — начале XX в. социальная дифференциация была настолько велика, что, по существу, промышляли наемные артели, так как тони «родов» и «сотен» находились в фактическом владении отдельных лиц, имевших возможность поставить судно, продовольствие, снасти. Они были скупщиками не только тоней, но и промысла.
В Усть-Цилемской волости владение и пользование семужьими угодьями было свободное, захватное, кроме мест, где община строила заборы. Артель состояла из 11—12 человек, во главе которой стоял хозяин судна, получавший за него пай. На одной тоне могли сходиться 2 артели, и тогда они чередовались в лове, причем каждая артель делилась на две, закидывала поплавь поочереди. Наем в семужью артель был сравнительно редок, и обычно он соединялся с наймом на другие виды хозяйственных работ. Скупки тоней здесь не существовало, но были свои скупщики рыбы, как правило, перепродававшие ее затем чердынским и столичным купцам.18
Белорыбные угодья как у пустозеров, так и у устьцилемов поступали в свободно-захватное владение и пользование; члены артелей находились в семейно-родственных отношениях, что не мешало им соблюдать строгость социально-имущественного порядка: внесение положенной доли снасти и поставки 1 человека в артель, распределение паев и т. д. Основным орудием лова и надельной единицей в этом промысле был невод (хотя ловили и мелкоячейной поплавью — «омулевками», «зельдевилами»). Обычная речная артель состояла из 5—6 человек (мужчины, женщины, подростки), пустозерская морская артель насчитывала 15 человек, из которых обязательно — 5—6 мужчин.19 Наиболее ценная рыба скупалась купцами.
Озера всегда находились в общинном владении, тесно связанном с родопереселенческими отношениями. В системе пользования ими наблюдалось переплетение коллективных, регулируемых общиной форм и подворно-индивидуальных, иногда захватных. В Пустозерской волости система пользования представляется более единой. В Усть-Цилемской волости формы пользования были разнообразнее и запутаннее.20 Встречалось, например, такое явление: соседние деревни договаривались не ходить друг к другу на озера, а «пришлые» ходили везде и им не препятствовали.21 На озерном лове употребляли пущальницу (ставное орудие) и небольшой белорыбный невод; устьцилемы пользовались также продольником — крючковой снастью.22
Владение земельными угодьями — пашенными, сенокосными — в целом носило общинно-подворный характер, но в каждом конкретном случае имело свои особенности. В Пустозерской волости пашни не было. Владение и пользование сенокосными угодьями — пожнями — зависели от природных условий и степени развития скотоводства. В самом северном, Куйском, обществе скота было немного, а свободных естественных пастбищ достаточно как на островах, так и на «матером» берегу, поэтому здесь существовало подворно-наследственное владение пожнями, отсутствовали расчистки и не было необходимости в переделах. В Пустозерском обществе расчистки пожен сокращали общую площадь сенокосных угодий, и с конца XIX в. делались попытки перевода из подворно-наследственной — в общинно-уравнительную форму пользования (по числу мужских душ). В некоторых деревнях (Тельвиска) уравнения пожен производились одновременно с распределением озерных угодий. На юге уравнительная система становится преобладающей, и только в с. Великая Виска переделы не привились вследствие резерва свободных земель.23
Значительная роль земледелия в соединении с природными особенностями и длительными передвижками населения осложнили картину землепользования устьцилемов. Пахотные и покосные земли находились к началу XX в. в основном в душевом и заимочном владении; некоторая часть их распределялась по билетам.
85
Душевые земли считались собственностью общины, а заимочные — индивидуальной, хотя по «происхождению» те и другие были заимочными, т. е. поступили некогда во владение путем свободного захвата; поэтому имелся ряд переходных форм от одного способа владения и пользования — к другому. Индивидуальные заимки по мере роста численности устьцилемов и расширения зоны расселения увеличивались, пашни и покосы появлялись путем расчисток, располагались чересполосно, поскольку использовались любые природные клочки земли. Индивидуальное пользование было единственной формой во всех селениях Абрамовского, северной части Хабарицкого обществ; к югу начинала преобладать общинная форма пользования с не очень регулярными переделами.24
Основными земледельческими культурами были ячмень (96% посевной площади), рожь, репа, редька, картофель (последние три культуры чаще сеяли на пожнях). Песчано-глинистые почвы, требовавшие мощного ежегодного удобрения, под паром не оставляли и не засевали травой. Пахали сохой (редко — сабаном) и боронили деревянными боронами; убирали хлеб серпами, вешали его на прясла для просушки (иногда дополнительно — на печи) и молотили кичигами (еловое полено с суком). Мельницы существовали только в Устьцилемском обществе, в других местностях мололи на ручных жерновах. Общие сроки посева и уборки хлеба были те же, что в целом в северно-русской зоне, с разницей примерно в неделю. Так, посев производился 9—15 мая (т. е. с Николы весеннего); уборка происходила между 1—16 августа (Спас-Успенье). Сенокос как в Усть-Цилемской, так и Пустозерской волостях начинался около Петрова дня, как повсюду на Севере и в центрально-русских областях.
Скотоводство играло большую роль в хозяйстве населения, хотя в Пустозерской волости скот использовался в собственных нуждах, а в Усть-Цилемской он представлял собой товарный продукт (коровы) и рабочую силу для отхожих (извоз) промыслов и земледелия (лошади). Зимой его держали в хлевах. Пастбищный период длился с начала мая (примерно с Николы) до первых заморозков 14.IX — 1.X (Воздвиженье — Покров). Повсюду крупный скот выгонялся на вольный выпас (без пастуха, с колокольцами). Лошади иногда уходили на все лето и даже дичали. Печорское скотоводство летом было максимально приближено к природному существованию.
Помимо земледелия (со скотоводством) и рыболовства большое значение в хозяйстве обеих волостей имели охота и извоз, а в Усть-Цилемской — рубка и сплав леса (на Печоре). Оленеводство для русских жителей имело весьма частное значение.
Хозяйственные контакты пустозеров и устьцилемов были крайне ограниченными. Несмотря на ведущее административное положение Усть-Цилемской волости, ее население в среднем было менее зажиточным, чем промышленники-пустозеры. Устьцилемы нанимались к последним на рыбные промыслы (в артели, засольщиками рыбы), рубили у себя лес и отвозили его в Пустозерскую волость (своим постоянным работникам пустозеры разрешали селиться в волости). Пустозеры сбывали продукты промыслов чердынцам или отправляли их морским путем в Архангельск, но почти не участвовали в летней устьцилемской ярмарке.25 Встречи пустозеров и устьцилемов были более частыми на «чужой» земле: на ярмарках в Усть-Вашке, Пинеге, Мезени. Раздоры пустозеров и устьцилемов, отмечали все исследователи и путешественники, бывшие в Печорском крае (С. В. Максимов, В. Н. Латкин, Ф. М. Истомин, С. В. Мартынов, Н. Е. Ончуков и др.).
Материальная и духовная культура русского населения Печоры во второй половине XIX — начале XX в. содержала все основные признаки северно-русской культуры (тип жилища, комплексы женской и мужской одежды,26 календарно-обрядовая поэзия и семейно-свадебная обрядность, высокое развитие эпических форм поэзии). Однако природно-хозяйственная специфика и своеобразие этнокультурной ситуации обусловили ряд особенностей, либо общих для обеих групп, либо присущих одной из них.
Среди них следует выделить, например, разнообразные виды промысловых жилищ, которые существовали как в Пустозерской, так и в Усть-Цилемской волости, и помимо общих функциональных черт — рыболовные, сенокосные избы — имели немало различного. Так, если в Усть-Цилемской волости промысловые и сенокосные
86
избы всегда строились из дерева, то в Пустозерской волости, особенно в тундровой ее части, у моря, промысловым жильем служили опрокинутые лодки, шалаши из брезента, землянки из деревянного остова, обложенного дерном. Очаг устраивали в центре, спали прямо на земле, ногами к очагу; «кухня» находилась на открытом воздухе в специальных загородках из «еры» (ивы), варили в котлах, висящих на приспособлениях, сходных с «самоедскими». Недалеко от таких «поселений» находились кладбища, где позднее хоронили не только русские, но и православные ненцы.27 По мере расселения промысловые и сенокосные «избы» становились местом нового поселения — явление, вообще говоря, свойственное большинству северно-русских районов и на Печоре происходившее в самое позднее время. Поэтому еще в середине — конце XIX в. на Печоре было много изб, представлявших собой двух-трехкамерное жилище (изба+сени+клеть), характерное для всего Печорского бассейна. Собственно, 2-этажный северно-русский дом-двор был преобладающей постройкой в единичных, наиболее крупных селах Печоры, причем не только у русских групп, но также у ижемцев, средне- и верхнепечорских коми.28 В конце XIX в. в крупных печорских поселениях, как и повсюду в России, возникает двухсторонняя улица, где дома повернуты фасадом друг к другу. В зажиточных домах появляется характерный для севера полугородской интерьер (обои, шкафы, швейные машины, кровати, зеркала, кадки с цветами, лубочные картинки на стенах и т. п.).
Домашним ткачеством и шитьем занималось все женское население Печоры. В середине — второй половине XIX в. повсеместно еще существовали женский (сарафан + рубаха) и мужской (рубаха + штаны) комплексы нательной одежды, получившие, как известно, распространение и среди населения коми (не только Печорского бассейна).29 Праздничная и обрядовая одежда передавалась в большинстве случаев по наследству, составляла обязательную часть приданого и была изготовлена из старинных покупных тканей — парчи, камки, штофа и др. Давние брачные (и переселенческие) связи печорцев с верхне-мезенцами и пинежанами отражались не только в идентичности комплексов и его отдельных частей (например, коротка-коротенька, шушун-шубка, головные уборы), но в украшениях, поясах, красочной гамме, орнаменте.30
Особенностями печорского комплекса одежды являлись: наличие промысловой одежды (в первую очередь у мужчин), заимствованной у ненцев верхней одежды (малица, совик), влияние коми и ненецкой одежды, проявлявшееся как в отдельных частях комплекса (например, обувь), так и деталях, орнаменте, терминологии (малицу перепоясывали ремнем с пряжкой — «схватом», носили вязанные из шерсти пояса, носки, варежки, украшенные разноцветными узорами, девушки вплетали в косы металлические «цепи»; домотканую одежду вместо вышивки украшали аппликацией из разных кусков материи, носили перстни из конского волоса с бисером и т. д.). Существовало и некоторое различие между пустозерской и устьцилемской одеждой, но поскольку детального сопоставления этнографами не проводилось, отметим лишь некоторые из них: устойчивое сохранение старинной одежды, например глухого сарафана и кичек у устьцилемок (явное влияние старообрядчества), более тесная связь одежды последних с одеждой коми и использование терминологии последней (например, рукава — «сос»); меньшая подверженность одежды устьцилемов городскому влиянию (юбка в женском комплексе, мужские костюмы и т. п.).
Ремесла и домашние рукодельные промыслы были в XIX — начале XX в. более или менее развиты в Усть-Цилемской волости вследствие земледельческого характера занятий, высокого уровня развития скотоводства (шерсть), лесного изобилия, концентрации населения и оживленных торговых контактов. Здесь производились
87
предметы быта и утварь, получила распространение своеобразная «пижемская» роспись,31 выделывались «оленные постели» и т. д. В домашнем быту пустозеров и устьцилемов употреблялись изделия мезенского и пинежского («перемьского») ремесла: посуда, прялки, короба, туеса; много было орудий и бытовых предметов «усольской» работы (из железа), привозившихся чердынцами: серпы, горбуши, светильники.32 Пустозеры и устьцилемы употребляли ружье ненецкого типа — «моржовку» с ящичком для нюхательного табака, лук и стрелы для охоты на белок, а ненцы и коми пользовались русскими «грабилками» для сбора ягод. В быту пустозеров и устьцилемов были предметы ненецкого происхождения: «патка» — подушечка для иголок, мешочки для хранения мелких предметов, оленная упряжь, постели для саней («андюр») и т. д.
Длительная связь русского, коми и ненецкого населения отразилась в верованиях, обычаях и некоторых обрядах пустозеров и устьцилемов. Обетные кресты на морских тонях пустозерки обвешивали кусками белой материи с нашитыми на них черными крестами (ср. аппликационный орнамент ненцев).33 У пустозеров основные приметы и магические действия были связаны с рыболовно-зверобойным промыслом (заговоры, окуривание и окропление снастей и т. п.); водяной назывался здесь «шишко» (ср. «шишко» — леший в других северно-русских районах) и представлялся в образе старухи или ненки с распущенными волосами.34 Многочисленны были запреты, связанные с рыболовством: не есть «на воде» живую рыбу (русские, как и ненцы, употребляли «тряпущую» — живую рыбу), не поить лошадей, пока не вытащишь невод, не купаться женщинам в некоторых озерах, не смеяться (не ругаться) на воде (вытащишь тину или навоз) и др.35 Устьцилемы переняли у коми обрядовую сторону лесного промысла, в первую очередь, охоты. Наблюдаются некоторые различия в календарной обрядности пустозеров и устьцилемов, обусловленные хозяйственной спецификой и приверженностью к разным христианским догмам (православным и старообрядческим).
В советское время, несмотря на многие перемены, нарушившие былую замкнутость, обособленность пустозеров и устьцилемов и включившие их в общегосударственные социально-экономические и культурные процессы, эти группы сохранили до настоящего времени многие черты своего складывавшегося веками культурно-бытового уклада, своеобразной фольклорной традиции.
II. Обзор былин печорской традиции
Былинный репертуар Печоры насчитывает 42 сюжета (без учета позднейших новообразований — «Бутман», «Про Ваську про вора, про Захарова»). 12 из них зафиксированы только в среднем течении реки, 3 — только в низовьях. Есть основания эти различия связывать с историей заселения Печорского края. Устьцилемы — потомки новгородцев, в их репертуаре есть былины, популярные в Прионежье и Каргополье и практически неизвестные или записанные в единичных вариантах в других районах европейского Севера России: «Наезд литовцев» (4 варианта), «Соловей Будимирович (5), «Ставр Годинович» (3), «Илья Муромец и голи кабацкие» (4). В Прионежье и на Печоре эти сюжеты сохранились хорошо, а в других районах Русского Севера либо отсутствовали изначально, либо были забыты. 5 сюжетов, не обнаруженных в понизовье, роднят устьцилемскую традицию с кулойско-мезенской. Этому тоже можно дать историческое объяснение: именно через Мезень двигались когда-то на восток предки современных устьцилемских сказителей, с Мезенским краем и впоследствии поддерживались довольно оживленные контакты — через него проходил самый короткий путь в Архангельск и центральную Россию (низовья Печоры были колонизованы гораздо позднее выходцами из Московской Руси; жители этих мест предпочитали добираться до Архангельска морем). Характерно, что эти былины не известны в Прионежье
88
(лишь «Данила Ловчанин» записан в одном варианте) и, как считают многие исследователи эпоса, окончательно оформились сравнительно поздно («Бой Добрыни и Дуная» — 6 вариантов, «Молодость Добрыни» — 3 варианта, «Камское побоище» — 2 варианта, «Данила Ловчанин» — 1 вариант и разночтения к нему, «Алеша Попович и сестра братьев Петровичей» — 1 вариант). В Усть-Цильме сделана также единственная печорская запись былины «Михайло Потык». Только в низовьях Печоры собирателям дважды встретился сюжет «Сватовство Идолища», известный также по записям с Мезени и Зимнего берега, и по одному разу — редкие былины «Сухман» и «Волх Всеславьевич».
Однако расхождений в эпическом репертуаре Средней и Нижней Печоры (Усть-Цилемского района Республики Коми и Нарьян-Марского района Архангельской области, по современному административному делению) гораздо меньше, чем можно было ожидать, учитывая историю заселения края, огромное расстояние, разделяющее Усть-Цильму и понизовские деревни, ряд различий в хозяйственном укладе, материальной и духовной культуре.
27 былинных сюжетов из 42 записаны собирателями как на Средней Печоре, так и в ее устье. В двух соседних прионежских регионах — на Пудоге и Кенозере — из 42 былинных сюжетов общими являются всего 23; 16 эпических песен зафиксированы только у пудожан, 3 — только у кенозеров. (Заметим, что бо́льшая часть кенозерских деревень долгое время входила в состав Пудожского уезда, от Пудожа до Кенозера — немногим более 100 километров; Средняя и Нижняя Печора в административном отношении во все времена были разделены. И тем не менее процент схождений в былинном репертуаре здесь гораздо выше — 64 процента против 55).
Разумеется, статистическая характеристика репертуара не всегда дает объективное представление о фольклорной традиции: она не учитывает качество текстов (одинаковую значимость получают и развернутый, высокохудожественный вариант, и схематический пересказ, в котором тот или иной сюжет опознается с большим трудом), не отражает некоторых важных аспектов собирательской деятельности. Так, в печорских материалах сравнительно невысок процент отрывков, прозаических пересказов и дефектных текстов, очень мало повторных записей, в то время как в Прионежье их удельный вес весьма значителен. Если Среднюю Печору собиратели посещали регулярно через каждые 20—25 лет, т о понизовские деревни после поездки Н. Е. Ончукова вторично были обследованы лишь в конце 30-х гг. (5 текстов, записанных в селе Верхняя Виска в 1929 г., общей картины не меняют). Наконец, нельзя не учитывать, что первооткрыватель печорской былинной традиции Н. Е. Ончуков отдавал предпочтение редким сюжетам, а потому иногда записывал лишь часть репертуара сказителей.
Важную корректирующую роль приобретают местные изводы, редакции и версии былинных сюжетов, выявление их своеобразия, географического распространения, степени популярности. Сопоставление текстов, записанных в Усть-Цилемском и Нарьян-Марском районах, показывает, что здесь преобладала тенденция к унификации эпической традиции, широкое распространение получили общие для всей Печоры или близкие по характеру версии и редакции былинных сюжетов. Сказители из разных деревень отдавали предпочтение одним и тем же богатырям и, как правило, были единодушны в их оценке; использовали одни и те же поэтические формулы, имена собственные и т. д.
Среди 27 сюжетов, входящих в репертуар как Средней, так и Нижней Печоры, лишь одна былина бытовала в этих районах в разных редакциях («Лука, змея и Настасья»). Но даже этот сюжет не столько разъединяет, сколько объединяет устьцилемскую и понизовскую традицию, так как за пределами Печоры он собирателями не зафиксирован. В 12 случаях правомерно говорить о существовании общепечорских редакций былинных сюжетов: тексты очень близки по идейной направленности и композиционной схеме, содержат эпизоды и мотивы, не встречающиеся или крайне редкие в записях из других районов Русского Севера. Немногочисленные расхождения касаются отдельных подробностей и по своему удельному весу не могут конкурировать с элементами общими («Молодость Василия Буслаева», «Поездка и смерть Василия Буслаева», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Добрыня и Василий Казимирович», «Дунай», «Илья Муромец и Идолище», «Илья и Святогор», «Илья и станичники», «Илья и Сокольник», «Илья и Соловей-разбойник», «Потап Артамонович», «Сорок калик»). В 8 других сюжетах своеобразие печорских редакций еще заметнее, а устойчивых различий между нарьян-марскими и устьцилемскими вариантами практически нет («Алеша Попович и Тугарин», «Добрыня и Маринка»,
89
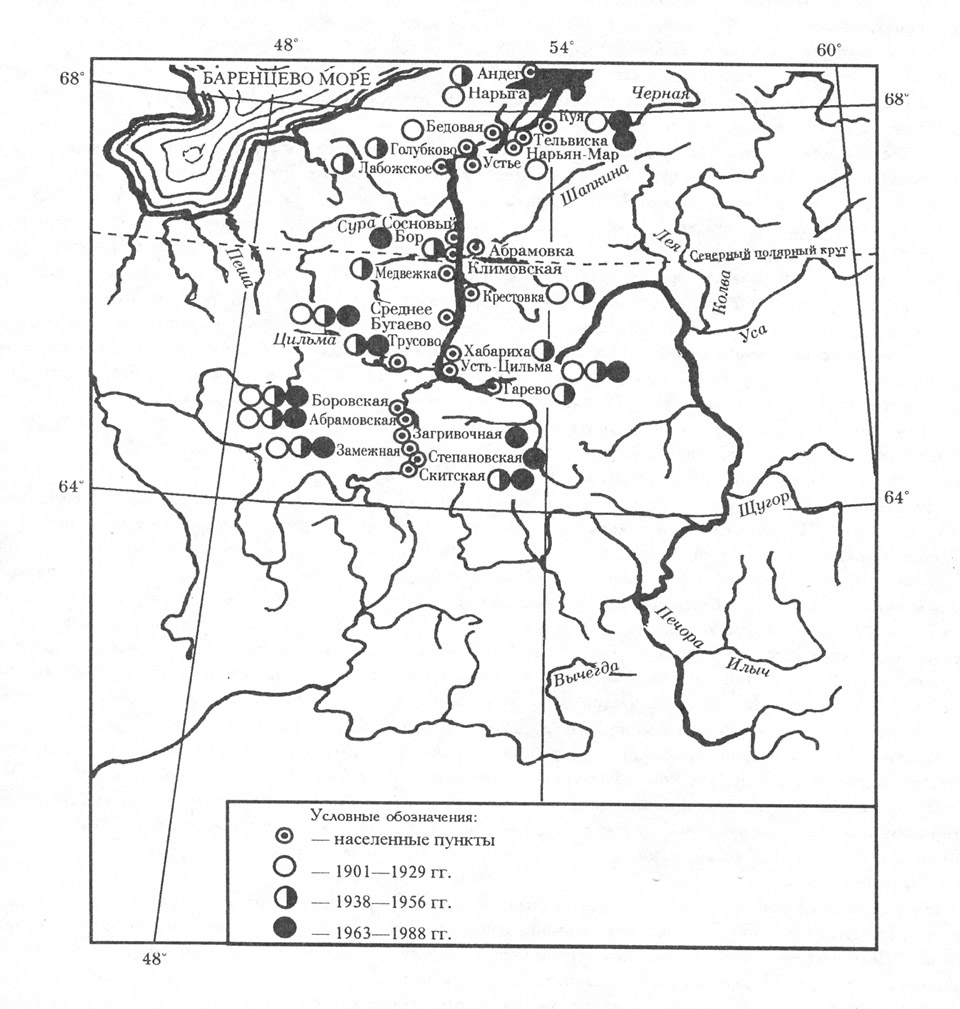
РИС. 1: РАЗМЕЩЕНИЕ БЫЛИН НА ПЕЧОРЕ ПО ЗАПИСЯМ 1901—1988 гг.
90
«Дюк Степанович», «Иван Гостиный сын», «Садко», «Соломан и Василий Окулович», «Хотен Блудович», «Чурила и Катерина»).36
Для сравнения заметим, что на Пудоге и Кенозере более трети общих сюжетов бытовали в разных версиях и редакциях, региональные различия особенно заметны в былинах «Добрыня и Алеша», «Добрыня и змей», «Илья и Идолище», «Илья и Калин-царь», «Илья и Соловей-разбойник», «Дюк Степанович», «Чурила и Катерина». Более того, даже в пределах пудожского региона встречаются разные типы обработки одного и того же сюжета — былина «Добрыня и Алеша» записана в 4 разных версиях и редакциях, «Илья и Калин», «Наезд литовцев» — в 3, «Илья и Идолище» — в 2 и т. д.
В свете изложенных выше наблюдений нуждается в пересмотре концепция Н. Е. Ончукова, который резко противопоставлял устьцилемскую и пустозерскую эпические традиции (тем более что некоторые сюжеты, записанные Ончуковым лишь в одном из этих районов, позднее были обнаружены и в другом — «Иван Годинович», «Лука, змея и Настасья», «Илья Муромец и Сокольник»). Былинная Печора предстает как единый регион, в котором, несмотря на разновременное заселение среднего и нижнего течения реки выходцами из разных земель Древней Руси, сформировалась своеобразная и устойчивая в своих общих моментах эпическая традиция.
Важнейшую роль в этом процессе унификации сыграла «матушка Печора». На протяжении нескольких веков она была для многих поколений северян и главной транспортной артерией, и постоянным местом работы. Собиратели в один голос отмечают, что в старое время былина звучала здесь не в деревнях, а на рыболовных промыслах, куда на долгие месяцы перебиралось чуть ли не все мужское население. «День на Печоре осенью и особенно зимой очень короток, и, проработав часов 5—6, при наступившей темноте все принуждены на невольный отдых, — писал Н. Е. Ончуков. — Работы кончают в 5, в 4 часа дня, а спать еще рано. <...> Вот тут-то и выступают на сцену сказочники и старинщики, которых, говорили мне, нарочно старается всеми мерами залучить в артель составляющий ее староста» (Онч., с. XXIII).
Многие устьцилемские сказители старшего поколения не раз спускались вниз по реке вплоть до ее устья, выходили в море. Печора служила основным «трактом» не только для рыболовов, но и для охотников на морского зверя, для тех, кто по ее притокам добывал пушнину и боровую дичь, для бурлаков, тянувших свою лямку на ее берегах. Анкудин Осташов из д. Замежное на реке Пижме «20 лет кряду ходил по Печоре с чердынскими судами от Балбанского носу до Якши и обратно (тысячи три верст!). Ходил сначала в бичевниках, шишкой — передним бурлаком, затем лоцманом» (Онч., с. 37). В сенокосную страду косари уплывали по Печоре на десятки верст от родных деревень, а в Усть-Цильме и пастухам приходилось месяцами жить вдали от дома. В 1929 г. по этой причине собиратели не смогли встретиться со старинщиком Ф. В. Вокуевым — он «был вне Усть-Цильмы «на угодьях» (на лугах, куда на целое лето отправляют скотину — Аст., I, с. 459).
Печора словно перечеркивала границы между волостями и уездами, объединяла весь этот обширный край в хозяйственном и культурном отношении. Мастерство лучших сказителей хорошо знали и ценили по всей реке, имена прославленных певцов Ончукову называли за сотни верст от их родных деревень (Онч., с. XXIV—XXV).
Эти особенности бытования былин привели к тому, что местная эпическая традиция в некоторых отношениях заметно отличалась от заонежской, пудожской, кенозерско-каргопольской, пинежской; лишь на Мезени, Кулое и отчасти в Поморье, где хозяйственно-бытовой уклад во многом сходен с печорским, нередко обнаруживаются те же закономерности.
На рыболовных промыслах создавались исключительно благоприятные условия для обучения сказыванию былин, расширения репертуара, постоянного взаимодействия и взаимообогащения эпических традиций соседних районов. Дело не только в том, что здесь встречались и подолгу трудились бок о бок жители разных деревень. Распространенное на Печоре хоровое (ансамблевое) исполнение былин исключало пассивное их восприятие — подтягивая признанному старинщику, слушатели включались в акт исполнения, запоминали сюжетный каркас произведения, основные мотивы и детали. Поэтому не приходится удивляться тому, что наиболее популярные сюжеты бытовали на Печоре в одной единственной редакции, получившей всеобщее признание. В местной традиции необычайно высока степень унификации общеэпических формул (так называемых «общих мест»)
91
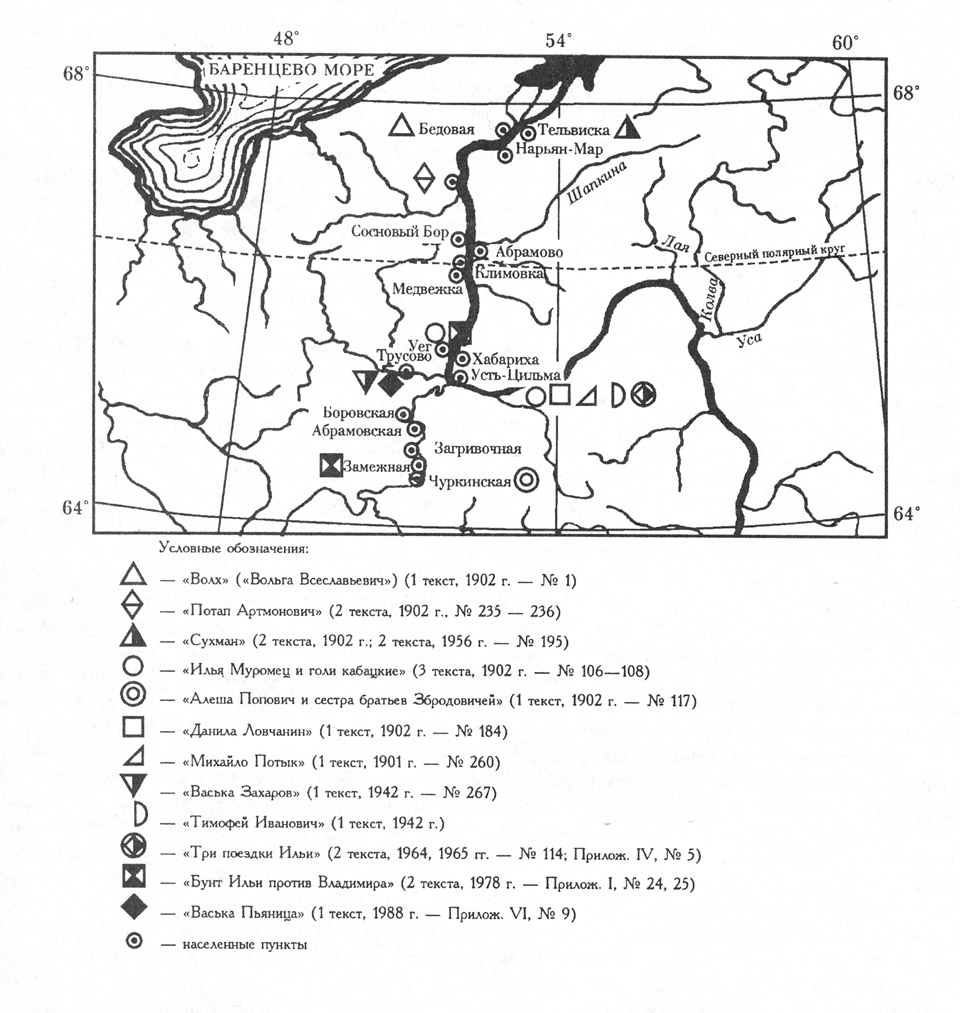
РИС. 2: БЫЛИНЫ, ИЗВЕСТНЫЕ НА ПЕЧОРЕ В ЕДИНИЧНЫХ ЗАПИСЯХ
92
и постоянных формул, характерных лишь для одного сюжета. Видимо, в результате регулярных контактов сказителей, хоровой манеры исполнения былин происходил своего рода «естественный отбор» — в коллективной традиции закреплялся какой-то один поэтический образ для описания повторяющейся ситуации, портретной характеристики героя, его монологов и т. п. Например, получая от князя задание, богатырь обычно говорит:
Ищэ сколько я рад да был чару пить,
Ищэ вдвое я рад службы служить,
Службы служить, да головы сложить.
Уезжая из дома, сын просит у матери благословения «со буйной головы до сырой земли». Враг угрожает на Руси «лучшую силу в пень повырубить, худшую силу в полон взять». Оригинальные формулы используются также для описания седлания коня и богатырской скачки, осматривания окрестностей в подзорную трубу, портрета красавицы, поездки вражеского посла и его поведения в Киеве или в другом русском городе и т. д.
***
Анализ генеалогического соотношения печорских вариантов, проверка внетекстовых данных об учителях крупнейших певцов не дают оснований для выделения местных «школ» сказительского мастерства. Отчасти это объясняется недостатком материала. По разным причинам Н. Е. Ончуков далеко не всегда записывал весь репертуар старинщиков, к творчеству которых возводили свои былины сказители последующих поколений. (Например, от И. В. Торопова записана 1 былина, не записано 12; из 17 сюжетов, известных С. Ф. Хабарову, зафиксировано всего 2.) Поэтому на прямое сличение вариантов нередко рассчитывать не приходится — в записях от сказителей разных поколений не оказывается общих сюжетов.
Один из лучших устьцилемских певцов 20-х гг. В. П. Носов назвал своими учителями И. В. Торопова и И. М. Дуркина. Это утверждение не поддается проверке с помощью текстологического анализа: среди 4 былин Носова нет ни одного сюжета, записанного от его предполагаемых наставников. По этой же причине невозможно сопоставление вариантов П. И. Дитятевой (5 былин в записях 1929 г.) и ее брата А. И. Дитятева, на которого она ссылалась как на единственного своего учителя и от которого Ончуков записал лишь часть его репертуара. И наконец, самый показательный пример: 10 былинных сюжетов И. К. Осташова не дают ни одной параллели к опубликованным в сборнике Ончукова 9 старинам Н. Шалькова, С. Хабарова и А. Дитятева. Вопрос о преемственности и здесь остается открытым, так как сообщения исполнителей об источниках их репертуаров часто бывают субъективными и без предварительной текстологической проверки на них нельзя всецело полагаться.
Непосредственные генетические связи между текстами сказителей разных поколений прослеживаются в единичных случаях. Так, Ф. А. Чупров и Е. М. Мяндина заявили собирателям, что усвоили былину об Илье Муромце и Сокольнике от своего дяди Еремея Чупрова. Сопоставление вариантов подтверждает эти сведения. М. И. Чупров унаследовал свой скромный репертуар («Илья Муромец и разбойники» и начало «Сорока калик») от отца И. Е. Чупрова; две былины из четырех, записанных от И. П. Поздеева («Первая поездка Ильи Муромца» и «Илья и Идолище»), восходят к вариантам его отца. П. Р. Поздеева. Текстуально близки некоторые старины А. Ф. Пономарева и В. П. Тайбарейского (в большей мере «Иван Годинович», в меньшей — «Добрыня и Василий Казимирович»). Объясняется это общностью их источников: Тайбарейский часть своего репертуара перенял у отца Пономарева — Федора Михайловича, вместе с которым не раз бывал на путине; Пономарев-младший учился сказительскому мастерству у отца и его приятеля.
Нетрудно заметить, что эпическая традиция Печоры не дает ни одного примера прямой преемственности между сказителями с большим репертуаром; в тех редких случаях, когда подобная связь обнаруживается, родственными по происхождению оказываются всего один-два сюжета. Этого, конечно, слишком мало для того, чтобы ставить вопрос о существовании сказительских «школ». Быть может, общая картина выглядела бы несколько иначе, если бы Ончукову удалось записать все, что знали наиболее талантливые сказители (А. Ф. Вокуев, С. Ф. Хабаров, И. В. Торопов, А. И. Дитятев, Е. И. Рочев), встретиться с певцами, оставшимися в стороне от его маршрутов (И. В. Горенка, Ф. М. Пономарев, И. Р. Кисляков, Анисья Шевелева), застать некоторых
93
признанных мастеров в расцвете их творческих сил (В. А. Чупров). По словам собирателя, на Василия Аврамовича Чупрова (местное прозвище «Вася Малый») «все указывали как на лучшего знатока былин на Пижме; Ф. Чуркина, например, его ученица». Но встреча с ним не оправдала надежд Ончукова: глубокий старик, В. А. Чупров «много старин <...> перезабыл, а что помнит, помнит плохо» (Онч., с. 66). Единственное, что удалось от него записать, — начало былины «Василий Игнатьевич и Батыга». От пижемских певцов, хорошо знавших «Васю Малого» и называвших его одним из своих учителей, записаны тексты на разные сюжеты (исключение — «Илья Муромец и Сокольник»), так что не представляется возможным ни доказать действительную зависимость их вариантов от былин В. И. Чупрова, ни реконструировать репертуар последнего.
Недостаток материала для сопоставлений затрудняет решение проблемы сказительских «школ» на Печоре, но было бы неверно все сводить только к этому. В других регионах первые собиратели тоже были ограничены в своих возможностях, их записи не дают всестороннего представления о локальных традициях. Например, на Купецком озере (Восточное Прионежье) во второй половине прошлого века было не меньше десяти известных в округе старинщиков, а Рыбникову и Гильфердингу удалось выявить только двух — Н. Прохорова и И. Фепонова. Тем не менее генетические связи между многими вариантами прослеживаются довольно четко. На Печоре картина принципиально иная, что нельзя объяснить стечением случайных обстоятельств. Главные причины этого следует искать глубже — в своеобразии социально-бытового уклада печорцев и обусловленных им особенностях бытования эпических песен.
На мысль о существовании «школ» сказительского мастерства исследователей русских былин натолкнул анализ записей из Прионежья и Кенозерско-Каргопольского края — регионов, заметно отличающихся от Печоры. Местные крестьяне вели гораздо более оседлый образ жизни — в основном занимались хлебопашеством, прочно «привязывавшим» человека к земле; охотились и ловили рыбу на «отхожих» озерах в окрестностях родной деревни, да и на лесозаготовках работали обычно неподалеку от них, вместе с односельчанами. Былины здесь чаще всего исполняли дома, круг слушателей оставался более или менее постоянным. Относительная замкнутость эпической среды приводила к узкой локализации местных традиций, преобладанию в них «семейного» начала. Новые поколения сказителей, как правило, наследовали эпический багаж своих отцов и дедов, односельчан или жителей соседних деревень; случаи заимствования старин от захожих людей или на стороне встречаются крайне редко. Поэтому своеобразные версии и редакции былинных сюжетов, созданные на основе традиции выдающимися певцами, не получали широкого географического распространения.37
На Печоре и в соседних с нею районах сказыванию былин учились в основном на промыслах. «Устьцилемы почти не поют старин дома, а только на рыбной ловле», — свидетельствовал Н. Е. Ончуков (Онч., с. XXVIII). Состав промысловых артелей ежегодно обновлялся, благодаря чему начинающие сказители имели возможность подолгу общаться с носителями разных локальных традиций. Поэтому неудивительно, что они редко ориентировались на одного учителя, каким бы талантливым и авторитетным он ни был. Сравнительно скромную роль играли на Печоре и семейные традиции. «Поются старины <...> многими, — писал Ончуков, — но учатся старине не от многих, а только от лучших певцов» (Онч., с. XXX). Поскольку даже у первоклассного сказителя не все входившие в его репертуар эпические песни равноценны по качеству, естественно желание перенять какую-то былину у другого певца, который исполняет ее лучше. Благо, у печорцев было что сравнивать и из чего выбирать.
Множественность источников эпического знания — закономерная особенность устной традиции Печоры.38 И. К. Осташов назвал собирателю имена четырех своих учителей; В. П. Носов учился сказительскому мастерству у И. В. Торопова и И. М. Дуркина, пел старины и его отец — Прокопий Носов (Аст., I, с. 408); учителями В. П. Тайбарейского были С. Безумов, А. И. Дитятев и Ф. М. Пономарев; А. М. Чупрова — Е. М. Поздеева, А. Е. Осташов и В. А. Чупров. От разных лиц усвоили былины А. А. Носова, Т. С. Дуркин, А. Е. Михеев,
94
Н. И. Суслов, А. М. Поздеева и некоторые другие печорские певцы. Особо следует подчеркнуть два момента: репертуар большинства названных исполнителей составляют всего 2—3 сюжета; учителя и их преемники часто не были связаны узами родства и порой жили далеко друг от друга. То, что в Прионежье или на Кенозере собиратели отмечали как исключение из правила, на Печоре было массовым явлением. Показательно, что даже сыновья известных сказителей не замыкались в рамках семейной традиции. И. П. Поздеев, например, перенимал старины не только от своего отца и его брата Семена, но и от И. Р. Кислякова; А. Ф. Пономарев — от отца и В. П. Тайбарейского; единственная былина Н. В. Тайбарейского «Илья Муромец и Сокольник» не имеет ничего общего с вариантом его отца (см. коммент. к № 74).
Печора не выдвинула женщин-сказительниц такого масштаба, как М. Кривополенова (Пинега), А. Крюкова (Зимний берег), Д. Сурикова и Н. Богданова (Заонежье), А. Пашкова (Пудога), А. Артемьева (Кенозеро). Женщины не бывали на тонях и зверобойных промыслах, не зимовали в охотничьих избушках и, следовательно, лишены были возможности регулярно слушать старины, осваивать искусство их сказывания. Лишь в глухих деревнях на притоках Печоры, население которых вело более оседлый образ жизни, среди лучших сказителей встречаются женщины (например, Федосья Чуркина из д. Чуркиной на реке Пижме). Правда, П. И. Шевелева утверждала, будто ее дочь Аксинья поет 22 старины (Онч., с. 389). Но Аксинью Ончукову разыскать не удалось, а по его меткому замечанию, «слава сказателей не всегда соответствует их действительному качеству». В этом он убедился на собственном опыте после встреч с Тарасом и Д. К. Дуркиным. О Тарасе многие говорили «как об очень хорошем сказателе», знал же он только одного «Бутмана», да и то нетвердо. Д. Дуркин в первый приезд Ончукова на Печору заявил, что «знает 70 старин, которые нынче превратились уже в 40, но он не знает и столько» (Онч., с. 184). Всего от этого певца в 1902 и 1929 гг. записано 8 былин, 1 историческая песня и 1 баллада.
Приведенные выше факты и наблюдения позволяют считать, что в Печорском крае не было «школ» сказительского мастерства, как их понимали А. Ф. Гильфердинг, В. И. Чичеров и некоторые другие исследователи. Это ни в коей мере не свидетельствует об ущербности или неполноценности местной эпической традиции. В каждом регионе на ее развитие активно влияли те или иные особенности хозяйственного и культурно-бытового уклада населения. На Печоре эти особенности способствовали унификации локальных традиций, широкому географическому распространению наиболее удачных редакций и изводов былинных сюжетов.
Среди найденных Н. Ончуковым сказителей первые места по количеству известных им старин занимают С. Ф. Хабаров (17 былин) и И. В. Торопов (13). Однако от них записаны лишь единичные тексты, к тому же в художественном плане они ничем особенным не выделяются, заметно уступая вариантам П. Маркова, П. Поздеева, А. Вокуева и Ф. Чуркиной.
76-летнего Павла Григорьевича Маркова из деревни Бедовой в низовьях Печоры Ончуков аттестовал как отличного знатока старин. Его репертуар не столь обширен, как у Хабарова или Торопова (записано 7 былин, не записано 3), но почти все тексты содержат архаичные подробности, отличаются обстоятельностью изложения, стройностью композиции, высокой техникой исполнительского мастерства. Певец удержал в своей памяти редкий сюжет о Волхе Всеславьевиче (см. № 1 — первую и единственную его фиксацию на Печоре); он — один из немногих сказителей, знавших обе былины о Василии Буслаеве и исполнявших их раздельно, как самостоятельные произведения; его «Дунай» содержит исконные для этого сюжета мотивы и подробности, утраченные другими печорскими старинщиками. Марков сохранил некоторые реалии древненовгородского быта, забытые или переосмысленные его земляками (см. коммент. к № 238), а записанные от него тексты «Алеши и Тугарина» и исторической песни о Кострюке принадлежат к числу лучших вариантов, известных науке.
Собиратель не оставил указаний на источники репертуара П. Маркова, никто из сказителей нового времени не ссылался на него как на своего учителя. Но во всех былинах Павла Григорьевича, кроме уникального для Печоры «Волха», обнаруживаются близкие параллели к вариантам его земляков, что свидетельствует о местном их происхождении. Судя по всему, Марков общался не только со старинщиками с Нижней Печоры: если былина «Василий Буслаев и новгородцы» текстуально близка к варианту пустозера С. Хабарова, то в «Садко» много общего с текстом А. Осташова с реки Пижмы, а старина о поездке Василия Буслаева в деталях и подробностях перекликается с вариантом устьцилемского певца П. Поздеева. Начало «Дуная» Ончуков вообще не счел нужным записать от Маркова, сославшись на сходство его былины с текстом Д. Дуркина из Усть-Цильмы. В эпических
95
песнях Павла Григорьевича обнаруживаются также следы контактов с носителями мезенской традиции (см. коммент. к № 244).
П. Марков — приверженец классического формульного стиля, отлично владевший былинным стихом и обладавший богатым арсеналом художественно-выразительных средств. В его текстах, даже фрагментарных («Волх» и «Василий Игнатьев»), немало оригинальных, а подчас и уникальных формул; особой чеканностью отличаются троекратные повторы, построенные на синтаксическом параллелизме. Как правило, эти описания исполнены внутреннего драматизма и потому не производят впечатления монотонного однообразия. См., например, следующие строки:
Пришла ко Садку да и перва волна —
Розлучила Садка да со нашестоцькёй.
Пришла ко Садку да и втора волна —
Розлучила Садка да со весёлышком.
Пришла ко Садку да и третья волна —
Розлучила Садка да со белым светом.
Лаконична и в то же время исполнена глубокого смысла обобщающая сентенция матери Василия Буслаева, тщетно пытающейся удержать сына от рокового путешествия: «Кому думно спасатця, дак можно здесь спастись». Но у Василия — своя правда, воскрешающая в памяти нормы дружинной чести, утверждавшиеся в эпоху раннего феодализма: «Не отстать мне-ка дружины хороброей». (Ср. отказ киевского князя Святослава принять христианство по примеру матери со ссылкой на то, что дружина будет над ним смеяться.) Оригинален и финальный эпизод этой былины: в знак траура по Василию его дружинники снимают на корабле «флюгароцьку», вынимают из него «есны оци», «черны брови», а мать богатыря по этим приметам догадывается; «Видно нету на караблике хозяина...» (Ср. аналогичный мотив в древнегреческом мифе об Эгее, который бросился со скалы в море, увидев на корабле сына черные паруса, — по уговору их должны были поднять только в случае гибели хозяина.)
От Петра Родионовича Поздеева, сына знаменитого в прошлом устьцилемского старинщика, Ончуков записал 10 былин и перечислил еще 3 известных ему сюжета. Прекрасно отзываясь о человеческих качествах Поздеева, собиратель невысоко ставил его как сказителя: «Старины он поет плоховато, гораздо хуже, чем Ф. Чуркина, Вокуев, Марков и др. Все старины поет Поздеев чуть ли не одним «ясаком», чего хороший старинщик никогда не позволит себе да и не сумеет. Все происходит у него в Киеве при князе Владимире, куда он отнес и старину про Долгорукова с ключником; во все старины вносит однообразные факты, фразы и целые действия и, не помня подлинных, слышанных от стариков выражений, привносит много своего» (Онч., с. 78).
Безусловно, что-то в этой оценке справедливо (невыразительность напева — «ясака», путаница имен и исторических эпох в балладе о князе Волконском и ключнике), но в целом ее принять трудно. Ончуков явно сгустил краски и местами противоречит своим же собственным утверждениям; во всяком случае, приведенные выше ссылки на забывчивость Поздеева не вяжутся с рассказом о его «удивительной памяти». Во вступительной статье к сборнику Ончуков писал, что Поздеев присутствовал при исполнении Д. Дуркиным редкой былины «Лука, змея и Настасья», а через несколько дней сам предложил спеть ее, но «со смехом». «Оказывается, что он, прослушавши раз, запомнил старину, а когда ездил в лес за дровами, попробовал спеть и спел всю от начала до конца» (Онч., с. XXX). К сожалению, собиратель отнесся к предложению Петра Родионовича как к чудачеству и упустил уникальную возможность зафиксировать своеобразную «премьеру» народного певца. Замена князя Волконского Долгоруким — обычное на Печоре явление (см., например, варианты того же Дуркина — Онч., № 52; Аст., I, № 84; правда, действие в них происходит не в Киеве). Во всех остальных текстах Поздеева место действия традиционно, а «однообразие» формул свидетельствует лишь об исключительной стабильности так называемых общих мест у этого сказителя; ни одного случая явного переноса каких-то эпизодов, мотивов или подробностей из других сюжетов обнаружить не удалось. Сопоставления былин П. Поздеева с другими записями Ончукова и материалами последующих экспедиций убеждают в том, что многие из них принадлежат к числу лучших печорских вариантов. «Илья Муромец и Идолище», «Иван гостиный сын»,
96
«Чурила и Катерина», «Поездка Василия Буслаева» содержат все или почти все элементы местных редакций этих сюжетов; в «Добрыне и Маринке» в отличие от других печорских записей Добрыня сохраняет черты эпического героя, Маринка изображена колдуньей, а ее любовник — змеем; без поздеевского «Ставра Годиновича» контуры печорской редакции этого сюжета вообще не удалось бы выявить, так как тексты других сказителей дефектны или зависимы от книги.
Подобно П. Маркову, Поздеев придерживался формульного стиля; для его былин характерны точный и выразительный язык, традиционность лексики, строгое соблюдение эпических повторов.
Неизгладимое впечатление произвел на Ончукова Анисим Федорович Вокуев — 70-летний крестьянин из-под Усть-Цильмы, ослепший еще в детском возрасте. Умный, предприимчивый, острый на язык, он не согнулся под тяжестью обрушившегося на него недуга, сумел многого добиться в жизни, стать полезным и уважаемым членом общества. Собиратель оставил блестящий портрет этого замечательного человека (см. раздел «Биографические сведения об исполнителях», т. II), оказавшегося к тому же великолепным сказочником и знатоком эпической поэзии. «Анисим громким, как труба, голосом поет свои старины, которые знает твердо, поет складно, прекрасным напевом» (Онч., с. 255). «Памяти Анисима я обязан тем, что списал у него несколько былин в прекрасных вариантах, спетых прямо-таки художественно, без единой лишней строчки и слова» (Северные сказки, с. 35—37). Занятость Вокуева помешала Ончукову записать весь его эпический репертуар, а ориентация собирателя на редкие сюжеты не позволила сказителю полностью раскрыть свое дарование. Из 6 его былин лишь 3 соответствуют приведенной выше характеристике — «Алеша Попович и Тугарин», «Добрыня и Василий Казимирович», «Илья Муромец и голи кабацкие». Правда, последняя старина фрагментарна, но Анисим Федорович удачно оформил ее как самостоятельное, не требующее продолжения произведение. Сюжет «Луки, змеи и Настасьи» осложнен рассказом о поездке героя на родину, в котором певец использовал не свойственные эпосу бытовые детали и современную лексику. «Святогор и Илья Муромец» представляет собой прозаический пересказ былины, а «Молодость Добрыни» — начало эпической песни, сюжетная принадлежность которой точно не устанавливается. В стилистическом отношении все тексты Вокуева, кроме «Святогора» и второй части «Луки, змеи и Настасьи», не уступают лучшим образцам печорской былинной традиции.
Лучшая былина Федосьи Емельяновны Чуркиной «Илья Муромец и Сокольник» по праву открывает сборник Ончукова. Это самый полный и развернутый, безупречно скомпонованный и мастерски исполненный вариант популярнейшей в этих краях старины, первая фиксация оригинального пижемского извода сюжета, получившего распространение по всей Печоре и отлично сохранившегося вплоть до второй половины нашего века. В той же редакции былина входит в репертуар ряда пижемских певцов, учившихся сказительскому искусству у дяди Ф. Чуркиной В. А. Чупрова или его преемников. Несомненны художественные достоинства былин Федосьи Емельяновны «Алеша Попович и сестра братьев Збродовичей», «Василий Игнатьевич и Батыга». В последней былине сказительница использовала сразу два запева — случай уникальный в русском эпосе (традиционному запеву о турах предпослано гиперболическое описание чудесного корабля). На фоне этих текстов бледно выглядит «Илья Муромец и Калин-царь», особенно вторая часть произведения, концовка которого скомкана и передана прозой. Кроме записанных Чуркина знала еще 4 былины, в том числе «Маево побоище» — третий в ее репертуаре сюжет, повествующий о татарском нашествии на Киев, и второй, в котором главную роль в отражении нашествия играет Илья Муромец.
Немало прекрасных знатоков и талантливых исполнителей былин открыли на Печоре советские фольклористы. Достойными преемниками сказителей старшего поколения стали Иван Кириллович Осташов, Василий Петрович Тайбарейский, Василий Прокопьевич Носов, Никита Федорович Ермолин, Александр Федорович Пономарев, Тимофей Степанович Кузьмин, Гаврила Васильевич Вокуев, Еремей Прович и Леонтий Тимофеевич Чупровы, Василий Игнатьевич Лагеев. Развернутые характеристики большинства из них опубликованы в различных сборниках и перепечатываются в настоящем издании; содержательные очерки творчества четырех последних певцов написаны музыковедом Ю. Е. Красовской.
Сведения об Иване Кирилловиче Осташове крайне скудны. Известны имена его учителей (они были названы выше), собиратель отметил также, что Осташов «в совершенстве владеет былинной поэтикой и может любую сказку дать в былинном изложении». От него записано 10 былин; не все они равноценны по качеству, но в каждой чувствуется почерк зрелого мастера. Особенно выделяются стройностью композиции и чеканностью
97
слога старины о Дунае, Дюке, Чуриле и Катерине; хороши и многие былины об Илье Муромце — любимом герое Ивана Кирилловича. (В репертуаре сказителя 5 былин об этом богатыре, а в «Дюке» он выступает в роли второстепенного персонажа. На этом фоне парадоксом выглядит тот факт, что среди 10 былин П. Маркова, земляка Осташова, нет ни одного сюжета об Илье Муромце.)
В свое время Ончуков по всей Печоре тщетно искал певца, который знал бы стихотворный вариант старины о Святогоре; от Осташова такой текст записан. Правда, сказителю не удалось избежать прозаизмов, но наличие ряда оригинальных формул, выразительных реплик персонажей свидетельствует о давней традиции пения этой былины. В текстах Ивана Кирилловича обнаруживаются редкие эпизоды и детали, роднящие их с вариантами других печорских певцов, причем близкие параллели имеются в записях как с Нижней Печоры, так и из Усть-Цилемского района (см. коммент. к былинам «Чурила Пленкович и Катерина», «Ставр Годинович», «Дунай Иванович-сват», «Иван Годинович», «Соломан и Василий Окулович», «Илья Муромец и Сокольник»). Показателен в этом отношении текст «Ставра Годиновича», в котором Осташов соединил традиционный сюжет с начальными эпизодами «Бутмана» — былинного новообразования, созданного на Пижме, за сотни километров от его родной деревни.
На творчество ряда печорских сказителей сильное влияние оказала книга. К печатным источникам восходят пересказы былин С. Марковой и Т. Савуковой, «Добрыня и Алеша» Н. Суслова, большинство текстов Т. Кузьмина, сводная сказка А. Бажукова об Илье Муромце, былина Н. Ермолина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; все четыре старины В. Лагеева текстуально близки к соответствующим сюжетам из «Книги былин» В. П. Авенариуса. О характере и степени зависимости этих вариантов от книжных источников, о некоторых особенностях «вторичного» бытования былин, возвратившихся в народную среду, подробнее сказано в комментариях. Здесь же необходимо отметить, что лучшие печорские старинщики — Лагеев, Ермолин, Кузьмин — не сказывали, а пели былины, заимствованные из печатных изданий. Василий Игнатьевич Лагеев особенно выделяется мастерской дикцией, великолепным чувством эпического стиха и напева, выразительным и звучным голосом. Эти факты — еще одно свидетельство силы устной эпической традиции Печоры, «подчинявшей» своим законам даже книжные по ближайшему происхождению былины.
***
Печорские былины, как и эпические песни из других районов Русского Севера, изобилуют традиционными географическими названиями, устойчивыми формулами и постоянными эпитетами, в которых упоминаются нехарактерные для северной природы и местного быта реалии: «поле чистое», «палаты белокаменные», «гнедой тур», «кроватка слоновых костей», «червленый вяз», «дуб» и даже «дерёва кипарисные». Вместе с тем на Печоре, как ни в одном регионе, былинная поэзия несет на себе яркий отпечаток местных природных условий, хозяйственного и бытового уклада.
Печорские сказители в своем большинстве — рыбаки и охотники (в том числе и на морского зверя), промысловая удача для них неразрывно связана с трудностями и лишениями походной жизни, постоянным риском в борьбе с водной стихией. Поэтому закономерно, что морские мотивы занимают в их былинах гораздо более важное место, нежели в текстах, записанных в континентальных областях России.
На Печоре шире круг сюжетов, в которых изображаются морские поездки героев. К традиционным мореходам русского былевого эпоса — Василию Буслаеву, Садко, Соловью Будимировичу, Торокашке Заморянину (сюжет «Соломан и Василий Окулович») добавляются Василий Казимирович и его спутники («Добрыня и Василий Казимирович»), Лука Данилович («Лука, змея и Настасья»); на кораблях происходят главные события в былине «Идолище сватает племянницу князя Владимира»; отправляясь на поиски похищенной жены, царь Соломан с дружиной тоже предпочитает плыть морем (в текстах из других регионов, в том числе и в поморских, он движется по суше). В одном из вариантов былины «Добрыня и змей» (№ 10) противник нападает на богатыря в море, а не на Пучай-реке, как обычно. Вижа (Визя Лазурьевич) снаряжает корабль, чтобы убить возвращающегося с удачной охоты Данилу Староильевича (№ 184). Подводные камни, «подводная кошоцька разбойная» упоминается и в былине о Хотене Блудовиче, действие которой развертывается на улицах города и в чистом
98
поле. Разгневанная трусостью сыновей (зятьев), отказавшихся постоять за честь семьи в бою с Хотеном, Маринка Чусова вдова изливает свои чувства в причете, заявляя, что лучше бы она родила не девять сыновей, а девять камней:
Я бы бросила камни да во синё морё,
Кабы сделалась кошоцька подводная,
Да подводная кошоцька розбойная,
Да розбила бы Фатенка да на синём мори.
(№ 186)
Гибелью героя во время шторма завершается один из вариантов «Садко»:
Да хватила его пурга-па́дера,
Да разбило три карабля черлёныя,
Нарушился Сатко купеч богатыи.
(№ 254)
Для эпической традиции большинства других районов характерно схематичное описание морских плаваний, им отводится обычно роль «проходных» эпизодов. У печорских сказителей и их соседей с Мезени (в меньшей степени — Кулоя и Зимнего берега) они превращаются в развернутые картины, богатые живописными деталями и подробностями. Собираясь в плавание, былинный герой нередко строит новый корабль — либо с помощью своей дружины, либо нанимая плотников.
Делат он сибе караблик чернинькой,
Леккой стружочик.
Хорошо стружек да изукрашен был:
Приделывал он к кораблику на место правежу
По серу волку рыскучему,
Вместо очей врезывал по камешку самоцветному,
Вместо ресниц — по седу бобру остистому,
Вместо бровей — по той лисице по печорскоей, —
Хорошо-добре надцадик изукрашивал.
Весёлышка были в надцадике кленовые,
Дерёвца были кедровые,
Дроги-зъёмы были шелковы,
Паруса были тонка полотнены...
(№ 243)
Подобно поморам-промысловикам, перед дальней дорогой богатыри запасаются провизией и даже пресной водой:
Всякой берет с собой провизию,
Берёт с собой зелена вина,
Для коне́й берет пшена белоярова,
Берёт воды сладкой медовой сороковками.
(№ 272)
Любовно, со знанием дела описывается снаряжение корабля: упоминаются «флюгера позолоченные», «якори булатные», «сходни дубовые», «мачты высокие» и т. п. С такой же профессиональной точностью в былинах зафиксированы все основные действия корабельщиков:
99
Обирали ныньце сходенки дубовые,
Подымали якори новы булатныя,
Роспускали паруса белы полотнены.
(№ 245)
В одном из вариантов уточняется, что убранные сходни «поклали <...> вдоль по караблю» (№ 244), в другом отмечается, что корабли провожали «со стрельбою» (№ 277). Прибыв на место назначения, мореходы «мечут щупы долгомерные», «ищут кошоцки подводноей» и, только убедившись в полной безопасности прибрежных вод, заходят в «гавани тихие», опускают паруса, бросают якоря, кладут сходни «концом на землю» и высаживаются на сушу. В некоторых эпических песнях фигурируют шлюпки, на которых герои былин преодолевают мелководье (№ 245, 266).
Не забывают сказители отметить благоприятную для плавания погоду:
Кабы дал им Бог нонь тишины пособноей...
(№ 270)
Перепало ему погодье благополучное,
Благополучное, пособно-быстрое.
(№ 272)
Нередко говорят даже о распределении обязанностей между корабельщиками:
Кабы Васинька стал, право, ко парусу,
А Микитушка стал, право, ко якорю,
А Потанюшка Хроминькой ко вороту.
(№ 16)
...Фома-то Толстой тот на кормы стоит,
А Костя Микитиць на носу стоит,
А Потанюшкя Маленькёй окол парусов.
Потому-де Потаня окол парусов:
Горазд был Потаня по снастям ходить.
(№ 244)
Обилие подобных деталей в былинах печорцев несомненно связано с особой ролью моря в их жизни. Не случайно один из местных сказителей Николай Шальков, по аналогии с традиционным постоянным эпитетом «мать сыра земля», охотно употреблял формулу: «Побежали-то по батюшку синю морю» (№ 21, 245), а Тимофей Дуркин счел необходимым дополнить популярное в былинах предсказание непобедимости Ильи Муромца: «Мне на поле (т. е. в бою) смерть не писана, на море не явлена» (№ 51).
Отмеченные выше развернутые описания, яркие детали и подробности не являются в былинах строго обязательными, необходимыми для дальнейшего развития сюжета или характеристики главного героя. Поэтому в одних вариантах они имеются, в других могут быть опущены без особого ущерба для развития действия. Но в ряде случаев морские мотивы играют исключительно важную роль в характеристике героев, становятся сюжетообразующими элементами, прочно вплетающимися в художественную ткань произведения. В печорской редакции былины «Поездка Василия Буслаева в Иерусалим» мать предупреждает богатыря об опасностях, подстерегающих его на пути в Иерусалим:
Есть там три за́ставы великия:
Перва за́става — живут мужички да новотокмяна,
Бьют, хватают они удалых добрых молодцов,
100
Не пропускают не конных, не пеших
Те станичники да коробичники.
Другая за́става есть великия —
Субо́й быстёр да вал густой.
Третья есть за́става великая —
На горах стоят кресты евангельски.
(№ 243)
«Субой» — водоворот, сильное течение, справиться с которым нелегко даже богатырской дружине Василия Буслаева.
Стало тут кораблик помётывать, подбрасывать,
Микитушка пал на черлён карапь,
Фома Широкий тоже пал,
Потанюшка Хроминький поскакиват.
(Там же)
Еще более колоритная картина нарисована в варианте А. Осташова (№ 16) — сюжет «Добрыня и Василий Казимирович», но послами киевского князя являются Василий Буслаев и его традиционные спутники:
Выбегали они да за быстрой субой.
Кабы начело их, право, покачивать,
А покачивать начело, пошатывать,
Как Микита Широкой под у́нож упал,
Кабы Васинька Буслаевич на у́нож пал,
Как Потанюшка Хроминькой кормой шатат,
Как кормой-де шатат, парус поправливат.
В некоторых мезенских текстах тоже есть предупреждение матери («сулой быстёр», «розбой востёр» — Григ., III, 74), но при описании поездки Василия Буслаева оно не реализуется.
Напряженным драматизмом пронизана первая часть былины на сюжет «Лука, змея и Настасья», которая зафиксирована собирателями только на Печоре. «Позадорившись за охотою», Лука неосмотрительно вышел на «морские луга» и был застигнут приливом.
Подходила тут вода да синеморская,
Понимала тут вода все зелены луга,
А стоял тут Лука да по колен воды,
А стоял-то Лука да по пояс воды,
А стоял-то Лука да по грудей воды.
(№ 277)
Печорские сказители, хорошо знавшие борьбу с морем, лаконичными штрихами подчеркивают всю опасность положения Луки:
Пролились кабы все да малы заводи,
Але вытти-де Луки да ныньци непокуль,
Кабы непокуль-де вытти, право, на землю.
(№ 278)
101
Богатырь заскакивает на «колодину водоплавную», но на этом его злоключения не кончаются:
Потянул кабы ветер нынь со города,
Понесло ныньце Луку да во синё морё,
Подхватил-ле Луку, право, быстёр субой,
А быстёр бы субой, да, право, вал густой,
А едва-ле так Лука да нынь спасаетца,
Понесло-де Луку да во синё морё. <...>
Убиват-де валом его, захватыват.
(Там же)
«Колодину водоплавную» выносит в открытое море или к горам Сорочинским, где Луку подстерегает новая опасность — на него нападает «змея лютая».
Во многих печорских былинах повторяется стандартная ситуация: богатырь выезжает на крутую гору или выходит на крыльцо («на рели превысокие») и «зрит-смотрит» во все стороны.
Да смотрел он под сторону восточную, —
Да и стоит-то-де наш там стольнё-Киев-град;
Да смотрел он под сторону под летную —
Да стоят там луга да там зелёныи;
Да гледел он под сторону под западну —
Да стоят там да лесы тёмныи;
Да гледел он под сторону под северну —
Да стоят-то-де там да ледены горы...
Панорама, открывающаяся взору героя на западе, востоке и юге, обычно варьируется, но на севере он неизменно видит «море синее», «ледяные горы», «сини моря ледовитые» и даже «ледовитый океан». Близкие по содержанию описания присущи также мезенским, кулойским и поморским былинам. Характерно, что основной театр действия — западная сторона: именно там богатырь обнаруживает что-нибудь необычное, привлекающее его внимание; оттуда же Появляются чужеземцы-насильники (лишь Сокольник с матерью обычно живет на севере, «у того у моря у холодного» или «студеного»). Нетрудно заметить, что сказители Печоры и соседних с нею районов словно переносят былинных героев в свои родные места, наделяют их собственными представлениями о внешнем мире. (Во времена Н. Ончукова, не говоря уже о более ранних, все более или менее удобные и обжитые дороги в «большой мир» начинались для печорцев далеко на западе — Северная Двина с ее притоками, почтовые тракты, ведущие из Архангельска в Москву и Петербург, позднее — железная дорога на Москву.)
Северяне немало знают о землях, удаленных от их родной Печоры на сотни и тысячи верст. В текстах былин упоминаются «долга дорожечка сибирская» (№ 168, 169), «Каспийскоё морюшко беспроливноё» (№ 169), «земля Подобьская» (№ 260); некоторые эпитеты связаны с названием уральской реки Камы (орел «закамский», «камчужский», бобры «закаменьские»).
Старожилы Средней Печоры считают себя прямыми потомками новгородских поселенцев, а низовья реки около пяти веков тому назад были освоены московскими колонистами. Поэтому естественно ожидать, что в эпической традиции Усть-Цилемского района память о древнерусской торговой республике, о своеобразном политическом, экономическом и бытовом укладе новгородцев должна сохраниться лучше, чем у соседей. Однако этого нет. Правда, по количеству вариантов новгородских сюжетов «Садко», «Василий Буслаев», «Хотен Блудович» Усть-Цилемский район несколько превосходит Нижнюю Печору (15 против 11), но их удельный вес выше в былинном репертуаре понизовья, где за все годы собирания эпоса записано почти в три раза меньше былин. Что же касается конкретных новгородских «примет», то ими бедны все печорские тексты; понизовские записи в этом плане выглядят, пожалуй, предпочтительнее.
102
В былине «Садко» действие порой переносится в Киев (№ 253, 254), в «черен град» за морем (№ 255) — все три текста устьцилемские, а Новгород упоминается лишь в двух нижнепечорских вариантах (№ 250, 258). Пустозерский певец Н. Шальков, видимо, считал «Новгород» сочетанием краткой формы прилагательного с нарицательным именем существительным и использовал в «Садко» слегка перефразированный зачин из былин о молодости Добрыни:
Как прежде Казань да слободой была,
Ищэ ныньце Казань да новым городом,
Как во той во Казани, в новом городе...
(№ 251)
Такой же формулой, но без упоминания «нова города», открывается былина о Василии Буслаеве устьцилемского сказителя Д. Дуркина:
Преж Резань да слободой была,
А теперь Резань да славный город стал.
(№ 246)
Ни в одной записи этого сюжета не фигурируют новгородские посадники, братчинные старосты, лишь однажды упомянута «братчина» (№ 238 — Нижняя Печора), но не в ее древнем значении («братчину пить бы медовую»). Только в двух вариантах (по одному из каждого района) Василий Буслаев бьется с новгородцами на мосту через Волхов, в других текстах бой происходит на улицах города, а то и в «чистом поле». Да и само название реки в трех вариантах (два из Усть-Цилемского района) заменено близкой по звучанию Волгой (№ 251, 253, 256); Волхов упомянут в двух записях этого сюжета (№ 252, 257). На Средней Печоре наблюдается и путаница имен богатырей — Василий Буслаев со своими соратниками везет пошлины «царю неверному» (№ 16, сюжет «Добрыня и Василий Казимирович»), замещает главного героя в былине «Соловей Будимирович» (№ 167), а его самого в сюжете «Поездка Василия Буслаева в Иерусалим» заменяет «Чурилка» (№ 247).
Несмотря на обращенность былин к далекому прошлому, сознательное стремление большинства исполнителей петь «так, как старики пели», новые времена, изменившиеся условия жизни носителей эпоса не могли, хотя бы приглушенно, не отразиться в текстах былин. Все более размытыми, неконкретными становились представления устьцилемских сказителей об их прародине — древнем Новгороде, а новый жизненный опыт, печорские впечатления все настойчивее пробивали себе дорогу в эпическую поэзию. Этот процесс характерен для всего северо-восточного субрегиона (Поморье — Кулой — Мезень — Печора), но на Печоре он протекал наиболее интенсивно, оставив многочисленные «следы» в текстах былин, местный колорит которых не исчерпывается отмеченными выше морскими мотивами.
Печорские сказители нередко строят постоянные формулы, сравнения, параллелизмы и другие поэтические образы на использовании названий северных зверей, птиц, деревьев: «черный морж подлёдный» (№ 169), «белый куропать» (№ 68, 100, 176 и др.), «черно-хвост горносталь» (№ 154), «лисица печорская» (№ 243), «столешинка кедровая» (№ 196, 197 и др.), «деревца кедровые» (243); в текстах упоминаются особенности планировки и архитектуры северно-русского жилья, многие свадебные обычаи, перечисляются свадебные чины: «заходила она в избу нижную» (№ 24), «ходит у крута крыльца работница» (№ 138), «свели молодых на подклет, повалили спать» (№ 126).
Старого казака стал князь ставить тысяцким,
Дуная Ивановича стал — дружкою,
Добрыню Микитича дру́гою,
Скопина Михаила Ивановича бережа́телем.
(№ 118)
103
Широко распространенную эпическую формулу — обращение вассала к своему владыке («Не вели казнить, вели слово вымолвить») многие печорские певцы осложняют, вводя в нее перечисление различных видов казни и упоминание «ссылки дальней»:
Не позволь ты мине за слово головы казнить,
Головы ли сказнить, скоро повесити,
И не выслать бы штобы миня в ссылки дальния.
(№ 190, см. также № 122, 126, 128, 270 и др.)
Есть основания полагать, что это тоже отголосок житейского опыта северян. Низовья Печоры уже в XVII в. стали местом ссылки неугодных светской и духовной власти деятелей; особый резонанс в среде старообрядцев получила пустозерская ссылка протопопа Аввакума. Память о такой форме княжеского и царского гнева сохранилась в местной эпической традиции. (Сохранилась она и в Мезенском крае, который тоже служил местом ссылки.)
На протяжении многих столетий русские жили на Печоре в иноязычном окружении, общаясь с народами, материальная и духовная культура которых резко отличалась от их собственной. Видимо, этим обусловлено повышенное внимание, которое уделяют местные сказители таким аспектам межэтнических отношений, как существование языкового барьера, различий в бытовом укладе, обычаях и верованиях. В былинах, как и в других фольклорных произведениях, проблема языкового барьера обычно вовсе не ставится: русские богатыри прекрасно договариваются без переводчиков и с татарами, и с «королем ляховитским», и с мифическими персонажами. В эпическом мире всеобщее взаимопонимание — вещь сама собой разумеющаяся. Лишь в одной из пудожско-каргопольских редакций сюжета «Илья Муромец и Калин-царь»,39 представленной тремя вариантами, Калин выбирает посла, который «умеет говорить по-русски, мычать по-татарски» (Рыбн., 205, Григ., 57, ТМ, отдел 2, № 11). В печорских же записях «толмачи» упоминаются в разных былинных сюжетах:
Из вас бывал ли кто на святой Руси?
А по-руському кто говаривал,
По-немецькому протолмачивал?
(№ 105, сюжет «Камское побоище». См. также № 278, сюжет «Лука, змея и Настасья»; № 200, сюжет «Василий Игнатьевич и Батыга»)
Правда, как и в других вариантах, послу не приходится в Киеве говорить: он бросает ярлыки на дубовый стол и «поворот, дает», т. е. уходит. Некоторые исполнители считали необходимым подчеркнуть, что противник богатыря владеет русским языком («Говорит змея русским языком» — № 279; даже конь Святогора «говорит <...> руським голосом» — № 6).
На Нижней Печоре в разных сюжетах используется постоянная формула:
Еще хто мне-ка найдет невесту зарученную,
Как по-руському назвать — жену венцяльную,
А по-нашему, по-немецки, назвать — супружницю...
(№ 272, сюжет «Соломон и Василий Окулович»; см. также № 21, сюжет «Идолище сватает племянницу князя Владимира»: № 181, сюжет «Иван Годинович»)
104
Многие певцы последовательно выдерживают оппозицию «белое — черное» (свое — чужое): у иноземцев, врагов русской земли, «черные кудри», «груди черные», «шатер чернобархатный». Даже для Сокольника, выросшего на чужбине сына Ильи Муромца, как правило, не делается исключения. Описывая чужеземное царство, иногда подчеркивают, что на пиру присутствуют «турзы мурзы удалые» (№ 21, 271), отмечают бытовые подробности, вызывающие удивление русских:
— У вас э́там-то ле што ле будто чад велик?
Ищэ чад велик, да дым столбом валит? <...>
— Уж варят нам на свадьбу кобылятину,
Ищэ жарят нам на свадьбу жеребятину.
(№ 21, см. также № 272)
Одна из характерных особенностей печорской былинной традиции — обилие в текстах религиозных элементов. Такая же картина наблюдается на Мезени и в Поморье. Отчасти это объясняется постоянными контактами с иноверцами, отчасти — преобладанием среди местного населения раскольников, многие из которых еще в недавние времена отличались особой приверженностью к старине, истовой религиозностью.
Как и в других регионах, этнические противники русских изображаются обычно иноверцами, чаще всего «погаными», т. е. язычниками; для богатырей защита родной земли — это и защита православной веры, «церквей соборных», «монастырей богомольных». Однако в печорских текстах гораздо чаще подчеркивается набожность героев, последовательно проводится противопоставление христиан «неверным». Появляясь в тереме князя Владимира, татарин «Богу не молится и челом не бьет» (№ 101); в свою очередь, русский богатырь, оказавшись в палатах иноземного царя, убеждается, что «Богу молитце у их некому» (т. е. нет икон) — № 119. Расхваливая свое царство, посланец Василия Окуловича говорит жене Соломана:
У нас жити-то добро, дак служить лекко:
У нас среды-то, петничи не постуют
И велики чатверги у нас нечем зовут.
(№ 270: см. также № 275)
В традиционную угрозу вражеского посла или нахвальщика вводятся дополнительные детали:
Я соборны больши церкви да вси на дым спущу, <...>
Я печатны больше книги во грези стопчу,
Чудны образы иконы да на поплав воды.
(№ 196)
Соборны церьквы все — конюшнами.
(№ 75)
Изредка былинные конфликты преподносятся печорскими певцами как столкновения между сторонниками разных ответвлений христианства. Скурла-царь угрожает «православную веру облатынить всю» (№ 199); Садко просит помощи у Миколы Можайского, обещая за это построить церковь и украсить ее «иконами старообрядческими» (№ 255); Дюк Степанович «молится по старой религии» (№ 146).
В печорских, мезенских и поморских былинах гораздо чаще, чем в текстах из других районов бытования русского эпоса, говорится о набожности богатырей, их успехи связываются с помощью небесных сил, а неудачи — с нарушениями церковных запретов. Князь Владимир просит у Калина отсрочки, чтобы «нам покаятца в городи да подладитца» (№ 101); перед поединком с Сокольником Илья Муромец едет в Киев каяться (№ 79); собираясь воссоединить семью, он предлагает Сокольнику крестить его мать (№ 69) и др. Русская полонянка молится Миколе о спасении, и приезд Козарина воспринимается как вмешательство святого (№ 268);
105
по молитве богатыря «с рук-то, с ног у Потапа жалеза обвалилисе, с шеи оковы да окатилисе» (№ 236); мать Волха Всеславьевича ходит «по всем церквям», служит молебны и вымаливает у Бога своему сыну богатырские качества (№ 1). После неудавшейся женитьбы Иван Годинович уезжает в пещеры Богу молиться (№ 180); Михайло Карамышев с сестрой уходят в монастыри замаливать кровосмешение (№ 269); трагическая судьба Дуная трактуется в одном из вариантов как наказание за грехи, «суд от царя и от Бога» (№ 118); даже временную неудачу Ильи Муромца в бою с Сокольником иногда связывают с «грехами тяжкими» (№ 68). В соответствии с общерусской традицией Дюк Степанович приезжает в Киев к началу воскресной обедни и присутствует в церкви во время богослужения. В печорских текстах этот эпизод развернут, короткая стычка («потеснил он на правом крылосе Чурила млада Пленковича» — № 144) и словесная перепалка Дюка с Чурилой становятся своеобразным прологом к их дальнейшему соперничеству. В келье живет сказочная «бабушка-задворенка» (№ 269). Иван Гостиный сын, обязавшийся «меж обедней, меж заутреней» съездить из Киева в Чернигов и обратно, требует у черниговских попов «ерлык, скору грамоту» как доказательство соблюдения условий договора (№ 190).
В одном из вариантов былины «Садко» герой в церкви бьется об заклад, обещая «все товары повыкупить», «на Волхов повывозить» (№ 252). Кстати, в печорской версии этого сюжета антагонистом Садко всегда является «поп, отец духовный», которого купец побеждает с помощью Богородицы или Миколы-угодника. Ситуация парадоксальная: христианские святые выступают против служителя культа, поддерживая его соперника. Не исключено, что также неожиданный поворот сюжетного действия объясняется неприязненным отношением старообрядцев к попам.
Как это ни странно, но в печорских былинах «божьи церкви», «монастыри богомольные» мирно уживаются с «царевыми кабаками»; изображая богатырей защитниками религии и ревнителями христианского благочестия, местные сказители в то же время подчеркивают их пристрастие к вину. «Запьянсливыми», «упадчивыми до зелена вина» оказываются не только Василий Игнатьевич, Михайло Потык, Василий Буслаев, но и другие русские богатыри, не исключая степенного Илью Муромца. Общим местом печорских былин стала формула — призыв к пробуждению «удалых добрых молодцев»:
Аж вам полно-ко спать, да пора ставать,
От великого сну да пробужатисе,
От великой хмелины да просыпатисе.
(№ 68)
Собираясь в дальнюю дорогу, богатырь не забывает запастись бочками-сороковками с «зеленым вином». Особенно выразительны картины буйства захмелевшего богатыря («Илья Муромец и голи кабацкие», «Илья Муромец и Идолище», «Бой Добрыни с Дунаем»), описание кабацкого «житья-бытья» Василия Игнатьевича (см. коммент. к соответствующим сюжетам).
Близкие по духу подробности встречаются и в отдельных вариантах печорских былин; некоторые сказители вводят их в традиционные общерусские формулы. Так, в тексте В. Чупрова Василий Игнатьевич, заключая союз с предводителем вражеского войска, обещает вместе с ним «грометь-шурмовать да стольнёй Киев-град», но особо оговаривает условие:
Оставить только князя со кнегиною,
Оставить же церкви соборныя,
Оставить же царева больши кабаки.
(№ 198)
В былине П. Маркова «Олеша Попович, Еким-паробок и Тугарин» Алеша и Еким-паробок выбирают дорогу в Киев, отказываясь ехать в Суздаль:
Да в Суздале-граде питья много,
Да будёт добрым молодцам испропитисе,
Пройдёт про нас славушка недобрая.
Подхватив брошенный Тугарином нож «с серебряными припоями двенадцать пуд», побратимы «похваляютца»:
106
Здесь у нас дело заежжое,
А хлебы у нас здеся завозныя,
На вине-то пропьём, хоть на калаче проедим.
(№ 115)
***
Таким образом, в печорских былинах обнаруживается немало специфических черт, которые отличают их от текстов, записанных в других районах бытования русского эпоса. Своеобразие региональной былинной традиции проявляется на разных уровнях — в репертуаре, в характере обработок наиболее популярных сюжетов, в использовании устойчивого набора оригинальных поэтических формул, который удачно дополняет общерусский фонд художественно-изобразительных средств. В текстах печорских сказителей отразились и некоторые особенности северно-русского быта, северной природы.
III. История записей и публикации былин Печоры
Честь открытия былинной поэзии на Печоре принадлежит Н. Е. Ончукову. «На Печоре я открыл существование былин, до сих пор там только предполагавшихся»,40 — писал он в 1902 г. А. С. Суворину. Печора поразила Н. Е. Ончукова обилием неожиданно открывшегося ему, неизвестного ранее науке эпического материала. Былинная поэзия жила здесь еще полной жизнью, была органической частью быта местного населения и тем поразительнее было то обстоятельство, что путешественники, побывавшие на Печоре до Н. Е. Ончукова, прошли мимо этого явления. Причины, по которым этот громадный культурный пласт не был замечен, пытался понять и объяснить сам Н. Е. Ончуков: «Если <...> академики Лепехин и Озерецковский и путешественник 40-х гг. XIX в. В. Н. Латкин <...> ездивший на Печору не с этнографическими целями, могли еще не спросить про старины, то уже совсем непонятно, каким образом о старинах не слыхали этнографы — С. В. Максимов и Ф. М. Истомин, и особенно последний, даже сознательно интересовавшийся былинами на Печоре» (Онч., с. XXV). Ф. М. Истомин, сотрудник Географического общества, побывавший на Печоре за десять лет до Н. Е. Ончукова, в письме к А. Н. Пыпину в 1889 году писал о том, что «есть данные предполагать много любопытного — есть даже былины <...> зыряне по Печоре, ничего не знающие по-русски, поют русские песни и даже былины <...> записал образчик тех и других».41 Через год Истомин опять искал былины на Печоре и опять ничего не записал. В отчете о своей последней поездке он писал: «В прошлом <...> году, в кратковременное пребывание мое в Усть-Цильме, я узнал, что там есть несколько знатоков старин, мне назвали их имена, но повидаться с этими крестьянами я не мог за отъездом их на промыслы <...>. Названных в прошлом году знатоков я вторично не застал дома, а расспросы мои о старинах, которые они знают, убедили меня в том, что это не былины, а рассказы и записи об устьцилемской старине <...>. Дальнейшие мои поиски былин не увенчались успехом, тем не менее утверждать, что былин там нет совершенно, я пока не решаюсь: вопрос о том, откуда заимствованы зарянами русские былины, для меня остался пока невыясненным».42 Н. Е. Ончуков предполагал, что Ф. М. Истомин не добился положительных результатов в деле собирания фольклора, и былинной поэзии в частности, только потому, что порочен был его исследовательский метод. Ф. М. Истомин стремился охватить как можно большее число населенных пунктов, а потому практически все его свободное время в условиях глухого и малодоступного печорского края уходило на разъезды. По словам самого Истомина, у него совсем не оставалось времени на более или менее продолжительные остановки, «столь необходимые для полного этнографического
107
исследования края, в особенности для составления значительного собрания памятников народного творчества» (Онч., с. XXV).
Недостаточно успешной была и первая поездка Н. Е. Ончукова на низовую Печору летом 1901 г. Он приехал на Печору поздно, относительно свободное время крестьян (от Пасхи до Петрова дня) уже кончилось, и он успел записать немного — всего семь былин. Повторная, столь плодотворная для Ончукова, поездка весной 1902 г., организованная Русским географическим обществом и вторым отделением Академии наук, планировалась с учетом именно этих обстоятельств. Н. Е. Ончуковым был обследован на этот раз очень большой район: Усть-Цильма и ее окрестности, деревни по Нижней Печоре и по реке Пижме. Общий результат этой поездки чрезвычайно высок — 82 былины (включая варианты и неполные записи сюжетов), 15 духовных стихов, 44 песни и 50 сказок. Успеху несомненно способствовал и усвоенный им от А. Ф. Гильфердинга метод личного подхода исследователя к исполнителям, особенно важный в среде старообрядцев. Метод этот до крайности прост: «обходиться с ними вежливо <...> относиться к их верованиям тем тоном уважения, которым принято в образованном обществе говорить с иноверцем об его религиозных убеждениях» (Онч., с. XXVI).
Былины в начале века были неотъемлемой частью жизни печорцев. Хорошие старинщики высоко ценились на Печоре. Во время осенней ловли рыбы всякая артель стремилась «залучить» хорошего старинщика или сказочника. «В хорошем старинщике на осеновье такая потребность, что старинщики пользуются некоторыми преимуществами в совершенно равноправной артели, где и староста, хлопотами которого артель собирается, а иногда и держится, имеет только нравственное, а не материальное преимущество; старинщики же в артели <...> пользуются и последним. Старинщику, например, не поручают особенно трудную часть работы, и они делают в артели то, что обыкновенно исполняют малолетние и подростки <...> при разделе добычи старинщику, особенно угодившему своими стараниями артели, возможно, что дается и до некоторой степени лучшая часть добычи» (Онч., с. XXIII—XXIV). Старинщика всегда старались угостить получше, «алабыш» особенно жирно мажут маслом, «чтобы голос был звонче и катился маслянее, а старинщик охотнее и лучше пел старины» (Онч., с. XXIV).
Цель, которую поставил перед собой Н. Е. Ончуков, заключалась в том, чтобы «переписать по содержанию все обращающиеся на Печоре былины и по одному разу хотя бы такие, которые уже известны в массе пересказов, записывая малоизвестные и совсем неизвестные в большем количестве разноречий» (Онч., с. XXXIV).
Основная задача Ончукова заключалась, таким образом, в том, чтобы выяснить сюжетный состав былинной поэзии на Печоре. Более частная цель сводилась к выяснению специфики именно печорской былинной традиции — отсюда его пристальное внимание к тем вариантам былин, в которых можно отыскать «эпизоды, штрихи, намеки, каких нет еще в уже существующих сборниках былин» (Онч., с. XXXIV). Такая специфика в передаче многих известных сюжетов, как справедливо предполагал Н. Е. Ончуков, непременно должна была быть вследствие почти полной изолированности печорского края от остальной России.
Ограниченность задач, вполне понятная нам и осознанная самим исследователем, была неизбежной. Один даже такой страстный собиратель, каким был Н. Е. Ончуков, не мог объять необъятное. Ончуков прекрасно понимал вынужденные недостатки своего метода записи, когда даже «у лучших старинщиков» ему приходилось записывать только то, чего у него пока еще не было, хотя бы старины, уже записанные ранее, «эти последние старинщики и знали лучше» (Онч., с. XXXV). Выяснив в основном сюжетный состав печорских былин, Ончуков не смог исчерпать полностью репертуар даже лучших сказителей. Эту задачу постарались выполнить последующие исследователи.
Причинами того, что былины столь полно и хорошо сохранились на Печоре, Н. Е. Ончуков считал, во-первых, удаленность и отрезанность Печоры от всей остальной России и, во-вторых, раскол. «Заброшенная, — по словам Ончукова, — в суровом климате за полярным кругом, недалеко от Ледовитого океана, совершенно в стороне от жизни всей остальной России, Печора до самого последнего времени жила укладом жизни и духовными интересами, по крайней мере, конца XVII в.» (Онч., с. XXI). И тем не менее Ончуков считал, что былинная поэзия здесь несомненно падает и будет падать все больше и больше в связи с постепенным промышленным развитием низовой Печоры. О падении былинной поэзии свидетельствуют личные наблюдения Н. Е. Ончукова: «Есть еще и теперь прекрасные старинщики и старинщицы (Авдотья Чуркина, Анисим Вокуев, Степан Хабаров, Павел Марков), но и они уже отчасти устарели, а отчасти, может быть, не встречая прежнего сочувствия и прежнего спроса на своё искусство, много забыли; Чуркина много уже путает, а две старины спела совсем плохо. О большинстве же нечего и говорить: путают, перевирают, извращают старины сильно» (Онч., с. XXXII).
108
Это, однако, еще не те существенные причины, по которым можно говорить о ближайшем вымирании жанра. Как мы увидим, еще более 30 лет спустя собиратели будут отмечать живое бытование этого жанра на Печоре.
Записанные Н. Е. Ончуковым материалы ни в архиве РАН, ни в РГАЛИ, ни в РГО обнаружить, к сожалению, не удалось, хотя есть, кажется, прямые указания на его возможное местонахождение. В упомянутом уже ранее письме Н. Е. Ончукова к А. С. Суворину имеется фраза о том, что образцы записанных им былин были «переданы В. И. (Ламанским) второму отделению АН и будут напечатаны в „Известиях отделения“». (РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3075). Былины действительно были напечатаны, но их рукописи в фонде В. И. Ламанского нет. В РГАЛИ в фонде 449, оп. 1, № 977 собраны двадцать писем Н. Е. Ончукова к А. И. Соболевскому, но ни в одном из них нет намека на возможное нахождение былин. В РГО хранятся документы тяжбы Н. Е. Ончукова по поводу оплаты за печатанье сборника «Печорские былины» (разр. 110, оп. 1, № 87).
Архив, таким образом, обнаружить не удалось, и мы располагаем только изданными Н. Е. Ончуковым материалами. Семь былин, явившиеся результатом поездки Н. Е. Ончукова на Печору в июне 1901 г., были опубликованы в «Известиях 2-го отделения Императорской Академии Наук».43 Былины, собранные весной — летом 1902 г., вошли в книгу «Печорские былины».44 За этот сборник Н. Е. Ончуков был награжден малой золотой медалью Русского географического общества. А. И. Соболевский высоко оценил труд Ончукова и в отзыве на книгу отметил, что Ончуков был открывателем печорской эпической традиции.45
Н. Е. Ончуков классифицирует записанные им былины строго по волостям, и книга, таким образом, делится на две большие части: «Старины Усть-Цилемской волости» (с подразделениями на Пижемские и Печорские старины) и «Старины Пустозерской волости». Необходимость подобного деления Н. Е. Ончуков обосновывает, с одной стороны, различием в содержании былин по волостям, с другой — разницей в говоре при наличии таких общих черт, как твердое «оканье», «цёканье» и отсутствие мягкого «г». Различие «в содержании одинаковых старин и название старинщиками одной волости старин другой будут вполне понятны, если вспомнить, как населялись эти две рядом лежащие по одной реке волости» (Онч., с. XI). Усть-Цилемская волость заселялась в основном крестьянами — или прямыми новгородцами или их потомками «из только что отошедшей к Москве Двинской земли» (Онч., с. XII), в отличие от Пустозерской волости, центром которой, ее началом был Пустозерский военный острог. Пустозерская волость, по всей вероятности, заселялась «служилыми людьми Московского государства» (Онч., с. XII). Таким образом, как полагал Н. Е. Ончуков, «земля» одной волости и «служилое сословие» другой не могли не отразиться в былинах обеих волостей. «Устьцилем поет старину, уверенный, что все, что в ней изложено; было. Но потомок новгородцев — он не отличает одного царя от другого, а в сущности неясно представляет себе эту власть. Идеалы его в былинах не государственные и политические, а чисто нравственные, общечеловеческие. Совсем не то пустозер. Он твердо знает, что значит царь, и не спутает его ни с кем. Пустозер не запутается и в хронологии: не споет, положим, что Кострюк был в Киеве у Владимира, или что Васька Буслаев жил в Москве. Перед былиной он расскажет предание, а после ее еще что-нибудь дополнит и объяснит <...>. Устьцилем-старообрядец, с головой ушедший в религию, или точнее в мелкое исполнение ее обрядовых предначертаний, совсем не знает даже местную историю раскола, остается как-то безучастен к ней. Но мне попадались старинщики-пустозеры, напр., Павел Марков из Бедовой или Василий Никонов из Нарыги, которые рассказывали об Иване Грозном, как будто царь этот жил лет 30 назад, на их памяти» (Онч., с. XIII—XIV).
Все это звучит достаточно убедительно для признания необходимости расположения всех печорских былин именно по географическому признаку, а внутри этого — деления по сказителям.
В заметке о былинах Н. Е. Ончуков говорит о том, что всякий раз он записывал, как произносилось. «Живое» произношение он пытался сохранить и в публикуемых текстах, не случайно здесь сплошь и рядом отсутствует унификация, и в одной и той же былине могут встретиться разночтения следующего порядка:
109
держишь-доржишь, держишь-держиш, шолковые-шелковые, пошол-пошел, двенадцеть-петнаццетъ и пр. В томе «Печорские былины», изданном Н. Е. Ончуковым, помещена статья В. Чернышева под названием «Заметки о языке „Печорских былин“». В. Чернышев «выписал и сгруппировал примеры особенностей языка <...> чтобы дать первое представление о говоре певцов» (с. XXXVI). Он указал специально, что в «былинах нередки случаи употребления двух разных форм одного и того же слова». Это не следует считать неточностью, т. к. «собиратель былин указывает на подобные варианты, как на сознательный стилистический прием» (с. XXXVII).
И тем не менее Н. Е. Ончуков, готовя к изданию тексты, вносил в них некоторые, иногда значительные, правки. Свидетельством тому могут служить расхождения между публикациями некоторых былин в 1902—1903 и 1904 гг. Анализ (сверка) подтвердил, что мы имеем дело и с фонетическими разночтениями: заменой, например, твердой согласной на мягкую, или наоборот, заменой «ч» на «ц» и др. (пецы-пеци, впредь-впред, Денисьевич-Денисьевиц — № 138, 215, 266), и с морфологическими изменениями полной формы окончания прилагательных на краткую (хрустальняя-хрустальня, зеленыи-зелены), с изменением форм собственных имен существительных типа Данило-Данилко, Васинька-Васька (см. № 215, 266, 278) и пр. Сверка публикаций Ончукова показала и неоднократные перестановки слов в стихе, добавление или, наоборот, отсутствие некоторых слов в одном и том же стихе (№ 215, 260, 266). Примером, где все перечисленные случаи разночтений проявляются наиболее наглядно, может служить «Небылица про льдину» (См. коммент. к Прилож. VI, № 3), сопоставленная по публикациям 1903 и 1904 гг.
Стремясь как можно полнее зафиксировать былинный репертуар печорских сказителей, Н. Е. Ончуков не во всех случаях полностью записывал текст, но при этом всегда делал указание об идентичности данного отрывка ранее уже спетому тем же самым сказителем, иногда же он отсылал читателя к былине другого исполнителя с замечанием, что «дальше идет обычное описание поездки <...> и потому оно не приводится» (Онч., с. 204). Или: начало былины «точно такое же, как и у Игнатия Дуркина, и потому не приводится» (Онч., с. 279) (см. коммент. к былинам № 17, 67, 176, 185, 246, 254, 266). При этом не учитывались ни индивидуальная манера исполнителя, ни диалектные особенности, ни изменения фонетические и морфологические — речь шла только о тождестве содержания указанных отрывков. Так, например, записывая былину «Дунай» от П. Г. Маркова, Н. Е. Ончуков не зафиксировал начало былины, так как, по его мнению, оно идентично началу былины «Дунай», спетой Д. К. Дуркиным. При сопоставлении былин очевидно, что даже «стыковые» стихи пропеты сказителями неодинаково (см. коммент. № 86). Такие отрывки, восстановленные в подстрочнике или комментарии при публикации былин в настоящем издании, лишь в малой степени дают представление о полном тексте былин и об исполнительских особенностях сказителя.
После Н. Е. Ончукова собирательская деятельность на Печоре продолжилась в 20-е годы. Именно в это время были записаны коми-песни «Об Илье и Калине». Это сравнительно близкие к русской былине «Об Илье Муромце» («Илья и Идолище») стихотворные переводы-переложения.46
В 1929 г. на Нижнюю Печору, т. е. именно в те места, где производил в свое время записи былин Н. Е. Ончуков, была направлена комплексная искусствоведческая экспедиция, организованная Государственным Институтом истории искусств. Результат этой экспедиции в области эпического наследия в чисто количественном отношении был достаточно высок — было записано 54 былины от 21 сказителя. Но самое главное, что повторные записи с промежутком более чем в четверть века дали возможность проследить произошедшие сдвиги в репертуаре, выяснить, каким трансформациям подверглись сами былины. В руках исследователя оказался, таким образом, первый материал, позволяющий поставить вопрос об эволюции эпоса в рамках данного региона.
Экспедиция 1929 г. побывала и в районах, где записи производились впервые, — например, в таких деревнях Усть-Цилемского района Печоры, как Коровий ручей и Климовка. Поскольку записанный здесь материал сравнивать было не с чем, то «тщательно собирались и сведения о бытовании былин в прежнее время. В результате были собраны данные о распространении былин и о районных былинных репертуарах» (Аст., I, с. 2). Очень
110
важно, что сотрудникам экспедиции «удалось произвести записи не только от преемников — учеников старых исполнителей», записанных прежде, но и «повторные записи от тех же самых сказителей» (Аст., I, с. 10).
В отличие от Н. Е. Ончукова, который стремился прежде всего выяснить сюжетный состав былин, бытующих на Печоре, экспедиция 1929 г., идущая, с одной стороны, по следам Ончукова, с другой — охватывающая новые районы записи, выявляющая новые былинные очаги, получила возможность расширить свои цели и задачи.
Повторные записи сюжетов, часто произведенные от одних и тех же исполнителей, дали возможность поставить как основную — проблему варианта. Вариант рассматривался «как проявления живой творческой струи, как выражения непрекращающегося творческого развития эпоса» (Аст., I, с. 9). Появилась возможность подойти к изучению всех тех творческих процессов, которые происходили на Печоре на протяжении достаточно длительного времени. Таким образом, вариант становится интересным не только как феномен, содержащий важные моменты, необходимые для установления древнейшей основы сюжета, но и как проявление творческой энергии народных масс, «Отсюда встала задача новых наблюдений, новых собирательских работ, но уже направленных не по линии захвата новых районов, а в сторону повторных записей на местах прежних работ» (Аст., I, с. 9).
Вновь, как неизбежный, встал вопрос и о сохранности эпоса в обследуемом районе.
Экспедиция 1929 г. была свидетелем живого бытования былинной традиции на Печоре. Собиратели отмечали, что былины пелись как во время домашней работы, так и на промыслах. «И сейчас на промыслах, в лесной избушке, между делом, в праздник особенно, старинами, сказками и песнями забавляемся», — рассказывал А. М. Астаховой известный печорский сказитель Еремей Чупров. Сказители лучшие или худшие были в эти годы практически в любой деревне. «Сообщали о сказителях, живших иногда более чем за 100 верст <...> Слово «старина» почти всем известно; также многие, не будучи сказителями, могли назвать имена богатырей и сказать некоторые отрывки былин. Наблюдалось существование «семейных гнезд» былин, когда несколько человек ближайших родственников знали определенные былины и собирались вместе для их исполнения. <...> Иногда былины знали молодые крестьяне и даже подростки» (Аст., I, с. 47).
Но в составе былевого эпоса за промежуток более чем в четверть века произошли определенные изменения. Так, если в 1902 г. на Печоре было записано 50 былинных сюжетов, то в 1929 г. их число сократилось до 28. Уменьшилось и общее число записей — 60 по сравнению с прежними 75.
Весь фольклорный материал экспедиции 1929 г. собран в рукописном отделе ИРЛИ (колл. 6, п. 8). Былинная коллекция А. М. Астаховой состоит из полевых записей былин с заметками о собирателях, о манере индивидуального исполнения, с указанием (в отдельных случаях), от кого данная былина усвоена. Полевые карандашные записи трудно читаемы, пестрят множеством сокращений и добавочных надстрочных конкретных замечаний. Полевая запись текста во многих случаях расходится с перебеленной. Разночтения связаны и с фонетическим оформлением слова (уш-уж, веть-ведь), и с заменой или перестановкой отдельных слов. Так, в былине «Про старого», записанной от П. И. Торопова (№ 44) в стихе 17 — «Ой подносил каликам нонь ой да преюбогим» (тетр. 13, л. 12) слово «нонь» заменено в перебеленном тексте словом «кабы» (тетр. 3, л. 95). В былине «Василий Игнатьев», спетой И. П. Поздеевым (№ 202), в полевой записи читаем: «Пропил Васенька свой тугой лук» (тетр. 9, л. 19 об., стих 1), в перебеленной — «Протегал Васенька свой тугой лук» (тетр. 4, л. 5, стих 1). Встречаются такие серьезные разночтения, как пропуск отдельных стихов, пропуск ремарок или даже целых отрывков — см., например, коммент. к № 69, 70, 73, 122, 134, 203.
Подобные разночтения оказались следствием особой методики работы собирателя. Особенность собирательской работы А. М. Астаховой заключается в том, что целый ряд былин первоначально записывался со слов исполнителя, а при повторном исполнении (как правило, пении) собирателем уже вносились изменения, т. е. вставлялись пропущенные междометия, частицы, пропущенные слова, уточнялись отдельные формы слов типа: проговорил Васька Буслаев — спел Васенька Буслаев и т. п. Целый ряд разночтений вошел в публикации — каждый из таких случаев оговорен специально в комментариях.
Особую сложность представляют так называемые сводные тексты, т. е. тексты, в которых собирателем объединены разновременные по исполнению тексты. Собирателем определена и система условных обозначений: в квадратные скобки заключается текст, записанный при первоначальной словесной передаче, в круглые — при повторном пении. Однако система знаков выдержана не всегда. Так, в полевой записи былины «Про старого», спетой Е. П. Чупровым (см.: № 70, тетр. 10, л. 2 об.), внесены добавления, не отмеченные
111
скобками. Целый отрывок (стихи 13—15) записан вне текста (расположение его рядом с названием былины — над первым стихом — свидетельствует о том, что он был вписан позднее). В перебеленном тексте этот отрывок занял место после стиха 13, а в опубликованном виде в сборнике «Былины Севера» — после стиха 6. В текстах, вошедших в «Былины Севера», система скобок снята вовсе, а в подстрочнике указаны некоторые варианты разночтений.
В I том собрания «Былины Севера» под ред. А. М. Астаховой вошли «наиболее полные художественные варианты», а также варианты, «заключающие какие-либо новые моменты и в общей трактовке сюжета и в передаче отдельных образов и мотивов, вскрывающие черты жизни и развития эпоса на Севере» (Аст., I., с. 3). Было опубликовано 52 текста, записанные от 19 сказителей. О вариантах, которые не включены в издание, сообщается в примечаниях к сюжетам. В данную книгу кроме былин А. М. Астаховой включены и баллады, близкие к былинам. Включение баллад авторы тома аргументируют тем, что на Севере «эти баллады по напевам и исполнению резко отличаются от песен и самими певцами воспринимаются как жанр, родственный былинам» (с. 4).
Весь издаваемый эпический материал расположен в томе по районам (Мезень и Печора), что дает возможность получить представление «о специфике районов в отношении сюжетного состава и о характере местных, областных типов обработок одних и тех же сюжетов» (с. 3). В пределах каждого отдельного района материал, так же как и у Н. Е. Ончукова, расположен по сказителям «для наиболее четкого выделения индивидуальных моментов» (там же).
Составители сборника «Былины Севера» стремились сохранить все морфологические и основные фонетические особенности живой речи.
В отношении фонетики А. М. Астахова считала должным специально оговорить следующие случаи подачи текста: твердое произношение «ж» и «ш» и мягкое «ч» отмечается только в случаях особого усиления твердости или мягкости этих звуков по сравнению с литературной речью. Сохраняются чередования «ч» и «ц», а также колебания произношения в рамках одного и того же текста в окончаниях глаголов (ться, тса, тсе, тца, тця и др.). «Буквой h означается „г“ фрикативное, „а“ — удлинение звука при стяжении (расхаживат), е́ — произношение „е“ вместо обычного в данном случае „ё“. Апостроф (’) обозначает пропуск звука или шопотно-глухое его произношение, ухом не улавливаемое, например, „С’ловьюшко“» (Аст., I, с. 5).
Из особенностей орфографии обращается особое внимание на отказ от дефиса в сочетаниях «Владимир князь», «Киев град» и др. Дефис сохраняется только в случаях несклоняемого собственного имени (например, «в Пучай-реке») и в отдельных случаях объединения.
Знаком ударения подчеркнуто необычное в литературном языке произношение и интонационное выделение исполнителем того или иного слова. В прямые скобки ставится заглавие былины, данное самим составителем. Ремарки исполнителя даются в книге курсивом и заключены в скобки. Прозаический пересказ и формулы перехода, сказанные прозой, выносятся за строку влево.
В первый том собрания «Былины Севера» не вошли тексты, записанные 4 июля 1929 г. от Агафьи Никитичны Хаханзыкской. Ею были спеты две былины — «О Дюке Степановиче» и «Про старого казака Илью Муромца». В примечаниях собирателя сказано, что тексты былин Хаханзыкской сумбурны, сюжет передается сбивчиво, путано, поэтические отрывки включаются в прозаический текст и поются на былинный напев. Проза делится при этом на отдельные неравномерные части. Исполнительница, по словам А. М. Астаховой, слабо владеет чувством ритма, о чем и свидетельствуют записи текстов этих былин со множеством пропусков — от неполных строк до целых былинных отрывков. Пропуски, по всей вероятности, можно объяснить и тем, что А. М. Астахова записывала былины Хаханзыкской в паре с другим собирателем, рукопись которого утрачена. От Хаханзыкской записана также сказка про Тимофея Ивановича, исполненная на былинный напев (п. 8, тетр. 2, л. 68—70).47
При публикации текстов А. М. Астахова считала основной и наиболее верной полевую запись, однако в целом ряде случаев в публикацию попадали места из перебеленного текста, не совпадающие с полевой записью былины. К примеру, переписывая былину «Илья Муромец и Скурлык», спетую Г. В. Поздеевым (см. № 203), А. М. Астахова изменила порядок 30—33 стихов, которые сначала были зафиксированы так:
112
А как ручища как больши граблища,
А как ножища — больши качижища,
Как ле глазища да большие чашища,
Как ле ушища да большие блюдища.
(Тетр. 8, л. 32 об.)
Еще пример. В полевой тетради стих 56 былины «Василий Игнатьев» (см. № 202) читается так: «Со своим со зятем со Киршеком». В перебеленном и опубликованном текстах иначе: «Со своим со зятелком с Киршалком».
Нередки случаи, когда в перебеленной записи оказывался пропуск в стихе на месте нечетко записанного слова или знак вопроса над неясным окончанием. В опубликованном же тексте такие «белые пятна» заполнены. Так, в уже упомянутой былине «Илья Муромец и Скурлык» (№ 203) в полевой записи непроясненными оказались последние слова 25 стиха и второе слово 26 стиха. В перебеленном тексте в этих местах пропуск. Опубликованный же текст имеет полные стихотворные строки:
Тут сидит старой в переднем углу,
Говорит ему таковы слова.
В настоящем издании «Печорских былин» словосочетание «в переднём углу» заключено в квадратные скобки как внесенное при издании, а слово «ему» оставлено как равноправное в стихе, т. к. в полевой записи оно все-таки может быть прочитано.
Подготавливая к печати былины, записанные А. М. Астаховой, составители данного тома ориентировались на полевую запись, с учетом в некоторых спорных случаях перебеленного текста и публикации в «Былинах Севера». Чаще всего это случаи нечеткого написания окончаний и трудночитаемых сокращений слов. Например, в полевой записи былины «Василий Игнатьев» (№ 202) в глаголе «здоровается» совсем не прочитывается окончание, в перебеленном же тексте читаем «здороваетця», — это написание глагола сохраняется в публикуемом в данном томе тексте. В комментариях же к текстам указываются все подобные случаи разночтений. Былины № 42, 120, 121, 156, 171, 187 публикуются по полевой записи (спетый вариант). В полевой и перебеленной тетрадях А. М. Астаховой они представлены как сводные тексты (рассказанные и спетые) со множеством знаков, указывающих на различное происхождение стихов. В комментариях к этим былинам даются разночтения таких сводных записей.
В 1930 г. «Научно-этнографическое общество при Пермском государственном университете» (реорганизованный тогда же «Кружок по изучению Северного края при Пермском университете») осуществило, в частности, поездку членов Общества Г. И. Маркова и В. Н. Серебренникова на Печору «для обследования состояния эпической традиции и поисков следов связи с Сборником Кирши Данилова. Г. И. Маркову, несмотря на крайне неблагоприятные условия, удалось одному проехать всю Печору от Якшинской пристани до устья и вернуться в Пермь через Ледовитый океан и Архангельск — по Северной Двине через Котлас. Материал экспедиции еще не опубликован. Следует заметить, что Маркову удалось встретиться с рядом былинщиков, певших старины Н. Е. Ончукову. Вместе с тем еще раз подтвердилось наличие в печорской традиции сильной сатирической (антиклерикальной) и пародийно-эротической струи. Это весьма существенное свидетельство подтверждает несомненную зависимость, связь Сборника Кирши Данилова с пермско-печорской эпической традицией».48
В сентябре 1936 г. в Нижнепечорском крае собирал фольклор Н. П. Леонтьев. В декабре этого же года он записывал знаменитых печорских сказителей, собравшихся на первую в истории ненецкого округа олимпиаду самодеятельного искусства. «Олимпиада, — вспоминал впоследствии Н. П. Леонтьев, — продолжалась целую
113
неделю, и все эти дни я почти непрерывно беседовал со знатоками народного творчества, записывая сохраненные ими творения».49
В 1936 г. Н. П. Леонтьев отметил живое бытование эпоса на Печоре. Он встретил «около десятка лиц, знающих былины», и записал 36 текстов былин. Через год Н. П. Леонтьев вновь побывал на Печоре, теперь уже в ее верховьях. Экспедиция длилась три месяца. И опять, год спустя, Леонтьев констатировал факт, что «былины и исторические песни были само собой разумеющимся и необходимым элементом быта, мало того — составной частью бытия печорцев» (Л., 1979, с. 7).
В 1938 и 1940 гг. Н. П. Леонтьев в деревнях Лабожское, пос. Красное, д. Смекаловка, д. Голубково, с. Троицко-Печорское записал более 30 былин и сводный рассказ об Илье Муромце.
Проходит совсем немного времени, и в 1944, 1949—1951 гг., и в более позднее время, в 1962—1963 гг., Н. П. Леонтьев вынужден был с сожалением отметить «почти полное исчезновение былинного эпоса» (там же).
Основной фонд записей Н. П. Леонтьева хранится в РГАЛИ (ф. 1485, оп. 1), меньшая часть, в том числе и сводный прозаический рассказ об Илье Муромце, записанный от Бажукова А. М. (около 2-х печатных листов): «Исцеление Ильи Муромца», «Первый шаг у Ильи на белый свет», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Святогор», «Илья и Идолище», «Илья и Сокольник, сын Сокольницы», «Илья в ссоре с Владимиром», «Илья и Калин-царь», «Илья Муромец и Жидовин», «Илья и Батый-царь», — в архиве собирателя, переданном в ИРЛИ (колл. 276). Все сюжеты сводной былины изложены последовательно и в основном связаны друг с другом предложениями — «переходами» типа «Потом Илья сказал отцу» (начало сюжета «Первый шаг у Ильи на белый свет»), «А в это время приехал на сорока кораблях из Золотой Орды царь Батый сын Батыевич» (начало сюжета «Илья и Батый-царь») и т. д.
Машинописные копии подготовленных для публикации в 1939 г. текстов хранятся в РГАЛИ вместе с рукописями этих былин (ф. 1485).
В 1979 г. эти былины и часть ранее не публиковавшихся (еще 11 текстов) из собрания Леонтьева, хранившихся в РГАЛИ и архиве собирателя, опубликованы в сборнике «Печорские былины и песни» (Архангельск, 1979 г.).
В публикуемом томе «Былины Печоры» кроме уже известных ранее былин из собрания Н. П. Леонтьева впервые публикуется прозаический пересказ «Про смерть Святогорову», записанный Н. П. Леонтьевым 2 июля 1938 г. от Тайбарейского В. П. (хранится в архиве ИРЛИ, колл. 276).
При сопоставлении хранящихся в архиве рукописей (РГАЛИ, ИРЛИ) с опубликованными в 1939 и 1979 гг. текстами наблюдается целый ряд текстологических несоответствий.
Прежде всего в сборниках 1939 и 1979 гг. бросается в глаза стремление приблизить язык былин к литературным нормам. Это проявляется в следующем:
1) множественные случаи фонетических замен, в том числе шипящих и «ж», «з»: государь (вм. осударь), дождю (вм. дожжу), приказчик (вм. прикащик); татарин (вм. татарин), умильный (вм. умыльный), жеребятину (вм. жеребетину), парадное (вм. паратное), чару (вм. цяру), одних (вм. одных) и т. д.;
2) замена диалектных слов литературными: млад (вм. блад), еще (вм. ешшо), так (вм. дак), её (вм. ейный), говорит (вм. грит), нахлестат (вм. наклескал), бурзамецкое (вм. бусормецкое), сбруя (вм. сбруня), снаряжать (вм. суряжать), покаркивать (вм. покуркивать), клирос (вм. крылос), замутило (вм. зашавило), нагнал (вм. нагонил), увертливый (вм. уверчивой), в охапочку (вм. во мятоцьку), не дают (вм. не дават) и т. д.;
3) восстановление непроизносимых звуков: почестен (вм. почесен), счастлива (вм. шчаслива), перекрестница (вм. перекресница), сердце (вм. серцо), червлен (вм. черлен) и т. д.;
4) замена бесприставочных форм: встал (вм. стал), встречает (вм. стречат), вскочил (вм. скочил), взвыл (вм. звыл) и т. д.;
114
5) замена краткой формы прилагательных и глаголов: русские (вм. руськи), кровавая дорога поперечная (вм. кровава дорога поперечна), последняя птица (вм. последня птица) и т. д.; раздумывает (вм. раздумыват), натягивает (вм. натегиват) и т. д.;
6) замена глагольных форм тся-ться вместо тца: зачинается (вм. зачинаетца); ся вместо се: миновалося (вм. миновалосе); ся вместо са: проснулся (вм. проснулса);
7) изменение падежных окончаний существительных: Именительный падеж — безвременьице (вм. безвременьицо); Дательный падеж — к матушке, к Илье (вм. к матушки, к Ильи); Творительный падеж — улицей (вм. улицой); Предложный падеж — в городе, на поле (вм. в городи, на поли) и т. д.;
8) изменение падежных окончаний прилагательных: Именительный падеж — лютый мороз (вм. лютой мороз); Родительный падеж — лошадиной (вм. лошадиноей), малоезжей (вм. малоезжеей); Творительный падеж — великими (вм. великима);
9) замена падежных окончаний числительных: трое суточек (вм. трои суточки), третий раз (вм. третьей раз) и т. д.;
10) изменение падежных окончаний местоимений: Винительный падеж — ее (вм. ей — вынес ей);
11) замена уменьшительно-ласкательного суффикса: «иньк» на «еньк»: Олешенька (вм. Олешинька); ранешенько (вм. ранешинько), понизешенько (вм. понизешинько) и т. д.;
12) замена ударных гласных: натягивает (вм. натегывает), поддерживает (вм. поддярживат) и т. д.;
13) замена предлогов в (вм. во).
Кроме этого, наблюдаются множественные случаи расстановки ударений и «ё» в словах, не обозначенные в рукописях, и пропуск отдельных стихов и целых отрывков.
Следует отметить, что в сборнике 1979 г. случаев текстологических несоответствий с оригиналами значительно больше, чем в публикации 1939 г. Во многих текстах допущена дополнительная правка, еще более приближающая язык былин к нормам литературного правописания и произношения. Наблюдаются, кроме того, многочисленные случаи пропуска отдельных стихов и случаи преднамеренного сокращения текста за счет повторяющихся мест (например, опущен отрывок в 57 стихов в былине «Первая поездка Ильи Муромца» с примечанием, что он идентичен предыдущему — см. коммент. к № 46).
В сборнике 1979 г. наблюдается и другая крайность при подаче отдельных былин: стилизация языка «под старину» путем добавления повторяющихся предлогов и частиц (то, да), путем привнесения диалектного оттенка, изменения окончаний различных частей речи (трои суточки, бояра толстобрюхие, сбруи лошадиноей), и замены гласной в корне слова (отдоху, Владимер), множественные случаи постановки в словах ненормативных ударений, отсутствующих в рукописном тексте (за беду стало́, во чисто́м поле́ и т. д.).
Справедливости ради следует сказать, что в былинах, опубликованных в 1979 г., сделаны и некоторые правки, приближающие текст к рукописному (имеются в виду 11 былин, опубликованных и в 1939 г.), но полного соответствия с архивной записью нет, так как в этих же былинах встречаются многочисленные указанные выше привнесения.
Такое сочетание достоверности подачи текста с преднамеренным «олитературиванием» и языковой стилизацией делает текст чрезвычайно разнородным и пестрым и дает основания считать публикацию былинных текстов в 1979 г., как, впрочем, и 1939 г., ненаучной.
Летом 1942 г. Карело-финский государственный университет под руководством В. Г. Базанова провел фольклорную экспедицию на Среднюю Печору. Был обследован Усть-Цилемский район Коми АССР (селения, расположенные по среднему течению Печоры и ее притокам Пижме и Цильме). Экспедиции «удалось открыть интересных сказителей и записать былины в деревнях, расположенных севернее Усть-Цильмы, — Уеге, Хабарихе, Верхнем и Среднем Бугаево, обойденных в работе экспедиции 1929 г. Кроме того, были обследованы новые селения, расположенные по р. Цильме, левому притоку Печоры, где еще ни разу не проводились записи фольклора» (Баз., с. 11 — коммент.). Итогом этой экспедиции были записи 36 былин, 70 сказок, 120 плачей-сказов и большое количество лирических песен.
Былины, записанные в 1942 г., хранятся в Архиве Коми филиала РАН в Сыктывкаре (ф. 1, оп. 2). Коллекция представляет собой два фонда: фонд Н. К. Митропольской (машинописные копии былин — единица хранения 61, листы 1—120) и фонд В. Г. Базанова (машинописные копии былин, копии комментариев, содержание
115
тома, алфавитный список сюжетов и рукопись предисловия к комментарию — ед. хр. 44, фонд В. Г. Базанова, л. 1—198).
В коллекции Митропольской отсутствуют былины Е. Г. Мяндиной и М. И. Чупрова (всего шесть былин).
Коллекция В. Г. Базанова содержит весь былинный материал 1942 года, вошедший в сборник «Былины Печоры и Зимнего берега». (М.; Л., 1961). Тексты в этом экземпляре носят следы черновых правок следующего характера: во множестве расставлены ударения, «ё», знаки препинания, а также встречаются грамматические и фонетические правки, соответствующие публикации 1961 г.
Записи экспедиции 1942 г. послужили материалом, на основе которого родилась книга В. Г. Базанова «Поэзия Печоры», изданная в Сыктывкаре в 1943 г.
Экспедиция ИРЛИ АН СССР на Среднюю Печору, организованная в 1955 г., побывала в тех же местах, что и экспедиция 1942 г. Но «в отличие от собирательских работ 1942 г. сотрудники экспедиции 1955 г. не спускались по Печоре ниже Усть-Цильмы, но зато обследовали подряд все селения по реке Пижме, начиная с самых верховьев до устья (д. Скитскую, Степановскую, Никоновскую, Чуркину, Загривочную, Замежное, Абрамовскую, Боровскую). Таким образом, обе экспедиции на Среднюю Печору как бы дополняют друг друга» (БП, с. 21).
Экспедиция 1955 г. отметила затухание былинной традиции на Печоре. Былина уходила из живого бытования печорцев — отсюда и то сравнительно небольшое число записей былин, которое удалось сделать сотрудникам экспедиции (записано 15 полных текстов от 7 сказителей и 12 фрагментов былин). На Пижме, как отмечают собиратели, «многие жители <...> могли напеть отдельные отрывки, вспоминали отдельные стихи и строфы, говорили о героях былин как об общеизвестных персонажах» (БП., с. 22). Число фрагментов, по словам участников экспедиции, могло быть записано в значительно большем количестве.
Сотрудники ИРЛИ побывали на Печоре и на следующий год — в 1956 г., но уже в ее низовьях. Задача этой экспедиции заключалась в обследовании мест, где уже ранее производились записи былин, а также мест записи, пропущенных прежними собирателями.
Материалы экспедиции 1942, 1955 и 1956 г. были включены в издание «Былины Печоры и Зимнего берега» (М.; Л., 1961), подготовленное ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР.
Весь печорский эпический материал расположен в этом сборнике по районам: Усть-Цилемский (охватывает записи 1942 и 1955 гг.) и Нарьян-Марский, где производились записи былин в 1956 г. Внутри районов тексты классифицируются по исполнителям. Так же как и в книге «Былины Севера», здесь помимо былин печатаются баллады («Князь Долгорукий и ключник», «Молодец и горе» и некоторые другие).
В отличие от сборника «Былины Севера», изданного А. М. Астаховой, в томе «Былины Печоры и Зимнего берега» тексты былин более унифицированы, что не вполне соответствует подлинной записи. Имеются серьезные разночтения между одними и теми же текстами былин, напечатанными сначала в «Русском фольклоре» (т. II, М.; Л., 1957), а затем в сборнике «Былины Печоры и Зимнего берега». (Подробно о характере разночтений см. в коммент.)
Специально следует оговорить, что издатели в отличие от А. М. Астаховой придерживались следующих принципов подачи текста: в сочетаниях «Киев-град», «Владимир-князь» дефис сохраняется; знак, показывающий удлинение звука при стяжении, не ставится; «г» во всех случаях заменяет «г» фрикативное, твердое «ш» передается как «шш» (ишше).
Фольклорный материал, записанный в экспедициях 1955—1956 гг., хранится в рукописном отделе сектора фольклора ИРЛИ (Р. V, колл. 160) в виде машинописных копий (2-й экземпляр), вычитанных и выправленных Н. П. Колпаковой.
Построчное сличение архивного и опубликованного материала привело к выводу о значительном расхождении между собой этого материала.50 По сравнению с машинописью тексты былин, изданные в книге «Былины Печоры и Зимнего берега», пестрят множеством дополнительных ударений. Неоднократно встречается перестановка слов, пропуск целых стихов в печатных текстах, а также случаи смысловых замен типа: сине полюшко (машинопись) —
116
чисто полюшко (БП); пятьсот верст — семьсот верст; вот и стал им читать да старик грамоту — вот и стал тогда старой их спрашивать; ты сойди-ко-се, мое чадо милое — ты сойди-ко-се со добра коня бы на землю; на почестен пир — на пир к князю Владимиру и др.
Многочисленны случаи пропусков, замен или дополнительной подстановки местоимений, частиц или предлогов: хозяин-то (машинопись) — хозяин ли (БП); мне-ка — мне ли; да вот — ведь; еще — всё; ведь — верно; тут детина — детина; во во чистом поле — во чистом поле; он — жо; да — же; звать да к — звать к и т. д. Могут быть отмечены также случаи замен краткой в опубликованных текстах былин формы существительных, прилагательных или глаголов на полную или же наоборот, когда полная форма переходит в краткую. Например, в машинописи — ягодам, в печатном тексте — ягодами; первую — перву; быстру — быструю; хватает — хватат. Наречия в опубликованных вариантах заменяют иногда прилагательные: плечи сильные (машинопись) — плечи сильно (БП); в глаголах добавляются или изменяются приставки: не езживал (машинопись) — не проезживал (БП); разорвал — возорвал; раскипелась — закипелась.
Литературное окончание возвратной формы глагола, отмеченное в машинописи, сплошь и рядом в печатном варианте изменяется на диалектное — состарился (машинопись) — состарилсе (БП); спросился — спросилсе и т. п. Встречаются и обратные случаи, когда диалектная огласовка, зафиксированная в машинописи, в опубликованном тексте звучит как литературная норма: родимоей (машинопись) — родимой (БП); Муровец — Муромец и т. п. «Чоканье», встречающееся в машинописи, заменяется на «цоканье» в печатном тексте (копейча — копейца).
В 1963 и 1964 гг. в селе Усть-Цильма и в Усть-Цилемском районе (д. Тельвиска, Боровая, Трусово) записывал былины Д. М. Балашов. Летом 1963 г. им был записан от Г. В. Вокуева полный канонический вариант былины «Дюк Степанович» с ремарками исполнителя, который был опубликован в 1971 г. в «Русском фольклоре».51 Зимой 1964 г. Д. М. Балашовым были записаны еще девять былин: «Добрыня и Алеша», «Илья Муромец и Сокольник» (3 варианта), «Василий Буслаев», «Бутман» (2 варианта), «Чурило и жена Пермяты», «Ставёр Годинович» — и одна старина-небылица («Как сказать-то были вам седни про старое»). Магнитофонные записи этих былин хранятся в архиве Петрозаводского Института языка и литературы Карельского филиала РАН (ПИЯЛИ, колл. 3). В фонотеке ПИЯЛИ находится также запись Д. М. Балашова и В. Бильчинского былин «О Дюке Степановиче» (колл. 310, № 1), «О князе Владимире» (колл. 305, № 13), «Про Василия Турецкого» (колл. 309, № 8).
Машинописные копии былин, записанных в 1964 г., хранятся в ИРЛИ (колл. 172), копии фонозаписей — в фонограммархиве ИРЛИ (ФА МФ 769—770; ФВ 598, 655, 656).
Былина «Три поездки Ильи», записанная от В. И. Лагеева в Усть-Цильме, имеется только в магнитофонной записи ПИЯЛИ (колл. 3, № 506 и ИРЛИ, ФА., МФ 769.01). Четыре былины («Исцеление Ильи и Илья побеждает Соловья-разбойника», «О князе Владимире», «Про Василия Турецкого», «Василий Игнатьевич») хранится в фонотеке ПИЯЛИ (КЗ. 501/1, 509/6; 512/1; 513/1).
Студенческие экспедиции Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова работали в Усть-Цилемском районе в 1978 и 1980 гг. Руководил студенческой фольклорной практикой Ф. М. Селиванов. Экспедиции лишь отчасти шли по следам прежних собирателей: в деревнях Скитская и Боровская, вслед за Н. П. Колпаковой, записывали былины студенты; в деревнях Боровская и Трусовская в 1964 г. работал Д. М. Балашов; в тех же деревнях записали от Л. Г. Чупрова и П. Н. Рочевой несколько отрывков былин и студенты.
Участникам экспедиции МГУ удалось записать былины от 28 исполнителей. Кроме трех указанных выше деревень они вновь обследовали еще 11 населенных пунктов: Верхнее и Среднее Бугаево, д. Замежное, Загривочное, Уег, Филипповская, Егорковская, Медвежка, Новый Бор, хутор Алехино и д. Картушевка.
Качество записей экспедиций 1978, 1980 гг. разное. Помимо большого числа записанных отрывков былин встречаются и достаточно полные тексты. Так, например, былина «Про Чурилу», записанная от П. Н. Рочевой,
117
содержит 53 стиха, былина «Илья Муромец и Сокольник», спетая С. А. Носовым, насчитывает 120 стихов, а былина «О Василии Буслаеве», записанная от И. Е. Носова, содержит 131 стих. Следует отметить, что среди материалов этих экспедиций много достаточно подробных прозаических пересказов типа «Исцеление Ильи Муромца», записанного от М. Ф. Кирилловой (см. № 56), или былины «Илья и Соловей», рассказанной С. А. Носовым (см. Прилож. I, № 14). Среди студенческих материалов встречаются записи, где проза вклинивается в пропетый текст, но подавляющее большинство записей представляет собой краткие прозаические пересказы, передающие только главную мысль былины. Как правило, исполнители смутно вспоминают детали сюжета, отсюда и множество отступлений и добавлений от себя в пересказе: «Отец-мать пошли чего-то расчищать, каку-то чищенку» («Про Илью Муромца», записано от Ф. Ф. Мяндина — см. Прилож. I, № 8). Или, перечисляя героев, исполнитель говорит: «А их трое было. <...> Это Святослав, Илья и третьего я забыла, как звать его» («Илья Муромец и Святослав», записано от М. Ф. Кирилловой — см. Прилож. I, № 3). Часто пересказ былины превращается в рассуждение исполнителя о событии, о котором он рассказывает, дается своя, не традиционная характеристика героев. Типичен в этом отношении пересказ былины «Илья и Сокольник». Заканчивая краткий пересказ сюжета, Л. С. Чупров добавляет: «Что такое любов отця к сыну — понимаешь — нет? <...> Отець в сто раз всегда любит сына, а сын... хуже любит отця. Так — нет? Правильно говорю я?» (см. Прилож. I, № 19).
Среди записей московской экспедиции много схематических упоминаний о героях, которые нельзя назвать даже переложением сюжета, но основное качество героя тем не менее не забыто: «Бутман был богатырь. Тот что-то по кабакам ходил да по кабакам ходил, всё похвалялся что-то. Вот царь запретил ему пить. После он заслужил, царя где-то спас, что ли, и царь разрешил ему пить-то. Стал он ходить во царев кабак. Там он чарами пил, да не стаканами, а бочками да сороковочками откатывал» («Бутман»; записано от В. П. Чупрова. — Прилож. I, № 30).
Материалы последних экспедиций говорят о том, что в целом былины как жанр уже забыты. Очень многие исполнители, с трудом припоминая сюжет, ссылаются на отца, дядю и т. п., от которых они слышали когда-то былину, но теперь многое уже забыли: «Потом узнали, что это Чурила. И вот он... (Вот как тут уж теперь все забылось)» («Про Чурилу» — см. Прилож. I, № 32). Припоминание этой былины исполнитель начинает словами: «Что там. Ничего, пожалуй, тебе не скажу. Надо придумать еще сначала, что оно было там да как. Тогда только» (Прилож. I, № 32). Переложение былины «Илья и Соловей», как, впрочем, и многие другие, прерывается ремарками тира «И как-то еще там. Ну, все это старина поется. Но только уж я не припомню всего: много было» (см. Прилож. I, № 14).
Забывая детали сюжета, исполнители тем не менее стремятся следовать традиции в исполнении. Вот несколько характерных примеров. Излагая былину (в прозе) «Добрыня и Алеша Попович», исполнитель начал путать детали: «Вот что он будто бы женился <...> Ну-ка же стой, стой. Добрыня ли Алеша? Который из них? Путать-то ведь нельзя. Надо, чтобы точно знать, а я не знаю точно-то» (см. Прилож. I, № 6).
Бо́льшая часть сюжетов излагается прозой, но сохранились воспоминания о другой форме исполнения: «Это просто рассказ такой был. Он еще будто в рифму несколько был» (см. Прилож. I, № 12).
В сознании некоторых исполнителей былина превращается в сказку, чему способствует забвение стихотворной формы исполнения этого фольклорного жанра. Пересказ былины об Илье Муромце начинается со сказочной формы: «Жили-были мужик да баба. У них был сын» (№ 57).
Многочисленные краткие былинные прозаические пересказы, полузабытые отрывки песенных эпических форм, записанные в последние годы, а также сводные былинные тексты Бажукова и Хаханзыкской, помещенные в разделе «Приложения», — свидетельство явного угасания жанра.
IV. Небылинный печорский фольклор
Печорские былины, теснейшим образом связанные с другими жанрами народного творчества, составляют с ними единую фольклорную традицию. Совершенно естественно, что долгий эволюционный путь былин от расцвета до полного угасания проходит на фоне эволюции баллад, исторических, лирических и хороводных песен, духовных
118
стихов, сказок, преданий. Поэтому характеристика печорских былин будет неполной без анализа данных о жизни местного устного народного творчества в целом.
Как и другие районы Русского Севера, бассейн Печоры первоначально привлекал фольклористов в первую очередь как сокровищница богатырского эпоса. Неслучайно, что среди материалов, записанных первым собирателем печорского фольклора Н. Е. Ончуковым, кроме былин имеется лишь незначительное количество сказок, духовных стихов, исторических песен и святочных обходных (виноградий и колядок), входивших в репертуар былинщиков. Только экспедиция Государственного института истории искусств 1929 г. впервые собрала разнообразнейший материал, свидетельствующий о богатой фольклорной традиции этого края.52 Писатель Н. П. Леонтьев, работавший здесь в 30-е г., также стремился записать все жанры печорского фольклора (Л., 1939; Л., 1979). Экспедиция Карело-финского государственного университета в 1942 г. записывала былины, плачи, песни, сказки.53 В последующие годы экспедиции, направляемые в районы Печоры, занимались главным образом собиранием былин и песен. Так, целью экспедиции сектора народнопоэтического творчества ИРЛИ в 1955 и 1956 гг. было сравнение былинного и песенного репертуара Средней и Нижней Печоры и сопоставление его с записями 1929 г. в тех же селах и деревнях.54 Песенный материал привлекает внимание фольклористов-музыковедов, неоднократно побывавших здесь в 50—70-е гг.55 Экспедиции кафедры русского устного народного творчества Московского государственного университета 1978 и 1980 годов стремились выяснить судьбы практически всех традиционных жанров регионального фольклора.56 С конца 70-х гг. к собирательской работе на Печоре приступил филологический факультет Сыктывкарского государственного университета, проводящий здесь ежегодную фольклорную практику.
Весь этот большой экспедиционный материал позволяет проследить эволюцию печорской фольклорной традиции в достаточно широком временном диапазоне от 20-х до 80-х гг. нашего века.
Три фольклорных жанра наиболее близки сказителям былин: исторические песни, духовные стихи и сказки. Самыми неоднородными из них были исторические песни. Прежде всего следует выделить стилистически примыкающие к былинам старшие исторические песни о Кострюке, о гневе Ивана Грозного на сына и о Скопине. Эти песни, некогда перенесенные вместе с былинами на Север, благодаря необычайно сильному местному интересу к героическому прошлому родины вошли в репертуар былинщиков, что повлекло за собой переработку песен «в соответствии с приемами былинной поэтики».57 За счет типичных для былин повторов и общих былинных мест песни значительно увеличились в объеме. Сам исторический герой (Скопин) подчас переносился из своей эпохи в эпический Киев и становился одним из богатырей князя Владимира. Благодаря этим изменениям исторические песни не выделялись исполнителями из числа былин и также назывались «старинами».
Подобно былинам старшие исторические песни на Печоре обладали специфическими особенностями, выделяющими их из других северных регионов. Среди этих особенностей В. К. Соколова отмечает усиление внимания исполнителей прежде всего к бытовым эпизодам, обычно максимально детализированным. Примерами служат сцена отравления Скопина, превратившаяся из акта убийства молодого полководца его врагами в акт возмездия оскорбленной одним из пирующих богатырей женщины, а также подробное описание свадьбы Ивана Грозного («Кострюк»).
119
Эти песни, как и многие былины, уже ушли из репертуара печорских исполнителей, но если песни о Кострюке и Скопине бытовали в XX в. во множестве вариантов на протяжении более 50 лет, начиная от записей Н. Е. Ончукова и до экспедиции ИРЛИ 1955—1956 гг., то песня о гневе Ивана Грозного на сына обнаруженная Н. Е. Ончуковым на Средней и Нижней Печоре, в дальнейшем фольклористам здесь не встречалась.
Другие песни о событиях до XVII в.: «Мать встречает дочь в татарском плену»,58 «Молодец зовет девушку в Казань», «Сынок Степана Разина», «Разин под Астраханью», имеющие ярко выраженный балладный характер, сохранились до наших дней.59 Причем особенно популярны песня «Молодец зовет девушку в Казань» и две песни разинского цикла, не типичные, по мнению В. К. Соколовой, для Печоры. Бесспорно, что основной фонд исторических песен не был постоянно стабильным. Уходили одни песни, на смену им приходили другие. Однако определение точных хронологических рамок этого процесса очень затруднено и может привести к неточным выводам. Так, В. К. Соколова считает, что экспедиции ИРЛИ на Печору в 1955—1956 гг. обнаружили песни разинского цикла — «Мать встречает дочь в татарском плену» и некоторые другие, которые до сих пор здесь не встречались. Однако песня о сынке Степана Разина записана еще Н. Е. Ончуковым, а остальные — экспедицией ГИИ в 1929 г. и Н. П. Леонтьевым. Все эти песни, уже не отождествляемые исполнителями со старинами, тем не менее считались старыми, «досельными», так же как и песни XVIII—XIX вв. Последние, возникнув и бытуя в солдатской среде, вошли в репертуар былинщиков начала — середины XX вв. от прежних поколений исполнителей. Перечислим сначала песни из сборника Н. Е. Ончукова, известные в одном-двух вариантах: «Корабельщики бранят князя Гагарина», «Чернышев в плену»,60 «Наполеон в Москве», «Солдат оплакивает Александра I», «Царя требуют в сенат». Другие песни во множестве вариантов фиксируются собирателями до сих пор: «Солдаты судят Долгорукова», «Платов в гостях у французов», «Смерть Александра I». В то же время ушли из печорского фольклора солдатские маршевые песни второй половины XIX — начала XX вв., примыкающие к историческим. Когда-то их знали старики былинщики — бывшие солдаты: «Турки похваляются разбить русские войска» «Поле чистое турецкое»), «Поход под Варшаву» («Ночи темные, тучи грозные»), «На возморье мы стояли» и т. д.
Кроме перечисленных песен, в которых, подобно историческим, рассказывается о каких-то событиях, имевших место в действительности, и упоминаются исторические персонажи, в солдатской среде был популярен особый круг старых протяжных лирических песен. Некогда перенесенные в печорские деревни эти песни в 50-е гг. были известны в основном только старшему поколению исполнителей. Большинство солдатских песен уже ушло из печорского репертуара («Со Буянова да славна острова», «Вниз по матушке да по Неве-реке», «Уж вы горы ле, да горы Воробьевские» и т. д.), другие обнаружены экспедициями МГУ в 1978 и 1980 гг. («В Питер-Москву да проезжали», «Уж мы сядемте, да ребятушка, во единой круг», «Ой за Невагою» и т. д.). Также забыты и рекрутские песни, но не все. В 1978 и 1980 гг. во многих деревнях были записаны: «Из палаты-то было белокаменной», «По дорожечке».
Иногда значительную обработку в среде былинщиков претерпевали, подобно старым историческим песням, старинные классические баллады, которые в результате этой переработки не выделялись исполнителями из числа былин. Например, П. Р. Поздеев, один из информаторов Н. Е. Ончукова, перенес действие баллады «Князь Долгорукий и ключник» в Киев эпохи Владимира и называл эту песню «стариной» (Онч., с. 78).61 Также ста́риной считал балладу «Горе» другой информатор Н. Е. Ончукова — С. А. Безумов. Этой же точки
120
зрения придерживался сам собиратель.62 Но все-таки в большинстве случаев исполнители называли баллады «стихами», сознательно отделяя их от былин. Да и сама старинная баллада «Князь Долгорукий и ключник», уже во времена Н. Е. Ончукова сосуществовавшая со сравнительно поздней литературной балладой «Ванька-ключник», затем была полностью вытеснена последней.
За исключением упомянутых песен, а также незначительного количества других текстов, традиционные баллады до сих пор популярны на Печоре,63 хотя они обычно короче, менее художественны, чем предшествующие записи. Вместе с тем распространена в печорских деревнях поздняя баллада, бытующая наряду с романсами и песнями литературного происхождения.
Среди всех фольклорных жанров наиболее характерны для региона жанры песенные. Во вступительной статье к сборнику «Песни Печоры» дана подробнейшая характеристика протяжных и частых лирических, игровых, величальных песен, а также свадебных и календарных. Стремясь проследить исторические судьбы печорского песенного фольклора, Н. П. Колпакова сопоставляет записи 1929 и 1955—1956 гг., анализирует репертуар населенных пунктов, расположенных в среднем течении (Усть-Цилемский район Коми АССР) и в нижнем течении Печоры (Нарьян-Марский район Ненецкого национального округа Архангельской области). При этом исследователь выделяет три микрорайона: деревни и села по береговой линии Печоры, по рекам Цильме и Пижме. Еще Н. Е. Ончуков отметил, что пижемские певцы знамениты своим искусством по всей Печоре. Сравнительное изучение материалов 1929 и 1955—1956 гг. привело к выводу, что жители Пижмы «до сих пор славятся как лучшие певцы в районе и репертуар их богаче репертуара устьцилемов. Район же реки Цильмы в песенном отношении беднее не только Пижмы, с которой жители Цильмы общаются сравнительно редко, от случая к случаю, но и Усть-Цильмы».64 Относительно репертуара Средней и Нижней Печоры Н. П. Колпакова считает, что «как правило, устьцилемы не знают репертуара нижнепечорцев и только в верховьях Пижмы (в деревне Скитской и ближайших к ней селениях, основанных когда-то старообрядцами) встречаются песни, общие с репертуаром деревень нижнепечорской московской колонизации».65
Сверка репертуара, записанного в тех же деревнях, привела Н. П. Колпакову к выводу о высокой степени устойчивости печорской фольклорной традиции. Исчезли и забылись главным образом те песни, которые «прежде были известны не всему населению, а только отдельным старикам и умерли вместе с ними».66
В целом, по мнению Н. П. Колпаковой, печорские песни являются общерусскими, но в данном регионе преобладают тексты более художественные и полные, кроме того, здесь немало песен редких и даже не зафиксированных в других районах.
Материалы экспедиций МГУ 1978, 1980 гг. и Сыктывкарского университета 1981 г. также подтверждают удивительную жизнестойкость местного песенного репертуара.67 В современном печорском фольклоре можно выделить несколько основных тенденций. Во-первых, значительно увеличилось количество поздних общерусских романсов и песен литературного происхождения. Во-вторых, ныне практически не существует явных различий в репертуаре Средней и Нижней Печоры, Цильмы и Пижмы. Подобный процесс сближения фольклорных традиций в печорских микрорайонах, начавшийся, очевидно, сразу после Великой Октябрьской революции и весьма явственно ощущаемый ло записям 1955—1956 гг., ныне достиг своего апогея. В-третьих, изменился средний возраст основных исполнителей. Теперь хранителями фольклорной традиции, как и повсюду, являются в большинстве своем люди пожилого возраста, но по сравнению с другими областями и районами здесь гораздо чаще встречаются певцы среднего возраста, а в ряде случаев и молодежь, знакомая с традиционным фольклором. В-четвертых, на Печоре, как и в других местностях, затухает традиция семейного пения, во время которого молодое поколение
121
перенимало репертуар своих родителей. Однако и этот процесс по сравнению с другими регионами протекает гораздо медленнее.68
Недостаточно полно выявленные репертуарные списки исполнителей былин не позволяют сделать сколько-нибудь существенные выводы о характерном для сказителей круге лирических протяжных и частых песен. Можно лишь отметить, что сказители как люди преимущественно пожилого возраста, естественно, хранили в памяти многое из репертуара предшествующих поколений. Но и здесь сравнение протяжных и частых песен, записанных от исполнителей былин и опубликованных в сборниках «Песни Печоры» и Н. П. Леонтьева, с материалами из архивов МГУ и СГУ показывает, что не так уж много старинной лирики ушло из фольклора современной печорской деревни.
Кроме баллад, исторических, солдатских и лирических протяжных песен в репертуаре исполнителей былин встречались календарно-обрядовые и частые (плясовые, хороводные, игровые) песни, а также причитания (свадебные, похоронные и рекрутские).
Из календарно-обрядового фольклора еще со времени Н. Е. Ончукова на Печоре хорошо помнят особый тип колядки, распространенный только в данном регионе, и виноградия («холостое и женатое»).69 Последние, исполняемые обычно взрослыми, нередко пожилыми людьми, в том числе и сказителями былин, имеют несколько точек соприкосновения с былинами, главным образом, в поэтике: например, в употреблении повторов для придания особой торжественности величанию, в использовании сходных эпитетов и метафор.70
Кроме колядок и виноградий, специфически зимних обрядных песен на Печоре, как и на всем Русском Севере, практически нет обрядовых песен весенне-осеннего цикла. В весенне-осенние праздники существовал особый круг прикрепленных протяжных и частых песен.
Экспедиция 1942 г. Карело-финского университета под руководством В. Г. Базанова обнаружила в тяжелые военные годы на Печоре возрождение традиции рекрутских и похоронных причитаний. Характеризуя в целом печорские причитания, В. Г. Базанов замечает, что они отличаются своей громоздкостью, тавтологичностью, риторичностью. «Порой они больше напоминают эпос, нежели лирику».71 Это неслучайно, поскольку печорские вопленицы, в большинстве своем талантливые исполнительницы других жанров, в первую очередь былин, переносили в причитания многие приемы эпической поэтики.72
За исключением трех свадебных, остались неопубликованными причиты, записанные экспедициями ИРЛИ в 1955—1956 гг., но материалы экспедиций МГУ 1978, 1980 гг. позволяют сделать выводы о дальнейшей судьбе этого фольклорного жанра. Несмотря на то что сегодня уже не осталось таких одаренных исполнительниц причитаний, как А. К. Носова и Е. Ф. Поздеева, традиция причита на Печоре сохранилась.
Свадебная причеть,73 практически вышедшая из живого бытования, вспоминается пожилыми информаторами, как правило, при рассказе о том, как они выходили замуж или девочками были свидетелями свадьбы родственников, знакомых. Похоронные причитания, так же как и поминальные, распространены повсеместно.74 Не забыт и рекрутский причит, который часто исполняется при призыве печорской молодежи на службу в армию. Кроме того, некоторые наиболее способные певицы могут исполнять, нередко как импровизацию, бытовой причит:
122
по хлебу во время Великой Отечественной войны, по одинокой старости, по уехавшим родственникам, по собирателям и т. д.
Наряду с протяжными на Печоре популярны частые песни: хороводные, плясовые, игровые, которые также входили в репертуар сказителей былин. Раньше частые песни назывались по местному «игрищными», так как они исполнялись часто на молодежных вечеринках, или «горочными», так как их пели летом во время молодежных праздничных гуляний где-нибудь на высоком берегу реки (на «горках»).75 Первое название теперь практически не встречается, поскольку молодежные вечеринки ушли из деревенского быта, а второе широко распространено:
традиция «горок» еще жива на Печоре, хотя сам праздник стал гораздо скромнее по масштабу. До конца 20-х — начала 30-х гг. на самую известную печорскую «горку» в Усть-Цильме (обычно от Иванова до Петрова дня, т. е. с 7 по 12 июля) собиралась молодежь с Пижмы, Цильмы и других близлежащих деревень, а сам праздник продолжался несколько дней.76 Фольклористы МГУ присутствовали на устьцилемской «горке», состоявшейся 9 июля 1978 г. при содействии Отдела культуры райисполкома. Однако на самом празднике «режиссура» работников культуры практически отсутствовала, что свидетельствует о прочности и естественности традиции, когда-то, очевидно, поддержанной. Подобные «горки», правда, с гораздо меньшим количеством участников, собираются почти во всех среднепечорских деревнях. На «горках» исполняется практически весь деревенский песенный репертуар, включая протяжные лирические песни и романсы, но ведущими являются здесь специфически горочные песни: хороводные, плясовые и игровые.
Основные исполнители на нынешной «горке» — люди старшего возраста. Но и молодежь с интересом относится к празднику, стремится принять в нем посильное участие, подтянуть песню, войти в хоровод или в кадриль.77
Многие частые песни, записанные в 20-х и 50-х гг., как и большинство протяжных, встречаются и в записях 70—80 гг. В ряде деревень наблюдается и появление новых, прежде не записанных здесь песен.
Частушки, судя по репертуарному списку сказителей былин, ими практически не исполнялись. Они считались сказителями «несерьёзным» жанром, характерным лишь для молодежи начала XX в. Позднее частушки были популярны в молодежной среде и у лиц среднего возраста. Ныне их хорошо помнит среднее и старшее поколения, чья молодость проходила в 20—50-е гг. Да и современная печорская молодежь по сравнению с молодежью из других местностей неплохо знакома с этим жанром.
Из прозаических жанров наиболее популярна на Печоре сказка. Большинство сказителей былин, как отмечал Н. Е. Ончуков, являются хорошими знатоками сказок. Для исполнителей и слушателей былина и сказка были самыми любимыми произведениями, часто звучащими во время праздника за столом или в обычной будничной обстановке — во время перерыва в работе артельщиков в море, на реке или в лесу.
Длительное сосуществование двух фольклорных жанров не могло не привести к их взаимовлиянию. Авторы вступительной статьи к сборнику «Былины Печоры и Зимнего берега» подробно анализируют творческую манеру одной из талантливых исполнительниц А. А. Носовой, которая «настолько была захвачена художественной выразительностью поэтических средств былины, что и ее сказки испытали на себе сильное воздействие этого жанра».78 Но и былины А. А. Носовой подверглись воздействию стиля, характерного главным образом для волшебных сказок.79 Творчество А. А. Носовой — пример взаимообогащения двух смежных фольклорных жанров. С другой стороны, известно, что на позднем этапе бытования былин их исполнители сначала забывают напев, затем разлагается былинная ритмика, и в результате былина постепенно превращается в сказку. Наконец, когда разрушается сказочная традиция, былины превращаются в очень сжатый пересказ.
123
Еще Н. Е. Ончукова поражало тематическое разнообразие печорских сказок. Наряду с серьезными волшебными, новеллистическими сказками, которые рассказывали солидные, набожные старики-старообрядцы, в их репертуар попадало немало веселых, а подчас и просто скабрезных сказок-анекдотов. Они вносили элементы развлекательности, являясь контрастом исполняемым былинам и волшебным сказкам. Кроме сказок-анекдотов той же цели служили в репертуаре сказителей небылицы, прибаутки (прибасенки), скороговорки, анекдоты о людях другой веры, национальности, о жителях других сел и деревень, наконец, пародии на былины, скоморошины.
В отличие от былинной традиции, которая ныне почти полностью угасла, сказочная традиция еще жива,80 хотя и по количеству сюжетов и по качеству текстов записи, сделанные экспедициями МГУ, уступают записям Н. Е. Ончукова.
Судить о произведениях несказочной прозы — о преданиях и быличках, широко распространенных на Печоре, — можно лишь на основании записей МГУ, так как ни Н. Е. Ончуков,81 ни экспедиции 20-х, 50-х гг. почти не записывали эти жанры.
В исторических преданиях нашли свое отражение эпизоды преследования и гонений старообрядцев, уничтожения скитов «раскольников», физической расправы над приверженцами старой веры. Особенно интересны топонимические предания, бытующие буквально в каждом старинном населенном пункте. В них рассказывается о происхождении названия сел и деревень, о первых поселенцах и их деяниях.
Многочисленны и разнообразны былички о черте, домовом, водяных, леших, оживших мертвецах. А вот заговоры, которые тоже, несомненно, распространены, ни одной экспедицией почти не зафиксированы. Еще живут в печорских деревнях малые нелирические жанры, украшающие речь исполнителя: пословицы и поговорки, прибаутки и присказки, присловья, загадки. Не забыты колыбельные песни («байки»). В детской среде повсеместно записываются считалки и дразнилки.
Некогда вместе с былинами названные жанры составляли единую местную фольклорную традицию, которая, несмотря на практически полное исчезновение эпоса к 70—80 гг., все еще остается и достаточно развитой, и сравнительно устойчивой.
V. Рукописная книжность Печоры
Былина на Печоре жила в близком соприкосновении с рукописной книжной традицией. Поэтому в своих экспедициях уже Н. Е. Ончуков интересовался не только памятниками устного народного творчества, но и сохранностью и состоянием рукописной книжности края. Ведь еще С. В. Максимов отмечал богатство здешних мест древними актами, книгами, рукописями.82 Ончуков-археограф сделал ценные наблюдения о связях печорского старообрядчества с Выголексинским общежительством, о влиянии поморских рукописей на местную печорскую книгу, он первый указал на своеобразие в почерке и оформлении печорских рукописей. В то же время окончательный вывод ученого о перспективах археографической работы в известном ему районе был отрицательным и довольно-таки категоричным: «Правда, крайний север России, мной изъезженный, не имеет ничего выдающегося в смысле рукописей <...>. Но может быть и то, что я нашел на крайнем севере, тоже составит интерес уже потому хотя бы, что будет можно знать, что должен ожидать в этом отношении будущий путник в этой местности, может быть, ожидающий встретить здесь сокровища! Одной разбитой ученой иллюзией, следовательно, будет меньше».83
124
Это ли высказывание авторитетного ученого сыграло свою роль, иные ли были тому причины, но еще три десятилетия Печора оставалась прежде всего хранительницей народного поэтического творчества, о печорской книжности сведений на страницах научных изданий больше не появлялось. Уместно здесь будет напомнить, что поездка В. И. Срезневского по селам и деревням Олонецкой губернии в 1903 г. принесла замечательные результаты — более 300 рукописных книг XIV—XIX вв. Тем самым был открыт и территориально зафиксирован мощный пласт крестьянской книжной культуры, доселе не привлекавший внимание ученых.84
Археографическое открытие Печоры связано с именем заслуженного деятеля науки РСФСР доктора филологических наук В. И. Малышева (1910—1976). Показательно, что целью первой своей поездки 1934 г. на низовую Печору студент Малышев ставит сбор устных преданий о протопопе Аввакуме. В 1937 г. к этой основной по-прежнему цели командировки на Север, добавляется новая: «Одновременно я поставил своей задачей ознакомиться со всеми собраниями рукописей и старопечатных книг в городах и селах, вошедших в мой маршрут».85 В отчете о поездке В. И. Малышевым указано более десятка имен устьцилемских хранителей рукописной старины, отмечены наиболее ценные в научном отношении рукописи.
Систематическое обследование Печоры В. И. Малышеву удалось начать, однако, только в 1949 г. Но с этого года Нижняя Печора надолго становится основным районом полевых археографических разысканий Пушкинского Дома АН СССР (ныне РАН). За четверть века (последняя экспедиция ИРЛИ была в 1973 г.) археографы выезжали сюда 15 раз, а находки В. И. Малышева и его учеников составили 716 рукописей XV—XX вв. Всего же в Устьцилемском и Устьцилемском Новом сборниках Древлехранилища ИРЛИ РАН сосредоточено сейчас 787 рукописей XV—XX вв. В основном это рукописи, найденные в Усть-Цильме и на Пижме, меньшая их часть привезена с Цильмы и деревень бывшей Пустозерской волости.86
Найденные на Печоре рукописные материалы свидетельствуют о высокоразвитой книжной культуре этого района в прошлом, позволяют воссоздать круг интересов, идей и проблем, волновавших печорцев на рубеже XIX—XX вв. Уже Н. Е. Ончуков отмечал, что население Усть-Цильмы и Пижмы почти сплошь старообрядческое, а в кратких характеристиках своих «старинщиков» указывал степень их начитанности и наличие элемента книжности в исполняемых ими былинах. Отдельно отмечал он отличие в говоре и напевах пижемских сказителей, предполагая в этом влияние Великопоженского скита, где старообрядцы обучались не только грамоте, но и пению (Онч., с. XV—XVI). Географическую удаленность Печоры и приверженность населения «старой вере» считал Н. Е. Ончуков основными причинами сохранения здесь эпической поэзии. «Печора до самого последнего времени жила укладом жизни и духовными интересами, по крайней мере, конца XVII в.», — писал он в предисловии к изданию своих печорских записей (Онч., с. XXI).
Дело здесь, конечно, не в «застылости» форм духовной жизни, а скорее в сознательной ориентации ее на времена дедов и прадедов. Но такая общественная позиция не может обойтись без авторитета книжного, письменного слова. Само количество сохранившихся рукописей, разнообразие представленных в рукописях памятников и жанров свидетельствует о «прилежании» печорцев «книжному почитанию», о первенствующей роли книги в духовной жизни местного населения. К тому же в конце XIX — начале XX вв. книжность Печоры, несомненно, была еще более представительной. Достаточно сказать, что В. И. Малышевым были учтены только в Усть-Цильме с ближними деревнями и на Пижме 84 местных книжника, из которых почти половина располагала в конце XIX — первой трети XX вв. собраниями в несколько десятков рукописей и книг. Рукописи же с Печоры стали вывозиться еще в XIX в., и особенно активизировался этот процесс после 1906 г., когда на Печору стала поступать продукция старообрядческих типографий. Причины и пути миграции печорской книги подробно рассмотрены в монографии В. И. Малышева.87
125
Какие же памятники дошли до нас в составе печорских рукописей и как распределяются во времени сами рукописи? Если мы обратимся к научному описанию сборников (154 ед. хр.) и отдельных рукописей исторического, литературного и бытового содержания (114 ед. хр.), выполненному В. И. Малышевым,88 то получим следующую хронологическую схему: из 268 рукописей к XVI—XVII вв. относится 20 рукописей, к XVIII в. — 79, к XIX в. — 116, к XX в. — 53 рукописи. Причем поморских (т. е. переписанных в Выголексинском общежительстве) рукописей отмечено 56 и приблизительно 115 принадлежит перу местных печорских книгописцев второй половины XIX — начала XX вв. Если дополнить эти данные, основываясь на поступлениях последующих лет, то окажется, что из общего числа 787 рукописей XV—XX вв. сборники и отдельные рукописи исторического, литературного и бытового содержания составляют 432 единицы хранения, т. е. более половины всей рукописной книжности Нижней Печоры в собрании Древлехранилища.
Круг памятников, представленных в печорских рукописях, широк и разнообразен. Это и пользовавшиеся популярностью у древнерусского читателя повести об Акире Премудром, о Басарге, о Варлааме и Иоасафе, о царице Динаре, о Темир-Аксаке, о Тимофее Владимирском, о Петре и Февронии Муромских; сказания о временах года, «о письменах» черноризца Храбра, о богородичных иконах; апокрифические произведения. Списки Александрии, Троянской истории, повести о Стефаните и Ихнилате соседствуют в рукописях с различного рода притчами, словами и поучениями, патеричными рассказами, выписками из Пролога, Пчелы, Великого Зерцала. Сохранялись и переписывались на Печоре хождения игумена Даниила и Трифона Коробейникова, сочинения Иосифа Волоцкого и Максима Грека, духовные и покаянные стихи, образцы виршевой поэзии. «Соузником» протопопа Аввакума по пустозерской ссылке, попом Лазарем, переписан сборник с текстом его челобитных царю Алексею Михайловичу и патриарху Иоасафу, с сочинением о патриархе Никоне и «Ответом православных» дьякона Федора. Представлены в рукописях сочинения самого Аввакума, в автографах и списках сохранились произведения выговских деятелей.
Несомненный интерес представляет не только содержание рукописей, но и те многочисленные записи и пометы, которые оставили печорские читатели на полях и форзацах книг. Именно эти записи позволяют сделать вывод о том, что рукописи не лежали в домах мертвым грузом, а все время находились в обращении — их читали, передавали по наследству, иногда продавали. Вполне вероятно, что какие-то рукописи принадлежали «старинщикам» Н. Е. Ончукова. Во всяком случае, пометы Григория Ивановича Чупрова встречаются на трех поморских рукописях (Устьцилемское собр., № 57 — далее УЦ; Устьцилемское Новое собр., № 35, 94 — далее УЦН), а Игнатий Васильевич Торопов был читателем литературного сборника местного письма (УЦН, № 8). В некоторых приписках традиционные книжные формулы начинают испытывать влияние фольклора. Так, в певческом сборнике XVII в. (УЦН, № 180) столетие спустя появилась следующая запись: «Стати писати, пера попытати, не тупо ли перо, не дрожит ли рука, не сфербят ли бока, не хотят ли красного батога. Ай люли, ай люшенки мои — бойтеся Бога».
Несомненно большое значение для изучения культуры и быта печорских крестьян имеют письма и деловые бумаги XVIII—XX вв., также представленные в собрании. Из 59 рукописей этого жанра большая часть была привезена археографическими экспедициями, некоторые письма были извлечены из переплетов рукописных и старопечатных книг.89 Характерным образцом такого рода переписки может служить письмо жителя устьцилемской слободки Максима Осташова в Великопоженский скит Ивану Стафеевичу Томилову от 10 марта 1810 г. с извещением о получении Космографии и просьбой прислать Кормчую и повесть об Александре Македонском (УЦН, № 133).
Отдельно следует сказать о литературно-исторических произведениях, созданных местными, зачастую безымянными, книжниками. Среди них своеобразное хронографическое повествование «Миробытная история», созданное во второй половине XIX в., но выдержанное в традиционных жанровых формах. Интерес печорских крестьян к историческому прошлому страны запечатлелся в «Краткой Российской истории», компилятивной
126
переработке какого-то учебного пособия прошлого столетия. Остается известным в одном только списке вполне самостоятельное произведение местной традиции — «Повесть о быке». В произведении явно отразились характерные черты печорского быта; возможно, что в основе повествования лежит устное предание устьцилемцев.90
До сих пор пользуется известностью на Печоре имя самого знаменитого в XIX в. местного книгописца Ивана Степановича Мяндина. Количество рукописей, переписанных И. С. Мяндиным, исчисляется десятками. Кроме того, он занимался реставрацией и переплетом рукописных древностей. Он выработал свой почерк, подражающий в чем-то поморскому полууставу и скорописи, но вполне индивидуальный, получивший впоследствии название «печорский полуустав» и оказавший влияние на местную рукописную традицию. Но И. С. Мяндин не был только плодовитым переписчиком и грамотеем, его с уверенностью можно назвать первым известным нам устьцилемским писателем. Он не просто переписывал повести и сказания, он частично перерабатывал их, вносил в текст свои, «мяндинские», стилистические и сюжетные уточнения, делал их доступнее для понимания местных читателей. Повести о Басарге, о царе Аггее, о царице Динаре, о царевне Персике — вот далеко не полный список мяндинских литературных обработок и пересказов. Среди них и такое близкое фольклору, живой народной речи сатирическое произведение, как Азбука о голом и небогатом.91 Мы знаем имена других печорских переписчиков XIX в. — А. М. Бажукова, Ф. И. Вокуева, И. И. Ермолина, М. А. Михеева — но ни один из них не подходил к тексту творчески.
Среди служебных рукописей, найденных на Печоре, значительное место занимают певческие «крюковые» рукописи. В их числе есть подлинные редкости, как, например, сборник XVI в., содержащий стихиры древнерусского композитора-головщика Федора Крестьянина.92 Представлена в собрании поморская традиция знаменного пения, встречаются и местные, печорские, воспроизведения певческих памятников. Зачастую знаменной нотацией сопровождались тексты духовных стихов, что позволяет сопоставить книжную и устную традицию бытования этого жанра.
Книги лицевые, украшенные заставками и инициалами, всегда пользовались в народе особым уважением. Сохраняя прежние, «досельные», книги, старались украсить и вновь переписанные. В характере оформления текста, пожалуй, наиболее отчетливо прослеживается история рукописной книги. Печорская книжность не богата лицевыми рукописями, значительно больше книг орнаментированных. Профессионально выполненные орнаменты в рукописях XVI—XVII вв. и позднейшей поморской традиции соседствуют здесь с заставками и буквицами работы местных книгописцев конца XIX — начала XX в. Н. Е. Ончукова в свое время поразило в этих заставках «жалкое подобие древних рукописей». И, вероятно, он был прав — с профессиональным искусством они вряд ли сопоставимы. Зато кажется возможным отыскать точки соприкосновения позднего книжного орнамента с народно-прикладным искусством Нижней Печоры. Такого рода наблюдения уже известны в литературе.93
VI. Черты языка былин Печоры
В старых записях печорских былин отражены некоторые особенности произношения и исполнения этих текстов, представляющие особый интерес в плане их поэтики и принадлежности к наддиалектным формам народной речи. К сожалению, более новые записи, и особенно послевоенные, почти не отражают таких особенностей воспроизведения традиционных текстов, и сейчас трудно сказать, сделано это намеренно или связано с полным забвением поэтики и былинного языка. Сравнивая записи разных лет, легко обнаружить сходство в произношении отдельных слов, совпадения в произношении звуков или их сочетаний, представляющие как бы общий фон
127
звучащей былины; само наличие произносительных вариантов весьма характерно, поскольку стилистическое использование вариантов есть самая выразительная особенность всякой литературной речи, а былинные тексты несомненно воспринимались средой-носителем (а потому и исполнялись) как тексты литературные. В записях совершенно не обнаруживаются многие собственно диалектные особенности печорской речи, как смешение свистящих и шипящих согласных (кошили, уженька, желено вместо косили, узвнька, зелено и др.),94 как проявления закрытого «о» в отличие от обычного (свойственного и литературному произношению) открытого гласного «о»; нет здесь и лексических заимствований из языка коми (хотя в разговорной речи местных жителей их очень много, особенно в области глагола). Все это совместно удостоверяет, что язык былин всегда был и до сих пор остался языком устной литературы; он обслуживает жанры устной литературы, созданные давно и связанные с этими жанрами взаимной поэтико-стилистической связью. Он сохраняет (хотя и в искаженной от долгого бытования форме) множество грамматических и лексических архаизмов, хотя вместе с тем в нем с течением времени и отразились ведущие изменения северно-русской фонетики. Следует заметить, что нет ни одной специфической печорской, свойственной только печорским или каким-то другим северным говорам особенности речи; былины воспроизводят лишь такие особенности речи, которые, являясь архаическими, долгое время, вплоть до XX в., были общесеверно-русскими.
Ударение, к сожалению, передают не все собиратели; в прежних записях, как можно судить по старым изданиям, это делали, и вполне правильно, поскольку отличия ударения от современного литературного создает свойственный былинам ритмический контур текста, ныне уже невосстановимый. По старым записям ясно, что записывались акценты архаические, теперь уже утраченные русским литературным языком, но свойственные всем северно-русским говорам вплоть до недавнего времени.95 Например, ударение в форме 2 л. мн. ч. наст. времени у основ с подвижным акцентом типа да́дите, си́дите или оттяжки (также вполне закономерные, но весьма архаичные) вроде пере́скочу, пере́несу и др. изменяют ритмику текста; если заменить эти акцентовки современными литературными дади́те, сиди́те, перескочу́, перенесу́, изменится и былинный размер, с его разделенностью и максимальным расширением слогов между двумя ударными.
С ударением связано и произношение гласных, составляющих опорные элементы в произношении (исполнении) былинных текстов.
В записях почти нет достоверных примеров изменения фонемы «е» («ятя») в «и», как это следовало бы ожидать в северных говорах. Редкие исключения в записях можно признать либо случайной опиской (билый или одияло), либо морфологизованным остатком старого произношения (встречается не только в северных русских говорах: затим, тим, по всим, также во флексиях типа на кони, в кабаки, во городи, па вини — это влияние «мягкого» типа склонения на тип «твердого» склонения, очень характерное для северной зоны). Все это не случайно в смысле той особенности произношения, о которой уже шла речь: ничего специфически местного в таком произношении нет.
Наоборот, так называемое «иканье», т. е. произношение звука «е» как «и» в безударных слогах, в записях отражается довольно часто, причем в таких словах, которые трудно связать с влиянием со стороны литературного произношения (кроме того, «иканье» как литературная норма организуется только в 30-е г. XX в.). «Иканье» отражается в определенных морфемах типа на ночиньке, дорожиньки, на конюшин двор, хроминькой, миня, типеря, тибе, имицько, ище, курива, ящичок хорошинькёй, также и в глагольных формах, специфически северных, типа поедишь, делаите, можите. «Иканье» соотносится со звуком «е», тогда как «еканье» оказывается связанным с произношением звука «а» (после мягкого согласного и также в безударной позиции), ср.: премопутнею, травеной мешок, деветь затевьей, отвезать, премою, тысеч, потенул, натенул, натегайте, кнегинею, петнаццеть, месецев (ср. месяцоф, без памети, Светогор), но также и под ударением (стоели, опет), что характерно для северных говоров, но может быть лексикализовавшимся остатком старого произношения. Смешение «е» и «и»
128
очень редко (зовут по емене, на юлецу, т. е. на улицу, лесицы), оно как бы накладывается на последовательное разграничение в произношении безударного «а» и безударного «е»: в той мере, как «а» как бы «поднимается вверх» и совпадает в произношении с «е», само это «е», в свою очередь, «поднимается вверх» и совпадает в произношении с «и». В результате никакого «смешения» собственно и нет, а имеется вызванная какими-то потребностями поэтической речи тенденция к усилению в произношении некоторых особенно важных слов, своего рода звуковой перенос слова в ранг «высокой» лексики. По-видимому, это связано и с возможностями и потребностями эвфонии. Таким образом, опираясь на возможности самого языка, певец использует фонетические средства для создания особого типа речевой стилистики, важной именно в данном тексте и в отношении данных слов. Судя по разным обозначениям в записях одного и того же слова или одной и той же формы, не всякий записыватель улавливал эту особенность поэтического текста, не придавал ей значения; однако в реконструкции исходного (эталонного) текста нерегулярные показания такого рода будут иметь большое значение. Добавим, что в русских народных записях написания типа кнегинею, травеной и конюшен двор, дорожинька появляются в XVII в., причем в большом числе и всегда в строго определенной (народной) лексике.
То же замечание относится и к проявлениям «аканья» в тексте былин. Произношение с «а» на месте «о» в типично северно-русском говоре не должно озадачивать именно потому, что речь идет о произнесении литературного народного текста. Правда, произношение безударного «о» в печорских говорах близко к произношению «а» (мало огубленное и довольно широкое по раствору), однако не это явилось основой появления «аканья» в произнесении былин. Наддиалектная форма речи, так называемый литературный народный язык, широко вносил в общее для всех литературное произношение акающее произношение некоторых слов, как правило, заимствованных, хотя и не обязательно заимствованных (давно замечено, например, что в исполнении народных произведений устного творчества на севере говорят начевал и др.). В наших записях находим: карчагу, карман (ср. и из кормана, корман), сабака, на окарачь (ср. на окорочь), калпак, караб, караблей, карабель (но также и кораб), тасьмян (также и тосьмянной — из тесьма), магучей, калацики, багатырь, кафтан, полтара, начевал, а также некоторые гиперизмы, основанные на отталкивании от принятого в фольклорном тексте произношения: хромина, взмохнул, отоманом был, тотарин вместо ожидаемых храмина, взмахнул, атаман, татарин и др. Гиперизмы подтверждают реальность «акающего» произношения данных слов, хотя в диалектной речи многие из них постоянно произносятся с «о».
В произношении согласных отклонений от литературной нормы и, с другой стороны, от местного диалектного произношения, еще больше. Дело в том, что при записи былины представитель литературной речи старается отметить те особенности воспроизведения былины, которые ему как носителю литературной нормы представляются «экзотическими». При этом он пропускает действительно важные для поэтики самого текста особенности произношения (внимание рассеяно между несколькими особенностями произношения). Прежде всего это касается произношения аффрикат.
Исконным для северных говоров данного региона является мягкое цоканье, т. е. совпадение «ц» и «ч» в мягком «ц». Поэтому написания типа палицю, гробницю, отцю, гробниця, птиця, цяду, концём, плецём, ложецьки, имецько, конець и др. информативно избыточны (хотя, конечно, неспециалист лишний раз убедится, что читать канонический литературный текст следует не так, как он привык это делать). Современные собиратели обычно записывают — мец-колунец и т. п., случаи «ц» мягкого с твердым «ц», однако всегда следует пояснить, имеется ли в виду и изменение произношения. Труден вопрос относительно тех «ч», которые в старых записях заменяют «ц» (конеч и др.); по существу, подобное расхождение в произношении одного и того же слова свидетельствует либо об изменении самого произношения (что вряд ли верно), либо о том же самом факте проникновения второй аффрикаты в исполнение литературного текста (что несомненно важнее, поскольку ведет к источнику возможных междиалектных взаимодействий в воспроизведении былинного текста). В. И. Чернышев специально отмечал, что в использовании былин XIX в. имело место «смешение» аффрикат, причем «ц» часто произносилось мягко, тогда как «ч», наоборот, «в произношении» распадалось на «тш». Это очень важное свидетельство того, что происходит проникновение второй аффрикаты в говор через народный текст литературного характера96 (современные
129
записи диалектной речи подтверждают развитие этого процесса и в бытовой речи). Запись, конечно же, оказывается важным источником в изучении начала этого процесса, но вместе с тем расхождение между «ч» или «ц» в одной и той же форме (обруц — обруч) может быть элементом поэтики текста.
Особенно важно, что на стыке морфем, в котором прежде не было аффрикаты, развивается новая позиция с возникновением «новой аффрикаты». В таком случае говор фиксирует то произношение, которое является для него более характерным. Поскольку печорские говоры относились к цокающим говорам, не было ничего необычного в том, что на стыках морфем образовалось «цокающее» произношение старого сочетания типа «тс» (ср. разные попытки отразить такое непривычное для говора произношение на письме при записи былин: отбитьця, встречаетца, битьца, рода не отецкого, завиваетсе, розсыплетсе, видитцэ, лёжитса, умываетца, хоцицця, не молитця, целуютце, все понравитсе, также триццеть, петнаццеть, шеснаццать; единственное замеченное исключение — кланетче). В этих обозначениях совмещено сразу несколько особенностей: различие между морфемами, которое записывающий старается сохранить (битьца), различие между произношением исконного «ц» и нового «ц», возникшего в результате фонетического стяжения звуков; различие между литературным произношением грамматической формы и местным произношением, специально в произношении сказителя, и т. д.
Самый важный результат, который можно вынести из рассмотрения этих фактов, заключается в том, что субстратный для данных записей былин говор характеризовался мягким цоканьем, из которого и следует исходить в характеристике местного воспроизведения былинных текстов.
Наоборот, произношение шипящих «ж» и «ш» было твердым, и твердость их подтверждается как сочетанием их с гласными, так и взаимным влиянием согласных в консонантных сочетаниях. Например, написания типа жаних, жана, жаребцей, жалезный, также как и паралельные им написания жона, жоробят, жониха, и даже шире — тежолую, жолтых, служобка, сужону и др. — указывают на твердость звука «ж», тогда как написания нащока, нончо, неделечок оказываются неоднозначными в смысле своей характеристики: они могут обозначать и твердость «ч», и угубленность следующего за ним гласного. Написания типа копейцо, месецов, годицок, хотя и редкие, в таком случае кажутся очень странными, поскольку твердость «ц» в местном произношении предполагать трудно, а произношение огубленного гласного «о» в такой позиции также невероятно. Неясно также, зачем собиратель записывал в некоторых случаях форму второго лица без мягкого знака (позволиш, нравишсе), поскольку произношение «ш» совпадает с произношением в литературном языке. Только в некоторых суффиксальных морфемах написание с мягким знаком является закономерным и выразительным фактом: русьского, русьских, богатырьскую передают мягкое произношение согласного корня в положении перед суффиксом «ск» (характерно и для бытовой речи северных говоров).
Поэтически оправданными являются варианты произношения древних аффрикат, обычно изображаемых буквами «щ» и «жд». Северное произношение «щ» варьирует в произнесении союза «что»: шцэ, но также и шчо, хотя обычно собиратели записывают «щ» в частотных вспомогательных словах графически как ищэ, ишэ. Некоторые слова сохраняют свой особый состав согласных (штей сварить) или передаются на письме в «разложенном» виде (круписчатой, ср. кирпищат); все они позволяют восстановить произношение «шч», свойственное этому говору для данной аффрикаты. Тем не менее довольно часто собиратели записывают произношение «шш»: ташшыт, царишшо, побоишшо, по шшету, пушше, по сметишшам, веру крешшоную и др., обычно в словах местного характера или, напротив, в роли особого поэтически оправданного приема:
Буди нет у тя да больших блюдишшов,
Дак вот те тугариновы больши ушишша!
Архаическое произношение свойственно и некоторым словам с другой (звонкой) аффрикатой: приезждий, поеждиват, подъеждяет, доеждяют, ср. также и другое изображение той же аффрикаты: проежживал, проежжого, поежжай, даже приезжат (последняя форма подтверждает, что в данной аффрикате произошло уже свойственное и литературному языку разложение на «два ж»).
130
Во всех случаях такого колебания мы с несомненностью можем признать, что произошло изменение в произношении старого фонетического элемента текста, и каждый исполнитель по-своему старается использовать это (возникли произносительные варианты) в своих целях.
Для северных говоров весьма характерно употребление заднеязычных согласных перед гласными переднего ряда, поэтому произношение типа берегём, стерегём, пекёт, нарекем, дороженькю, десяточькём, хорошинькёй и т. д. здесь не является странным. Однако никакого отношения к поэтическим особенностям текста такое произношение не имеет.
Напротив, другая, связанная с предыдущей, особенность северных говоров к поэтической технике народного творчества имеет самое непосредственное отношение. Речь идет о появлении «неорганического» йота в положении между двумя гласными, и притом на стыке слов: как юшли-то, на юдивленьицо, как ювидали, переюлками, по переюлкам, они ютром, на юлецу, и ювидали, не юспел, не бей-ко юдалой, на ёсобицу, на ёдну и др. Это явление в народных поэтических текстах неоднократно обсуждалось; оно связано с включением «неорганических» слоговых гласных в сложные группы согласных и представляет собою своеобразную эвфоническую вставку в художественно воспроизводимый текст.97
Своего рода вставочные звуки можно видеть и в лексикализовавшемся произношении слов каравульнюю, вострую, дасть нам строку, строчнёё время (караульную, острую, срок, срочное).
Для поэтики былин характерно и уподобление согласных, которое типично для бытовой северной речи во всех ее вариантах независимо от конкретного говора, ср.: во посленни нни (последние дни), скланной ножичок, винно (видно), ронна матушка, прутов менных, менной (медный), сённи, на онно плецё (одно), омманчива; такое уподобление согласных доходит до полной утраты этимологических связей со словами-производителями (ср. во гриню, гриня, гриню светлую, в которых уже невозможно узнать старую русскую гридню-гридницу). Замена согласного «м» на «в» или «б» в положении перед сонантом также весьма обычное дело: вногие, невного, невножко, блад на месте многие, немного, немножко, млад (последнее слово лексикализовано в данном произношении), что весьма характерно, потому что во всех этих случаях изменяющийся согласный никак не проверяется в сильной позиции, потому и в условиях длительного устного произношения без фиксации на письме полностью подвергся замене на фонетически сходный согласный.
Столь же выразительны некоторые упрощения в произношении сложных групп согласных, связанные с устной формой бытования текста: почесныя, косью, чесью, радосью, почесен пир, кресничку, шеснаццать, черлен караб и др. — и в этих случаях лексикализация происходит за счет постоянного опущения при повторении непроверяемых в сильной позиции согласных (характерно употребление форм творительного падежа, которые очень часто воспринимались как формы наречия и потому не соотносились с прочими формами парадигмы).
Лексикализовались и некоторые другие формы произношения общерусских слов, причем довольно часто это было исконное русское произношение соответствующих слов, например: одва (едва), горносталь (горностай), топерь, робята, пехнул, хозеином (хозяином), очюнь (очень), окол черева, закрычал, чепей и др., так что подобное произношение указанных слов относит произношение и воспроизведение соответствующих текстов по крайней мере к XVII в. (не позже).
Кроме того, ряд слов обобщился в новой форме произношения: буёвый, буёвую, буярина, бульшуще (с «у» на месте «о» в положении после губного звука «б»), также варианты типа бурзамецкое — мурзамецкое, нонь — нынь, залезной — жалезной, охвота — охота, некоторые другие, которые легко встретить в любом русском говоре в том или ином варианте произношения. Именно это обстоятельство, а также этот факт, что и в данных случаях гласный или согласный попадал в фонетически непроверяемую позицию (ее называют абсолютно слабой фонетически или изолированной морфологически), обусловило сначала изменение звука, а затем и консервацию его в составе слова в таком именно произношении. Такое произношение указанных слов — факт литературного
131
наддиалектного языка; возможность варьирования форм — факт поэтики литературного текста. И то и другое важно в осмыслении языковых средств порождения былинного текста в момент его воспроизведения.
Следующее очень важное отличие былинных текстов от других текстов устного народного творчества следует обсудить подробнее, поскольку оно, отражая важную особенность северно-русской фонетики, является вместе с тем фактом былинной поэтики.
Речь идет о «смягчении» или, наоборот, «отвердении» согласного «н» в положении после мягких или (соответственно) твердых согласных.98 Поскольку в некоторых типах сочетаний кроме «н» в той же позиции мог оказаться и согласный «р», он также подвергался смягчению или отвердению; относительно последнего в наших записях нет примеров, но произношение типа обрюшился, церьквы, церьквям, Владымиря и др. показывают, что «мягкость» согласного «р» была вполне возможной в былинном исполнении.
Что же касается наиболее частого из числа сонантов «н», примеры «смягчения» его в положении после мягкого (палатального) весьма значительны, ср., например: вольнёго, вольнём, каравульнюю, стольний, стольнё, сильни, дальний, дальнюю, премопутнею, строчнёё время, корабельняя, корабельнёё, колокольняго, подневольнёё, хрустальнюю, опальнюю и др.; примеры «отвердения» после велярных согласных: конюшнами, по домашному, в посторонной храмине, милостыну, ко княгины, ихны, под одным концом, в избу нижную и др. Примеры показывают, что в произношении сказителей «ч» совпадал с «ц» по мягкости, а «ж» (и «ш») были всегда твердые. В положении после заднеязычных происходило столь же последовательное «отвердение» согласных-сонантов, однако примеров подобного изменения согласных в публикуемых записях не очень много (ср. восклыкала вместо воскликала). Позиционное отвердение согласного отражено и в конце слова (волчья сыт травеной мешок, опет), причем в словах архаических или диалектных, так что даже и собиратель смог уловить эту особенность местного произношения и передать ее в записи.
Таковы основные из имеющих значение фонетические особенности былинных записей, отличающие их от современного русского литературного языка. Все остальные расхождения с принятой сегодня орфографией вряд ли скрывают за собою какое-то важное отличие в произношении исполнителей. Например, написания типа зглонул, збить, здумайте и др. отражают вполне понятное озвончение согласного «с» в положении перед звонким; такое озвончение свойственно и литературной норме. То же касается и оглушения согласных в середине слова: жерепцей есть фонетическая запись словоформы жеребцей, которую в качестве орфографической ошибки вполне возможно встретить и у литературно образованного человека.
Что же касается основных типов расхождений с литературным произношением, то они вполне устойчивы (отражаются во всех старых рукописях, написанных на Русском Севере в XVI, XVII и более поздних веках99) и притом характерны специально для произнесения былинных текстов. В связи с этим оказывается совершенно необходимым выделить различные элементы произношения в смысле их функциональной принадлежности к былинному тексту.
Во-первых, это поэтически маркированные элементы речи, связанные с поэтикой устного народного творчества, которые передаются по традиции и входят в инвентарь выделительных средств устного воспроизведения текста (йотовая вставка, вставки гласных, разное произношение аффрикат и т. д.).
Во-вторых, это проявления наддиалектной формы речи, т. е. своего рода литературного языка народа, присущего его литературным текстам. Сюда относятся и некоторые особенности, указанные как стилистические, но сверх того и такие особенности произношения, как проявление аканья, иканья, еканья, вообще изменения в произношении гласных, потому что как раз произношение гласных было наименее важным для северно-русских диалектных систем, и оно могло подвергаться некоторым изменениям под натиском наддиалектной формы речи.
132
В-третьих, необходимо выделять связанные с предыдущими особенностями лексикализованные особенности произношения, дававшие расходящиеся результаты между литературным русским и местным литературным произношением (типа буёвой и боевой, пехнул и пхнул и т. д.). Поскольку соответствующие слова очень часто употребляются в текстах былин, их лексикализация оказала свое влияние на складывание особой манеры исполнения, особой фоновой фонетики данного жанра народного литературного текста.
В-четвертых, важны и архаические формы, сохраненные поэтикой былины из древнейших времен. Иногда бытование текста настолько изменило первоначальную фонетическую форму слова, что необходимо прибегнуть к реконструкции, чтобы воссоздать ее (в семантических целях). Это относится, например, к сочетанию по тяпышу по алабышу (в издаваемых текстах записано около десятка различных в произношении форм).
В-пятых, конечно, необходимо связать особенности произношения в том виде, как они записаны в былине, с особенностями местной диалектной речи. Но как раз в этом отношении каких-то значительных результатов найти не удается. Всегда отражается некий архаизм местного произношения, устойчиво связанный уже с традицией исполнения (теперь — только подражания старым мастерам). Изменение говора в наши дни, по-видимому, никак не отражается на исполнении былины. Однако записи былин становятся все более орфографическими.
В области морфологии русские народные говоры в среднем течении Печоры характеризуют все те особенности, которые присущи русским диалектам на Крайнем Севере и Северо-Востоке Европейской части СССР (в низовьях Двины, Мезени, Пинеги).100
Словарный состав печорских говоров подробно проанализирован в монографической работе Л. И. Ивашко101 и хорошо собран в картотеке Словаря русских говоров Низовой Печоры Межкафедрального Словарного кабинета им. Б. А. Ларина в Ленинградском государственном университете.
Все морфологические и лексические особенности в данном издании сохранены.
VII. Напевы печорских былин
Сказительство издревле занимало в фольклоре высшую ступень воспроизводства моральных, общественно-правовых устоев, постулатов народной мудрости, носило подчеркнуто наставнический характер. Правом сказительского напевного вещания в родовой общине располагали люди определенного возраста, способностей и общественного положения.102
В артельно-промысловой среде позднейшего времени избранность мастеров напевного слова определялась также общественным признанием сказителя и возрастным цензом.
Свидетельством формирования эпоса как жанра синтетического являются вкрапления в эпические сюжеты в качестве их составных частей — благопожеланий (застольных и обрядовых), заговоров, причитаний, небылиц
133
и других рапсодических обращений, выраженных общим напевным языком.103 Речитативный стиль в эпосе с его возгласной природой интонирования и тирадной формой близок речевой фразовой интонации.104
Звукозаписями конца XIX — начала XX вв. неоднократно зафиксированы, расшифрованы на ноты и опубликованы четко интонированные исполнения былин «говоркового» стиля речитации с апериодической формой стихосложения. Структуру таких речитативных форм объясняют отнюдь не классические стиховедческие каноны, а в первую очередь закономерности свободной фразовой просодии, логика образования просодических периодов — тирад.
В системе речитативного интонирования эпоса поражают межнациональные сходства самого механизма произнесения, связанные с единой природой голосового аппарата и психофизических условий интонационного мышления человека.
Сравнение мелодики речитативного языка «юнацких песен» южных славян, украинских дум, румынских дойн, нартского эпоса народов Кавказа, ряда других эпосов, а также русских былин речитативного склада (особенно обонежских) убедительно свидетельствует о том, что рапсодическое «свободное» интонирование является исторически-исконной формой напевного языка эпоса. Сочетание свободной просодии с традицией инструментального самосопровождения сказителей ряда славянских народов дает право предполагать недавнюю утрату этой традиции на Руси, зафиксированной лишь в Сборнике Кирши Данилова (XVIII в.).
К началу XX в. научная мысль, увлеченная новыми находками былин иного стиля на архангельско-поморской территории и на Дону, предала забвению триумф сказителей олонецкой традиции в обеих столицах России, триумф поездки по славянским странам олонецкого сказителя И. Т. Рябинина (1892 г.), его встреч и импровизированных состязаний с южнославянскими рапсодами, триумф «братания» сходных по музыкальному языку рапсодических школ.
Интересно отметить, что в то время, как апериодические формы стиха русских былин оставались вне поля зрения отечественных ученых, Филарет Колесса объяснял в украинских думах как «высшую форму развития речитативного стиля древних похоронных причитаний, торжественных импровизаций на тризнах», и далее конкретизировал: «Язык дум — свободная речитативная (нестрофическая) форма, содержащая от 6 до 17 слогов в стихе и от 3 до 13 стихов в тирадах (логических тематических комплексах)».105
Исконность свободных речитативных форм в русских былинах не была понята исследователями конца XIX — начала XX вв., искавшими в складе былин черты, подобные классическому древнегреческому гекзаметру, явлению довольно позднему для эллинской культуры, рожденному амебейной формой антифонов аэда и хора; — хора, канонизировавшего структуру напева. Всякая свобода стиховой конструкции объявлялась нарушением «обыкновенного эпического размера» (Гильфердинг), или «полного эпического размера» (А. Л. Маслов). Теоретическим осмыслением апериодической напевной формы былин стали заниматься сравнительно недавно.106
134
Изучая напевы былин и причети, можно с достаточной наглядностью наблюдать явление постепенной вокализации рапсодического стиля, упорядочения ритмической и метрической стиховой структуры напевов, образование «предпесенных» форм сказительства при традиции артельного подпевания сказителю, вязкой структуры побудительной или «фоновой» коллективной причети, переход сказительского искусства в сюжетную хоровую лирику («памятные» эпические хоровые песни, или как их стали называть — «былинные песни»). Этот эволюционный ряд развития жанра, однако, следует рассматривать исключительно в рамках общего этнокультурного процесса распространения традиции. Преобладание в различных местностях той или иной системы интонирования в эпосе и причети, указывает на миграционное оседание определенных историко-культурных пластов эпической традиции по путям обживания русскими новых земель в далеком и сравнительно недавнем прошлом. Основными гнездами творческого бытования эпоса на Руси явились: Обонежье (древнейший пласт рапсодической культуры), архангельское Поморье от Белого до Баренцова моря и по бассейнам северных рек (более поздний «старожильческий» пласт, слой культуры артельного промысла), позднейший слой сословной казачьей культуры с центром на Дону при впадении Хопра, в астраханском Поволжье. Помимо основных гнезд бытования эпос точечными «колониями» растекся по огромному пространству России, проявляя известное смешение стилей и различную степень выживания.
Среди русских напевных сказаний, «старин», былина (богатырский эпос), занимает место древнейшего жанра. Древность жанра былин определяется временем в несколько столетий до сложения Древнерусского государства. Более поздними считаются трагедийно-моралистические старины патриархального средневековья — баллады, — героями которых выступают обыденные, однако типические персонажи, находящиеся в неразрешимом конфликте с моралью современного им общества. Былинам и балладам сопутствуют поучительные ста́рины притчевого характера — духовно-нравственные, хроникально-бытовые, развлекательные (глумливые «скоморошины», невероятные «небылицы»).107 Время формирования последних — различно.
Все перечисленные жанры русской эпической традиции связаны единством напевной системы в рамках местного стиля, в рамках отдельного сказителя.
Поющийся эпос по происхождению является актом индивидуального сказительства.108 Самопредложение сказителя: «А не нать ли вам, братцы, старину сказать?» — заметно отличается от песенного коллективного предложения «самим себе»:
1-я строфа:
Ай, соберемся, ребятушка, ай мы, каза́...
Мы, казачушки, ай во единый круг,
2-я строфа:
Ай, во единый круг.
Вот и запоём, ай мы, каза́...
Мы, казачушки, ай песню старую.109
Мастерство сказителей, передаваясь от поколения к поколению, от мастера к мастеру, носит ярко выраженный характер местной родовой традиции, складывавшей известные нам сказительские «школы».
Обычно сказитель широко пользуется избранным «основным» своим напевом, который служит для декламации большинства сюжетов, имеющихся в его репертуаре (былин, баллад, притч). Однако он может пользоваться и другими эпическими напевами местной традиции, типовыми для данного этнокультурного региона. В ряде случаев выдающиеся мастера распоряжаются ими в зависимости от намерения сказывать в том или ином эмоциональном тоне. (Таков «Дунай» Рябинина, записанный Гильфердингом дважды, с разными напевами:
135
Гильф., II, № 81 и в коммент. к № 81; таков «Ставр» Лагеева, выдающегося печорского сказителя, исполненный в разное время на разные напевы: № 179 и в коммент. к № 179 наст. изд.)
Речитативные и распевно-речитативные напевы сказителей неразрывно связаны с интонационным словарем местных песенных традиций, однако, структурно с напевом песен не совпадают.110 Исключение составляют причётные формы. Причетное повествование, как и сказительское, — индивидуально по происхождению. В музыкально-языковой задаче старин и причети много общего. Стилистическое родство мелодики этих двух жанровых групп настолько явственно в фиксированных «гнездах» эпической традиции: мы можем с уверенностью прогнозировать по причети характер рапсодического стиля в местах угасшего, утраченного или не обнаруженного эпоса. Этим сходствам в последнее время посвящен ряд музыковедческих наблюдений.111
Обычно принято подразделять былины на северно-русские, сказительские, и на «былинные песни» Юга России, казачества.112 Однако, как уже говорилось выше, северно-русские былины также разделяются на несовпадающие стилистические зональные традиции — обонежскую (олонецкие сказители) и поморско-архангельскую. Особенности последней дали пищу ошибочной теории А. М. Листопадова об «исконно-хоровой природе русских былин» (см. сноску 109).
Весьма своеобразным признаком поморско-архангельской традиции в жанрах поющегося эпоса является помимо чисто рапсодического интонирования — сказительство «артельное» (наподхват сказителя). Примечательно, что оно получило развитие в этнической среде, в обрядовом фольклоре которой видное место занимают формы взаимодействия личной (рапсодической) и коллективной (наподхват) причети, с которыми ряд эпических напевов близок или совпадает. Для поморско-архангельской эпической традиции чрезвычайно характерно наличие сравнительно небольшого количества типовых напевов, к которым обращаются сказители этой обширной стилистической зоны. Два из них можно назвать «главными», наиболее распространенными на Печоре, Мезени, Кулое, Пинеге, в Беломорье, т. е. практически на всем архангельском Севере. Они обладают наиболее стабильными структурами напевного стиха и послужили образцами «полного эпического размера» в теории А. Л. Маслова (см. сноску 115). В них мы обнаруживаем черты метрического и даже мелодического сходства с напевами былинных песен донского казачества (особенно печорские варианты):
Печора (№ 7 наст. изд.):

Дон. — Листопадов. Т. I, часть 1, № 23

136
Печора (№ 148 наст. изд.)
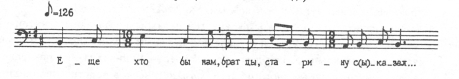
Дон (Листопадов. Т. I., часть 1, № 25).
Длительности сокращены вдвое.
Из партитуры выделена мелодическая основа

Беломорье (Труды МЭК. Т. 2, напев 23):

О некотором сходстве в стихосложении былин Печоры и Мезени с былинными песнями Юга России и казачества пишет А. М. Астахова: «...На Печоре встретились случаи проникновения в музыкальное исполнение былин известной песенной манеры разделения слогов вставочными частицами <...>. Подобное дробление слов мы наблюдаем постоянно в исполнении былин на Юге, среди казачества, где былину вообще не отграничивают от исторической и бытовой песни».113 О возникновении былинных напевов «из песенных интонаций на Печоре и Мезени» пишут также Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд.114
Только благодаря особенностям стиля артельного сказительства, при котором голос сказителя не теряет своей автономии, могла возникнуть особая, динамичная и декламационно ясная мелодическая формула, доходчивая для слушателей как в «сольном», так и в коллективном варианте.
Следует обратить внимание на то, что до печорских собирателей на архангельском Севере уже работали с фонографом выдающиеся ученые-филологи А. Д. Григорьев (Беломорье, Пинега, Кулой, Мезень), А. В. Марков и совместно с ним ученый-музыковед А. Л. Маслов (Беломорье).
Первый собиратель былин на Печоре Н. Е. Ончуков (1900-е гг.) напевов не записывал, звукозаписей не делал. Самая ранняя звукозапись фрагмента печорской былины была произведена собирателем ненецкого фольклора, Г. Д. Федоровым в 1914 г. в Пустозерской волости Архангельской губернии. Она осталась незамеченной и публикуется впервые (№ 64, см. коммент.). Около десяти фонограмм былин и баллад печорских сказителей привезла в 1929 г. экспедиция Государственного института истории искусств (ГИИИ) Ленинградского отделения Академии искусствознания (ЛОГАИС). Напевы были частично опубликованы в «Приложениях» к книге
137
А. М. Астаховой «Былины Севера» Т. 1. (М.; Л., 1938; напевы № VIII—XI). Здесь, в «Замечаниях о напевах мезенских и печорских былин», Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, идя вслед за исследованием А. Л. Маслова «Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад» и используя терминологию последнего, предложили характеристику напевных сказительских стилей Печоры как явления субрегионального порядка.115
Объединением печорского и мезенского эпического материала авторы «Замечаний о напевах» признают стилевую общность системы интонирования обеих стилистических зон и стремятся воссоздать по возможности полную картину традиции, опираясь, впрочем, на довольно скудное количество звуковых образцов.
Экспедицией 1929 г. на Печоре были зафиксированы лишь два «главных» типовых напева «полного эпического размера» (по Маслову). Третий типовой напев, записанный тогда же, но получивший неверное название сюжета («Чурило» вместо «Туры») при некачественной звукозаписи, не был расшифрован в свое время и публикуется впервые (№ 205 наст. изд., — ср. с более поздними фиксациями № 103, 211).
Наиболее полную картину типологии напевных форм печорского былинного эпоса дали материалы экспедиции Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 1955—1956 гг., — напевы, опубликованные в книге «Былины Печоры и Зимнего берега Белого моря».116
Последующие магнитофонные записи 1960—1980 гг. большей частью повторяют прежние записи от тех же исполнителей. Среди них следует отметить качественные, полные звукозаписи Д. М. Балашова и Ю. Е. Красовской, которые послужили основным материалом для создания звуковых приложений к настоящему изданию (грампластинки к текстам № 114, 179, 242, 88, 227, 89, 87, 54).
В корпус издания вошли также расшифровки текстов и нотировки былин с граммофонных пластинок 1967 г. ГОСТ 5289-68, доски Д-024791-92 и Д-025677-78 (Прилож. V, № 1—6). Всего в двух томах публикуется 80 напевов печорских былин, представляющих до пяти категорий напевов, распространенных на поморско-архангельском Севере.
Эпические напевы поморско-архангельского региона, протянувшегося по морским побережьям от Белого моря до Уральского хребта, включая бассейны великих северных рек, принято характеризовать как некую антитезу «олонецкому» (обонежскому) стилю сказывания, не знавшего артельного, коллективного сказительства.117
Если основу обонежского эпического стиля в системе напевного интонирования составляют музыкально-разнофразовые тирадные мелострофы, в которых «неравносложные строчки текста поются не только на весь напев в целом, но и на различные сочетания его частей», то в мезенско-печорской традиции преобладают «строчные» формульные напевы, в которых «неравносложные строки укладываются всегда по одной на нерасчлененный напев путем дробления или стяжения музыкальных длительностей».118
Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд подчеркнули важное свойство былинного напевного стиха: «В мезенско-печорской былинной традиции лежит не столько тонический, сколько квантитативный принцип, т. е. ударные слоги
138
текста выделяются сменой длительностей более кратких на более долгие».119 «Акцентность при этом носит подчеркнуто-смысловой характер».120
В «Заметке о напевах мезенских и печорских былин (Аст., I., с. 546) Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд предложили применить критерий одномерности напевно-декламационного времени (музыкальная «мора» равна одной восьмой ноте), при котором элементарные и слогораспевные метры можно рассматривать в единой системе измерения:
Печора. «Бутман». 11+9 восьмых (3.2333.33 восьмых):

Мезень. «Подсокольник». 7+6 четвертей (2.222, 2222.222,22):

Если бы авторы «Замечаний о напевах» сравнили в этой системе одинаковые типовые напевы упомянутых соседних территорий, мы могли бы увидеть существенные различия в метроритмике кадансовых частей (окончаний музыкальных фраз):
Печора: 11+9 восьмых = 3.2333.33 восьмых,
Мезень: 11+9 восьмых = 3.2333.222 восьмых.
Или в другом случае;
Печора: 7+7 четвертей = 2.222,2222.2222,22 восьмых,
Мезень: 7+6 четвертей = 2.222,2222.222,22 восьмых.
При современном состоянии эпосоведения трудно оспаривать установленную первичность рапсодических форм тирадной речитации в эпосе по отношению к распевно-мелодическим; свободных структур напевного стиха по отношению к канонизированным, развитым, строфным. Именно в такой последовательности раскрывается перед нами картина эволюции жанра и особенности типовых напевов печорских былин со всей исторической амплитудой их отношений.
Сказительские напевы Печоры неоднородны по ладово-интонационным характеристикам. Среди них отчетливо выделяются напевы с квартовой и квинтовой основой, расцвеченные вспомогательными и опевающими тонами, терцовыми удвоениями в артельных подхватах, что значительно расширяет диапазоны звукорядов, не меняя их
139
основы. Особое место занимают напевы терцовой ладовой основы с субквартой в кадансах (иногда — заполненной, в виде нисходящего трихорда). Их ладовую характеристику в данном случае (напевы № 8, 15, 19) можно прочитать как в диатонической, песенной связи тонов, так и в возгласно-попевочной, речитативной связи.121 Интересно отметить, что сказительские напевы с терцовой и квартовой ладовой основой часто родственны или близки напевам причитаний. Тем самым подтверждается их безусловная «древность» по отношению к напевам квинтовой основы.
Последние же, как уже говорилось выше о развитых слогораспевных формулах, перекликаются в структурах напевного стиха с былинными песнями донских казаков.122
В книге «Былины Печоры и Зимнего берега Белого моря» (БП), согласно данным истории заселения Печоры с XI по XVI вв., среднепечорская и нижнепечорская эпические традиции разделены в структуре издания, как несущие, с одной стороны, черты «новгородской» этнокультуры (Средняя Печора), с другой же стороны — «московской» (Нижняя Печора). Однако в Усть-Цилемском регионе упоминается притаившийся вдали от селений Великопожненский скит, который основан также московскими раскольниками. При общепоморском характере артельного промысла (печорцы также хаживали на беломорский промысел «на-Кеды») вся протяженность Печоры являлась столбовой дорогой промысловых артелей и, поэтому вряд ли целесообразно говорить о замкнутости стилевых зон печорского былинного эпоса. Вместе с тем в упомянутой выше книге авторы-составители пишут о некоторой избирательности сюжетов и сюжетных мотивов, придающих своеобразие «верховской» и «низовской» стилистическим зонам. Более осторожен в своем музыковедческом очерке Ф. В. Соколов.
Метроритмические формулы «главных» типовых напевов на всем протяжении Печоры — едины:
1. 11+9 восьмых = 3.23,33.33 восьмых,
2. 7+7 четвертей = 2.222,2222.2222,22 восьмых.
В цифровом выражении метроритмических формул точки означают тактовые черты, запятые — внутреннее пунктирное членение тактов. Наиболее существенными оказались некоторые ладовые признаки субрегиональных различий в напевах второй формулы. Среднепечорским напевам 7+7 четвертей свойственно минорное наклонение, более декламационный характер. Нижнепечорская разновидность — мажорна, более «торжественна». Как на Средней Печоре, так и в ее низовье зафиксированы напевные формы, сопутствующие «главным» типовым напевам, формы, замеченные в одном из районов Печоры, или уникальные на Печоре, но являющиеся типовыми для других мест Архангельщины.
Характеристика эпических напевов Печоры в настоящем издании строится по схеме: от простейших, кратких речитативного стиля — к каноническим, формульным, затем — слогораспевным, с песенными мелодическими характеристиками. Сначала рассматривается группа напевов «элементарного» метрического пульса (нечетные и смешанные восьмушечные метры), затем — группа напевов четного пульса (четвертные метры).
1. Напевы элементарного метроритма
1.1. Типовой нижнепечорский напев речитативного стиля с непостоянной слоговой структурой стиха менее 8 и более 10 слогов, одно-двухакцентный. Ладовая основа — терцовый трихорд с падающей субквартой (или нисходящим квартовым трихордом). В настоящем издании № 8, 15, 19.
Этот напев содержит признаки музыкально-разнофразовой тирадной периодичности, являющейся основой обонежского сказительского стиля. В № 8 зачинная фраза напева и концовочные (форма абб) различаются в кадансах. В № 15 помимо кадансовых чередований, чередуются «возгласные» части музыкальных фраз. Наконец, в № 19 чередования зачинных и концовочных музыкальных фраз напева весьма прихотливы. В начале былины
140
преобладают серии «возгласных» (зачинных) музыкальных фраз: для сказителя здесь почти каждый напевный стих как бы представляется важным, ударным по смыслу. Такие смысловые «сбои» в тирадном рапсодическом стиле встречаются и у обонежских сказителей.123
Любопытна интонационная близость этого печорского былинного напева с новгородско-псковской причетью (старина о Кострюке печорского сказителя Т. С. Кузьмина и причеть — Традиционный фольклор Новгородской области., Л., 1979, № 447):124
Кострюк (Печора)

Свадебная причеть (Новгород)

Для печорского былинного эпоса более характерна «скрытая» тирадность сказительской напевной речи, заключающаяся во внеинтонационных признаках образующихся смысловых периодов: однофразовый «строчный» напев, охватывающий несколько стихов тирадной структуры, в конце смыслового периода прерывается паузой или заканчивается протяженным заключительным тоном.
Например, № 7 (см. напев):
Тирады 1. | Выезжал ведь Святогор во чисто полюшко. |
Тирады 2. | Ничего-то Святогор да не нахаживал, |
Тирады 3. | Увидал-то Святогор да в чистом полюшке: |
или, например, № 38 (см. напев):
Тирады 1. | Ай во славноём во городи во Киеве, |
Тирады 2. | Ай на князе́й-то, на бояр да ле толстобрюхиих, |
141
Проблема разнофразовой и строчно-напевной количественной тирадности эпических напевов, раскрывающая нам механизм рапсодического мышления, возможно, в какой-то степени связана с тайной утраченного самоаккомпанемента в русских былинах.125
1.2. Формульный напев распевно-декламационного метроритма 9+9 восьмых (3.333.222 восьмых), с одиннадцатисложной характеристикой стиха. Записан в дер. Устье (Нижняя Печора, 1956 г.) с текстом баллады «Князь, княгиня и ста́рицы» от переселенки из г. Онеги Архангельской области (Былины. Русский музыкальный эпос. М., 1981. № 102).126

Интонационный вариант — Карельское Поморье, дер. Колежма (1972 г., Фонограммархив ИРЛИ. МФ. 857.01). Баллада о мучениях Егория Храброго:

Смена нечетной дольности на четную в кадансе первого напева характерна для беломорских и мезенских напевов этого типа. Вместе с тем черты общерегионального архангельско-поморского стиля достаточно явственны. Интересна ладовая структура с септимовой интонацией между зачинным возгласом напева и его завершающим тоном (нижняя секунда), избегание опоры на тонике, неожиданное «фригийское» наклонение в кадансе.
1.3. Развитой формульный напев распевно-декламационного метроритма 10+9 (3.23,23.33) восьмых. Индивидуальный сказительский вариант «главного» типового напева 11+9 восьмых (см. ниже) с 12—14-сложной характеристикой стиха. Этот напев Т. С. Кузьмина — один из самых красивых печорских напевов данного типа (см. №№ 22 и 148). Особую выразительность придает ему регулярная смена дольности и суровая красота опеваемой «тритоновой» интонации.
1.4. Развитой формульный напев распевно-декламационного метроритма 11+9 (3.23,33.33) восьмых с 12—14-сложной характеристикой стиха — «главный» типовой напев элементарного метроритма. См. среднепечорские № 14, 38, 50 — коммент., 62, 54, 87, 113, 114, 130, 130 — коммент., 139, 150, 164, 169, 179, 179 — коммент., 216 коммент. а, б, 218 — коммент., 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 234, 242. Нижнепечорские — №№ 37, 86, 130, Прилож. I № 34. Плавная мелодическая «текучесть» этих квинтовых напевов, в ансамблевых вариантах достигающих широкого диапазона (септима, октава), воспроизводит образ философического, неспешного сказывания, в котором сказитель в наилучшей степени может показать свои вокальные данные, певческое мастерство (см. орнаментированные распевы Н. Ф. Ермолина, Г. В. Вокуева, В. И. Лагеева).
142
2. Напевы второй группы (метроритмы сдвоенного пульса)
2.1. Типовой краткий формульный напев речитативного стиля 4+3 четверти (2.2222.22 восьмых), терцово-квартовой ладовой основы, с одиннадцатисложной характеристикой стиха (вариант 2.232.22 восьмых) Записан в 1955 г. от дочери среднепечорского сказителя Н. Ф. Ермолина, Рочевой П. Н., с сюжетом баллады «Мать и дочь в татарском плену» (Песни Печоры, М; Л., 1963, № 132; ср. с напевами в сноске 120 на с. 138):

Вариант (причетные диалоги: Мезень 1976, Ф-А ИРЛИ, МФ. 1063.03, опубл. в альбоме 2-х грампластинок «Традиционные песни Мезени» с нотами и текстами, «Мелодия», индекс М20-44641-4, М; Л., 1983 г., напев № 2):

Вариант (Былина). Песенный фольклор Мезени, М; Л., 1967, № 230)

2.2. Типовой формульный напев распевно-декламационного метроритма 7+6/4 (12.222,2222.2222,1 восьмых), с квартовой ладовой основой и 12—14-сложной характеристикой стиха. Записан от среднепечорских сказителей с разными сюжетами: № 103, 211, 205 — коммент. (вариант 7+7 четвертей).
№ 103. Былина «Илья Муромец и Калин-царь»

Причеть. Русская свадьба карельск. Поморья. Петрозаводск, 1980. С. 94

143
Причеть. Русская свадьба Терского берега Белого моря. Л., 1979. С. 30

Не составляет труда заметить сходства формирования интонации в напевах былин и коллективной причети. В былине краткие интонационные ячейки-попевки волнообразно «всплескивают», задевая тонику и ударяя в терцовый тон, в лишь в конце музыкальной фразы акцентируют квартовый предел, чтобы подчеркнуть окончание напева на неустое («открытая» интонация). В причетных формулах (первая из них несет нагрузку разнофразовой тирадной структуры) — при том же характере интонирования — сильнее ощущается многократное вариативное возвращение к тонике, более вязкая композиция.
Бесконечная неотвратимость музыкального образа коллективной «побудительной» причети и текучесть образа неспешного, по-словечно орнаментированного напевного сказания былины совпадают. Нами пронумеровано «декламационное время» в единицах, равных одной восьмой ноте, чтобы подчеркнуть, видимо, — не случайное совпадение ритмического пространства сопоставляемых напевов. Вместе с тем очевидно, что интонационное развитие коллективной причети, призванное нести в своем потоке причетный голос побуждаемого индивидуального персонажа (невесты), отнюдь не способствует донесению текста во вне, тогда как в былинах (как и в «личной» причети) именно эта интонационная задача является функционально главной.
2.3. Развитой формульный напев распевно-декламационного метроритма 7+7 четвертей (2.222,2222.2222,22 восьмых) с квинтовой ладовой основой и 12—14-сложной характеристикой стиха. «Главный» типовой напев чётного пульса.
Достаточно сравнить напев Е. П. Чупрова из предыдущей группы 2.2., в котором сказитель пользуется метроритмической схемой 7+7 четв., с его же «главным» типовым напевом, чтобы ощутить принципиальную разницу в мелодических образах обоих напевов:
№ 205 коммент., былина «Василий Игнатьевич» (Е. П. Чупров)

№ 81, былина «Илья Муромец и Сокольник» (Е. П. Чупров)

Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, вскрывая «квантитативную природу» стиха этого «главного» напевного типа, отметили удивительно упругое нарастание ритмического утяжеления в слогопроизнесении былинного стиха: 11.222,2222.44,4 (см. на с. 138).
Ожидание тоники на протяжении фразы напева настолько интонационно и ритмически обострено, что утверждение ее кажется недостаточным, напев повторяется.
Интонационный образ напева предельно динамичен, но вместе с тем — утвердителен, дерзок, торжественен, каким может быть обращение верхово́го бога́тыря. Прямая речь героев, передаваемая этим напевом, исключительно выразительна, драматургична.
144
Среднепечорские варианты — № 70 — коммент., 79 — коммент., 81 — коммент., 82, 88, 89, 90, 99, 137, 179-а — коммент.
Нижнепечорские варианты — № 7, 33, 53, 64, 189, 195, 210, 240, 258, 281, Прилож. I, № 34, 35, Прилож. IV, № 2, 3.
Сюда же следует отнести напевы того же типа с импровизационным раскрепощением формы (усечения нарастания формы напевного стиха), — Среднепечорские № 90, 99, 139, Прилож. I, № 18; нижнепечорский № 85. Последний записан от племянника Е. П. Чупрова (ср. с № 88) — Фоментия Алексеевича Чупрова.
Отличительным свойством исполнения Ф. А. Чупрова является наиболее последовательно выдержанный принцип двойного пропевания стиха. Эпизодически эта манера проскальзывает и у других сказителей.
2.4. Развитой формульный квинтовый напев распевно-декламационного метроритма 8+8 четвертей (22.2222,2222.22 22,22 восьмых) с 12—14-сложной характеристикой стиха. Индивидуальный напев среднепечорского сказителя Л. М. Носова — № 189 (но он владеет и «главным» — № 137). Напев № 189 отличается исключительным динамизмом формы (см. выше), является вариантом «главного».
2.5. Развитой напев распевно-декламационного метроритма, с неустойчивой структурой, преимущественно 9+7 и 10+6 четвертей, — 22.(2)222,222,222.222,(2)2 восьмых. Уникален на Печоре. Записан от среднепечорского сказителя Т. С. Дуркина с несколькими сюжетами былин (№ 12, 13, 51, 51 — коммент., 79).
Несмотря на большую пространственную протяженность и значительные слогораспевные элементы, напев не обладает признаками песенной формульности. Декламационно-распевный характер интонирования сходен с отмеченными нами напевами группы 2.2 и так же соотносится со структурой коллективной причети (Песенный фольклор Мезени. М.; Л., 1967, № 201). Вариант напева записан А. Д. Григорьевым на Пинеге с сюжетом «Добрыня и Змей» (Григорьев, М., 1904. Т. I, напев № 32).
Печора, № 13 в наст. изд. «Добрыня и Змей»

Мезень. Свадебная коллективная причеть

Пинега. Добрыня и Змей
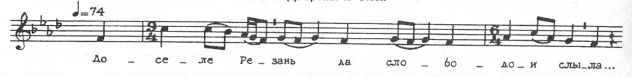
Признаки «квинтовости» в печорском, по существу квартовом, напеве следует отнести за счет возможного ансамблевого удвоения мелодии (ансамблевой ориентации мышления сказителя).
Интонационный образ напева благороден, нетороплив, обстоятелен и выразителен в речевом отношении благодаря попевочной обособленности каждого слова. При столь замедленном пропевании слов сказитель имеет редкую возможность оттенить важное по смыслу слово фиоритурой или паузой.
145
***
Обзор напевов печорских былин вскрывает музыкально-стилистическое разнообразие и богатство местной эпической традиции. Отчетливо и ярко, как никогда раньше, выступает роль выбора сказителями, признанными мастерами, эпических напевов как «заданного тона» повествования в зависимости от психологической ситуации исполнения и не в последнюю очередь — от характера сюжета: должен ли сказитель перевоплощаться в напевной речи, говоря дерзким языком героев, или бесстрастно, «летописно» освещать ход событий, захватывающих своей значительностью.
В напевах печорских былин вскрывается картина одновременной жизни древнейших музыкально-речевых форм, импровизации и канонических форм распевных, близких песенным, поздних. Просматриваются широкие связи традиции с другими этнокультурными районами Русского Севера и в первую очередь районами беломорско-архангельской этнической общности. Вместе с тем создается впечатление особой, «эталонной», чистоты печорской эпической традиции, будто некая этнокультурная масса, прокатившаяся в далекие времена по Архангельщине с Запада на Северо-Восток, застыла на Печоре своим «главным стойбищем», оставив по пути шлейф все большего смешения традиции к Западу. И не была ли прародиной этой волны, вобравшей в себя и новгородские приметы, Ростово-Суздальская земля, дававшая выплески культуры на Дон? Об этом настоятельно напоминают печорско-донские сходства напевных форм.
Сноски к стр. 79
1 Бернштам Т. А. Поморы. Л., 1978. С. 33.
Сноски к стр. 80
2 Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства / Изд. Археогр. комиссии. СПб., 1838. № 341а, «Купчая» 1593 г.; Сборник грамот Коллегии экономии. Пг., 1922. Т. 1 № 408, «Дозорная память» 1606 г.; Печорский край. Подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. СПб., 1904. С. 32, 34.
3 Географически принято делить бассейн Печоры на нижнюю (с р. Цильмой) и верхнюю часть, но в этнической истории явно выделяются три района — Верхняя, Средняя и Нижняя Печора.
4 Печорский край. С. 35.
5 Лащук Л. П. Очерк этнической истории Печорского края. (Опыт историко-этнографического исследования). Сыктывкар, 1958. С. 74.
Сноски к стр. 81
6 Печорский край. С. 260—262.
7 Еще в начале XX в. в огромной Усть-Цилемской волости было всего 3 церкви, а в Пустозерской — 5.
8 Истомин Ф. И. Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1890 // Известия Русского географического общества. 1890. Т. 26. С. 13. Малышев В. И. Археографическая экспедиция в Усть-Цилемский р-н Коми АССР // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 426.
9 Лашук Л. Н. Очерк этнической истории. С. 145, 147, 148.
10 Там же. С. 148.
Сноски к стр. 82
11 Печорский край. С. 26—33.
12 Там же. С. 250—253.
13 Там же. С. 4, 26—37.
14 Там же. С. 5.
15 Там же. С. 192, 201, 244—262.
Сноски к стр. 83
16 Там же. С. 7, таблица.
Сноски к стр. 84
17 Там же. С. 9—12.
18 Там же. С. 14, 15.
19 Там же. С. 14, 15.
20 Там же. С. 16, 17, 217—248.
21 Там же. С. 215, 216.
22 АМАЭ, ф. 22, оп. 1, № 2, л. 7 об. Полевые материалы Г. В. Василевич на Нижней Печоре, 1928—1929 гг.
23 Печорский край. С. 26—37.
Сноски к стр. 85
24 Там же. С. 206—210.
25 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. М., 1904. Т. 1. С. 16, 148, 149.
26 Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967.
Сноски к стр. 86
27 АМАЭ, ф. 22, оп. 1, № 2, л. 11, 12. Полевые материалы Б. В. Василевич на Нижней Печоре, 1928—1929 гг.; АМАЭ, ф. 2, № 5, л. 21, 22 об. Г. Б. Вербов. Полевой дневник 1930 г. на Малой Земле (Волконская Губа).
28 См., например, последнюю работу Л. Н. Жеребцова. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. X — начало XX в. М., 1982. Подобные избушки строили и в начале XX в. на новом месте; первопоселенцы Окунева Носа 1-го построили баню, в которой прожили зиму. См.: Печорский край. С. 252.
29 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX — начало XX в. М., 1958 (Труды Института этнографии АН СССР. Новая сер.; Т. 45) и др. работы.
30 См., например: Дмитриева С. И. О роли субстрата в сложении этнических групп Русского Севера (по материалам фольклора и изобразительного искусства) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. Докл. сов. делегации на VIII Междунар. съезде славистов. М., 1978. С. 264—282.
Сноски к стр. 87
31 См., например: Тарановская Н. В. Росписи на Мезени и Печоре (о формировании местных художественных стилей) // Русское народное искусство Севера. Л., 1968. С. 47—59.
32 Травин Д. Опись коллекций, собр. Печорским отрядом в 1921 г. на Печоре. Архангельск, 1922.
33 АМАЭ, ф. 2, оп. 1, № 5, л. 14. Записи Г. Д. Вербова в 1930 г.; сообщение А. Терюкова (полевые материалы автора, собранные в 1980 г. и находящиеся в Петербургском отделении Архива МАЭ).
34 АМАЭ, ф. 22, оп. 1. № 2, л. 14 об. Записи Г. В. Василевич в 1928—1929 гг.
35 Там же, л. 15.
Сноски к стр. 90
36 Описание печорских версий, редакций и изводов, а также перечень их основных особенностей см. в комментариях.
Сноски к стр. 93
37 Молва о высоком исполнительском мастерстве таких классиков русского эпоса, как Т. Рябинин, А. Чуков, Н. Прохоров, распространилась чуть ли не по всему Прионежью. Но их оригинальные обработки былинных сюжетов практически не вышли за пределы нескольких деревень на родине сказителей (исключая, разумеется, заимствования через книгу).
38 Следует оговориться, что и в других регионах былины сказителей с большим репертуаром восходят не к одному, а к нескольким источникам (А. Крюкова, Т. Г. Рябинин, П. И. Рябинин-Андреев, Н. Богданова, Г. Якушов, Ф. Конашков, И. Фофанов, П. Воинов и др.).
Сноски к стр. 103
39 См. также вариант «Щелкана» с Карельского берега: Исторические песни XIII—XVI вв. / Изд. подгот. Б. Н. Путилов и Б. М. Добровольский. М.; Л., 1960. № 44.
Сноски к стр. 106
40 РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3075.
41 Цит. по ст.: Мельц М. Я. А. Н. Пыпин и русская фольклористика конца XIX — нач. XX в. // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1963. Вып. 2. С. 127, 128.
42 Истомин Ф. М. Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1890 года // Известия Русского географического общества. 1890. Т. 26, вып. 2. С. 433, 434.
Сноски к стр. 108
43 Известия Отделения русского языка и словесности имп. АН. 1902. Т. 7, кн. 3. С. 277—355.
44 Печорские былины. Записал Н. Ончуков. СПб., 1904.
45 Архив РГО, разр. 110, оп. 1, № 87. Опубл. в 1905 г. в «Приложениях» к отчету о-ва за 1904 г.
Сноски к стр. 109
46 См.: Микушев А. С. Коми эпические песни и баллады. Л., 1969.
Сноски к стр. 111
47 Тексты А. Н. Хаханзыкской помещены в «Приложении II».
Сноски к стр. 112
48 Богословский П. С. Материалы к диссертации «Сборник Кирши Данилова в связи с проблемой эпической традиции». (Разрозненные черновые рукописи). См.: РО ИРЛИ РАН, ф. 690, оп. 1, ед. хр. 33, л. 229—231. Отдел народнопоэтического творчества ИРЛИ благодарит Л. А. Новикову за разыскание в Гос. архиве Пермской области (1998 г.) печорских фольклорных записей и дневников Г. И. Маркова. Встретив «былинщину» (былевую традицию), собиратель не зафиксировал текстов былин.
Сноски к стр. 113
49 Леонтьев Н. П. Печорский фольклор. Архангельск, 1939. С. 6. В основу книги легли экспедиционные материалы 1936 г. В сборник «Печорский фольклор» включено 11 былин.
Сноски к стр. 115
50 Детально все эти моменты оговорены в комментариях.
Сноски к стр. 116
51 Русский фольклор. Из истории русской народной поэзии. Л., 1971. Т. 12. С. 230—237.
Сноски к стр. 118
52 Архив ИРЛИ, Р. V, колл. 6. Часть песен опубл. в сб.: Песни Печоры / Изд. подгот. Н. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Б. М. Добровольский, М.; Л., 1963.
53 Из всех материалов, кроме былин, опубликованы лишь причитания. См.: Русская народно-бытовая лирика. Причитания Севера в записях В. Г. Базанова и А. П. Разумовой. М.; Л., 1962.
54 Архив ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1—6 (Большинство текстов песен представлено в сборнике «Песни Печоры»).
55 В 1950 г. здесь работал А. С. Абрамский. См.: Абрамский А. Песни Русского Севера. М., 1959. В 60—70-е гг. фольклорную традицию региона обследовали Ю. Е. Красовская и М. Б. Чернышева.
56 Савушкина Н. И., Селиванов Ф. М. Коротко об экспедициях // Советская этнография. 1980. № 2. С. 157; Харитонова В. И., Иванова А. А. Коротко об экспедициях // Советская этнография. 1981. № 5. С. 178.
57 Соколова В. К. Русские исторические песни XVI—XVIII вв. М., 1960. С. 311.
Сноски к стр. 119
58 Любопытно отметить, что фольклористы МГУ в 1978 г., т. е. спустя 23 г. после экспедиции ИРЛИ, записали второй вариант песни с зачином «Баю-баюшки, да спи, татарский сын» от той же исполнительницы.
59 Лишь песня «Девушка в татарском полоне», опубликованная Н. П. Леонтьевым, не имеет вариантов. См.: Печорские былины и песни. № 60.
60 Известны два варианта песни, записанные в разных печорских деревнях Ончуковым и Леонтьевым. Оба варианта примечательны тем, что генерал, граф З. Г. Чернышев, томящийся в Кюстринской крепости, назван племянником Степана Разина. Подробнее см.: А. Н. Лозанова. Социальные переосмысления песен о графе Захаре Григорьевиче Чернышеве // Советский фольклор. 1935. Вып. 2—3. С. 273—292.
61 Н. Е. Ончуков не опубликовал этот текст, но спустя 40 лет баллада была записана от А. А. Шишоловой. В этом тексте действие также перенесено в Киев, а главными героями являются князь Владимир и княгиня Апраксия (БП. № 17. С. 94, 95; отметим, что в комментариях песня названа былиной; ср.: там же. № 40. С. 131 — «маленькая старина»; Аст., I, с. 57 — «былина»).
Сноски к стр. 120
62 Печорские былины. № 82. С. 325—329 (вар. БП: № 64, с. 177, 178).
63 «Вдова Пашица» («Братья-разбойники и сестра»), «Девица отравила молодца», «Три жеребья», «Муж-солдат в гостях у жены» и т. д.
64 Песни Печоры. С. 11.
65 Там же. С. 11.
66 Там же. С. 28.
67 Безусловно, в ряде случаев тексты записей 1978, 1980 и 1981 гг. стали короче, менее богаты художественными образами, чем записи 1929, 1955—1956 гг., но главное, что материал, зафиксированный прежними и нынешними собирателями, во многом совпадает.
Сноски к стр. 121
68 Некоторые потомки известных печорских исполнителей, которые в 1955—1956 гг. были людьми средних лет, судя по записям 1978, 1980 гг., сохранили, а нередко и расширили свой репертуар.
69 Повсеместно распространены, так называемые, «девье» (Песни Печоры. № 124, 125, 288) и «женатое» виноградия (там же. № 126, 127), но отдельные исполнители помнят еще величание «мужское холостье», а также виноградия, предназначенные для детей.
70 Наряду с величальными святочными на Печоре бытуют вечериночные величальные припевки и ограниченное число свадебных величаний.
71 Базанов В. Г. Причитания Русского Севера в записях 1942—1945 гг. // Русская народно-бытовая лирика. С. 14.
72 И наоборот, в текст былин нередко проникали художественные образы из причитаний. Примеры приведены в статье А. М. Астаховой, Э. Г. Бородиной-Морозовой, Н. П. Колпаковой, Н. К. Митропольской «Былинная традиция Печоры и Зимнего берега в последнее двадцатипятилетие» (Былины Печоры и Зимнего берега. С. 16, 20).
73 По наблюдению фольклористов, на Печоре (Нижней и Средней), очевидно, никогда не существовало как развитого свадебного обряда, так и свадебных песен, обычно сопровождающих разные моменты свадьбы. Причиты (показательно, что в 1978 г. их было записано 42) и неразвитый цикл величаний — вот, собственно говоря, и весь репертуар печорской свадьбы. Остальные же песни, поющиеся на свадьбах, — это традиционные протяжные и лирические песни, а также частушки, которые поются в деревне в любой ситуации.
74 В архивах МГУ и СГУ есть даже тексты поминальных причитов, исполняемых мужчинами средних лет на могилах своих близких родственников.
Сноски к стр. 122
75 На Нижней Печоре тот же круг песен называется «луговые» песни. Это объясняется Н. П. Колпаковой тем, что здесь берега «очень низки и плоски и зачастую не представляют собой даже маленькой возвышенности» (Песни Печоры. С. 22).
76 Подробное описание дано в указанном сборнике. С. 14.
77 Фольклористы МГУ выделяют ряд деревень (например, Степановскую и Загривочную), где девушки хорошо знают традиционные горочные песни.
78 Былинная традиция Печоры и Зимнего берега в последнее двадцатипятилетие. С. 15, 16.
79 Ряд подобных наблюдений был сделан в свое время Н. Е. Ончуковым.
Сноски к стр. 123
80 Всего в 1978, 1980 гг. было записано около 180 текстов.
81 Н. Е. Ончуков опубликовал в сборнике «Северные сказки» некоторое число преданий и быличек, но из других районов. Н. П. Колпакова пишет, что в 1929 г. «преданий, легенд, заговоров и других небольших произведений фольклора мы не нашли почти совсем (их как-то не слышно в быту)» (Колпакова Н. П. У золотых родников. Записки фольклориста. Л., 1975. С. 191). Экспедиции 1955—1956 гг., как уже отмечалось, записывали главным образом песенные жанры.
82 Максимов С. В. Собрание сочинений. СПб., б. г. Т. 9. С. 342.
83 Ончуков Н. Е. Печорская старина // Известия Отделения русского языка и словесности имп. АН. — 1905. Кн. 2. С. 339.
Сноски к стр. 124
84 Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для имп. Академии наук в Олонецком крае. СПб., 1913.
85 Малышев В. И. Сведения о собраниях рукописей и старопечатных книг в некоторых городах северных областей // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 247.
86 Мы не учитываем здесь 133 рукописи XVI—XX вв., найденные в верховьях Печоры и составившие Верхнепечорское собрание Древнехранилища. Старопечатные книги поступили в ОРК НБ СПбУ.
87 Малышев В. И. Устьцилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 21—23.
Сноски к стр. 125
88 Там же. С. 47—164, а также: Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1961. Т. 17. С. 571—604.
89 Описание 44 ед. хранения см.: Малышев В. И. Переписка и деловые бумаги устьцилемских крестьян XVIII—XIX вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 442—457.
Сноски к стр. 126
90 Публикацию памятника см.: Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 476—480 (Неизвестный памятник устьцилемской литературы XVIII в.).
91 Публикацию текста см.: Древнерусские рукописи Пушкинского Дома (обзор фондов) / Сост. В. И. Малышев. М.; Л., 1965. С. 184—186.
92 Эти стихиры стали предметом монографического исследования. См.: Бражников М. В. Федор Крестьянин. Стихиры / Публикация, расшифровка и исследование. М., 1974. (Памятники русского музыкального искусства; Вып. 3).
93 См., например: Тарановская Н. В. Росписи на Мезени и Печоре. (О формировании местных художественных стилей) // Русское народное искусство Севера: Сб. статей. Л., 1968. С. 56—58.
Сноски к стр. 127
94 См.: Денисенко Ю. Ф. Шепелявые свистящие в печорских говорах // Северно-русские говоры. Л., 1970. Вып. 1. С. 67—75.
95 См.: Чернышев В. И. Заметки о языке «Печорских былин» // Печорские былины. Записал Н. Е. Ончуков. СПб., 1904. С. XXXVI и сл.; основные особенности северно-русского акцента рассмотрены в статье: Колесов В. В. Словесное ударение в пинежских говорах // Северно-русские говоры. Л., 1970. Вып. 1. С. 5—25.
Сноски к стр. 128
96 О промежуточных фонетических стадиях такого проникновения, связанного с заимствованием слов, см в статье: Колесов В. В. Расшифровка фонетической системы современного говора на материале северно-русского цоканья // Северно-русские говоры. Л., 1975. Вып. 2.
Сноски к стр. 130
97 См.: Кузнецова О. Д. Слова с протетическим ј на Севере // Диалектная лексика 1974. Л., 1976. С. 82—98.
Сноски к стр. 131
98 Подробнее об этой особенности старобылинных текстов см.: Колесов В. В. Отражение фонетических особенностей речи в ранних записях фольклорных текстов // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1977. С. 40—43; Он же. Отражение корреляции согласных по мягкости-твердости в старых записях былин // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1979. С. 109—121.
99 Примеры и сопоставления см.: Колесов В. В. Различительные особенности языка и письма в северно-русских рукописях из собрания Пушкинского Дома // Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972. С. 337—271.
Сноски к стр. 132
100 См.: Лисенкова Д. Т. Русский старожильческий говор села Трусово Усть-Цилемского р-на Коми АССР. Канд. дис. Сыктывкар, 1964; Силина Г. Я. Пинежье. Л., 1970; Русская диалектология. М., 1972, С. 122—205; Пирогова Л. И. Говор Холмогорского района Архангельской области. Канд. дис. М., 1962.
101 Ивашко Л. И. Лексика печорских говоров. Канд. дис. Л., 1956.
102 Видное место в быту языческих еще славян занимало сказительское пение «кощюнников» — волхвов различного ранга (кощуны-мифы, погребальные кощуны) и «боянов» — певцов-сказителей «преславных делес». Нередко бояны оказывались и волхвами. См.: Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 314, 315. (Волхвы и мифы).
А. Н. Веселовский, считая невозможным возводить весь богатырский эпос к эпосу мифологическому, полагал начало эпоса в рассказах о борьбе не небесных, а земных врагов: «...какое-нибудь из тех несложных житейских событий, которые так часто переносились в миф» <...> могло в сильной степени овладевать вниманием первобытного клана <...>. Об этом должны были рассказывать или петь» (Вестник Европы. 1873. № 10. С. 657—658).
Г. М. Василевич, в книге «Исторический эпос эвенков» (М.; Л., 1966), характеризуя этико-дидактическую систему в фольклоре родовой общины современных нам эвенков, пишет, что лишь посвященным, зрелым людям сказывались героические напевные сказания и предания, которые формировали их «представления об идеале охотника-воина, показывая его выносливость, храбрость, стойкость, знакомили их с людьми другой культуры» (с. 4—5). Там же содержится важное наблюдение: «Каждый герой имеет свой запев, дающий мотив <...>. В некоторых случаях можно установить, что постоянное слово запева прежде было именем героя, названием его рода, а, возможно, и племени» (с. 12).
Сноски к стр. 133
103 О включениях причети в былинные тексты см.: Астахова А. М.. Былинное творчество северных крестьян. (Аст., I, с. 18—26).
104 Отмечено, что в памятниках древнерусской письменности деловая повествовательная речь строилась по принципу неметрической тирадной рифмовки (Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 212). Эти наблюдения позволили отразить интонационную структуру «Слова о полку Игореве» тирадной графикой в текстологической редакции (Повести Древней Руси. Л., 1983. С. 378 и след.).
105 Музыкальная энциклопедия. М., 1974. Т. 2. С. 322 (в изложении В. Л. Гошовского).
106 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 4-е изд. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 31; Маслов А. Л. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад // Труды Музыкально-этнографической комиссии. М., 1911. С. 299—327. (МЭК).
Несмотря на то что неравносложный напевный стих и тирадная форма в былинах были замечены на «эстетическом» уровне первооткрывателем олонецкого эпоса П. Н. Рыбниковым еще в 1860-х гг. (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, 3-е изд. Петрозаводск, 1989. С. 53, 71; ноты см.: Русский фольклор. Материалы и исследования. Л., 1959. Т. 4. С. 300) и несколько позже (Ляцкий Е. А, Аренский А. С. Сказитель И. Т. Рябинин и его былины. М., 1895; отдельные нотные публикации: Григ., 1, напев № I; Аст., 2, напев № VII; Былины Печоры и Зимнего берега. М.; Л., 1961. Напев № XX и XXI), музыковедческая разработка неравносложной квантометрической системы интонирования в эпосе предпринята лишь в 1960-х гг. (Русский фольклор. М.; Л., 1966. Т. 10. С. 127—144 и табл. 1—IV в статье «Структуры сказительской речи в русском эпосе»), а также в кандидатской диссертации В. В. Коргузалова «Местные напевные стили северорусского былинного эпоса» (Л., 1990). В настоящем издании применена в таблицах свода напевов.
См. также разработки теории слогоритмического периода и анализы апериодической формы: Банин А. А. К изучению русского народно-песенного стиха // Фольклор. Поэтика и традиция. М., 1982. С. 94—139; Банин А. А. Слово и напев. Проблемы аналитической текстологи и // Фольклор. Образ и поэтическое слово в контексте. М., 1984. С. 170—202.
Сноски к стр. 134
107 Старины-притчи нередко используются сказителями в качестве эпических зачинов былин и баллад.
108 К отличному от цитированного мнению А. Н. Веселовского о возможном происхождении эпоса и из обрядового хора (Историческая поэтика. Л., 1940. С. 291) следует отнестись со вниманием, имея в виду амебейные формы доисторических заклинаний пантомимического характера (повторений хором заклинательной ритмической формулы вслед за жрецом), но не хоровую культуру нашего средневековья, к которой апеллирует А. М. Листопадов, отстаивая «исконно-хоровую» природу русских былин (Песни донских казаков. М., 1949. Т. 1, ч. 1. С. 41).
109 Листопадов А. М. Песни донских казаков. М., 1950. Т. 1, ч. 2. № 86-а.
Сноски к стр. 135
110 Соколов Ф. В. О напевах печорских былин // Былины Печоры и Зимнего берега. М.: Л., 1961. С. 500.
111 Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору. Л., 1973. С. 55; Лапин В. А. Русские свадебные песни у вепсов // Проблемы музыкального фольклора у вепсов. М., 1973. С. 44; Коргузалов В. В. Эпическая песенная традиция на Русском Севере // Добровольский Б. М., Коргузалов В. В. Былины. Русский музыкальный эпос. М., 1981. С. 42; Краснолольская Т. В. Песни Карельского Края. Петрозаводск, 1977. С. 12; Она же: Традиционное песенное искусство современного Пудожа // Народная музыка СССР и современность. Л., 1982. С. 85; Васильева Е. Е. Напевы русской эпической традиции Прионежья // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 187—188; Кастров А. Ю. Вопросы структурной типологии олонецких нарративных напевов («вепсская мелострофа» и «рунический ритм») // Русский фольклор. СПб., 1993. Вып. 27. С. 133.
112 Янчук Н. А. О музыке былин // Русская устная словесность / Под ред. М. Сперанского. М., 1919. Т. 2. С. 547; Следует, однако, отметить, что и северно-русская эпическая традиция знает строфические структуры «былинных песен», в то же время речитативные формы встречаем и в южно-русском эпосе. См.: Григ., 2, напев № 24; Григ., 3, напев № 45; Былины. Русский музыкальный эпос. М., 1981. № 69, 70 (саратовские рапсодические былины); № 101 (северно-кавказская речитативная форма при песенной строфности).
Сноски к стр. 136
113 Астахова А. М. Былины Севера. М.; Л., 1951. Т. 2. С. 690.
114 Астахова А. М. Былины Севера. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 548. Вместе с тем высказывание авторов «Замечаний о напевах» по поводу превосходства многоголосия печорских былин над мезенскими не подтверждается материалами «мезенского» тома А. Д. Григорьева (Т. 3. СПб., 1910). См. наш коммент. в кн.: Былины. Русский музыкальный эпос. М., 1981. С. 44.
Сноски к стр. 137
115 См. упомянутое исследование А. Л. Маслова (Труды музыкально-этнографической комиссии. М., 1911. Т. 2. С. 301—327). Авторы «Замечаний» унаследовали «аристократический» оттенок концепции Маслова о якобы постепенной деградации «полного эпического размера», вырождавшегося в «сокращенный» и затем — «скомороший». Попытка характеристики былинных напевов «скоморошьего» размера А. Л. Масловым и его последователями привела к оговоркам, показывающим ограниченность и неточность этого термина: мы читаем в «Записке», что «на Мезени „скоморошьи“ размеры с характерной для них скороговоркой встречаются редко. Чаще мезенский напев „скоморошьего размера“ представляет своеобразный смешанный тип, соединяющий в себе каноны „полного эпического размера“ с канонами размера „скоморошьего“. Вместе с тем на Мезени как чистый „скомороший“, так и смешанный тип напева соединяются не со скоморошьими былинами, а с былинами-новеллами, иногда же — с героическими былинами» (Аст., 1, с. 548). О печорских напевах «скоморошьего размера» речь не шла, т. к. в 1929 г. они еще не были зафиксированы (см. № 8, 15, 19 наст. изд. — в записи 1956 г.).
116 БП. В «Приложениях» приведены напевы № I—XXVI; два напева добавлены в комментариях (к № 62 и 90), еще один — в «Заметке о напевах печорских былин». Всего 29 напевов.
117 Астахова А. М. Былины Севера. М.; Л., 1951. Т. 2. С. 680. (Исключение представляют напевы калик перехожих с присущей им стилистикой). Противопоставление «архангельского» «олонецкому» см. также: Маслов А. Л. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад // Труды музыкально-этнографической комиссии. М., 1911. Т. 2. С. 301—327; Янчук Н. А. О музыке былин // Русская устная словесность. М., 1919. Т. 2. С. 527—550; Заметка Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд в сборнике: Астахова А. М. Былины Севера. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 546.
118 Астахова А. М. Былины Севера. Т. 1. С. 546.
Сноски к стр. 138
119 Там же.
120 Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением ф-п. / Ред., предисл., исслед. и примеч. Е. В. Гиппиуса. М., 1957. С. 225. В этой работе Е. В. Гиппиус склоняется, однако, к обусловленности тактовых редакций напевов категориями стихосложения. Один и тот же эпический напев, разнесенный каликами по всей Руси, трактуется им в 1951 г. (Былины Севера. Т. 2. Напев № XIII) и в Сборнике Балакирева в 1957 г. по-разному (ср. с печорским вариантом на с. 142).
Былины Севера. Т. 2. Напев № XIII:

Сборник Балакирева. С. 190. Напев № IV. Обоснование — на с. 226:

В первом случае силлабический стих скоро уступает «разновеликому» тоническому и «смысловая синтаксическая акцентность» становится единственно возможной. Однако, она логична и в силлабическом эпизоде, т. к. является универсальной для рапсодического интонирования.
Сноски к стр. 139
121 См. ниже (1.1), а также: Коргузалов В. В. Генетические предпосылки классификации // Русский фольклор. Л., 1975. Т. 15. С. 245, 246.
122 Возможно, артельная традиция исполнения обязана была своим происхождением бытованию эпоса еще в дружинно-верховой среде, располагавшей своими признанными сказителями. Ситуация исполнения былин «на-верховых» должна была неминуемо повториться в быту казачьей сословной общины. (См. свидетельство А. М. Листопадова в его книге «Песни донских казаков» (М., 1954. Т. 5. С. 247 и 253), где речь идет о пении былин «на-верховых» в свадебном поезде.)
Сноски к стр. 140
123 Ляцкий Е. А., Аренский А. С. Сказитель Иван Трофимович Рябинин и его былины. М., 1895. Приложения. № 2 («Добрыня и Змей»). Возгласная зачинная фраза напева повторена трижды подряд, и лишь на третий раз формируется разнофразовый тирадно-напевный период «абб».
124 Старина о Кострюке зафиксирована на Нижней Печоре от разных сказителей исключительно с этим напевом: Исторические песни XIII—XVI вв. М.; Л., 1960. Напевы № 24, 25, 32, 34. (В наст. изд см. былины № 8, 15).
Сноски к стр. 141
125 См. нашу заметку о напевах и нотный материал с реконструкциями напевов-наигрышей в былинах Сборника Кирши Данилова в кн.: Новгородские былины / Изд. подгот. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий. М., 1979. Там обращено внимание читателей на совпадения с напевной системой поморско-архангельской эпической традиции (ср. напев № 28 Сборника Кирши Данилова, напевы № 33 и 35 в первом — Пинежском — томе былин А. Д. Григорьева: все три напева по ладово-интонационной характеристике близки напеву печорских ста́рин, в нашем изд. № 8, 15, 19, напеву нижнепечорских «Кострюков»). См. также: Маслов А. Л. Кирша Данилов и его напевы // Русская музыкальная газета. 1902. 27 окт., № 43.
126 Текст см.: Былины Печоры и Зимнего берега. № 88. Любопытно отметить в записях 1970—1980-х гг. Сыктывкарского гос. университета (Республика Коми) эволюцию традиционной формы среднепечорской былины о Бутмане 11+9 восьмых (3.23,33.33) в девятимерную 9+9 восьмых: 3.333.33, подобную рассматриваемой. (Русский фольклор. Л., 1993. Т. 27; публикация А. Власова, А. Захарова и др.).