Российская академия наук
Отделение историко-филологических наук
Институт языкознания
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт мировой культуры
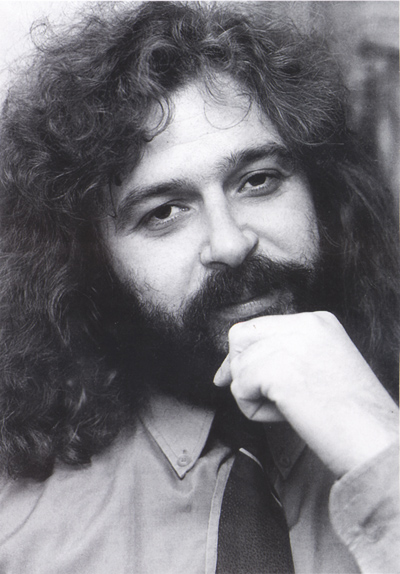 |
- 1 -
Philologica russica et speculativa tomus III
————————————————————И. А. ПИЛЬЩИКОВ
БАТЮШКОВ
И ЛИТЕРАТУРА ИТАЛИИФилологические разыскания
Под редакцией М. И. Шапира
«Языки славянской культуры»
Москва 2003
- 2 -
ББК
83.3(2Рос=Рус)1
П 32Издание осуществлено при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 02-06-87037)Пильщиков И. А.
П 32
Батюшков и литература Италии: Филологические разыскания / Под ред. М. И. Шапира. — М.: Языки слав. культуры, 2003. — 314 c. — (Philologica russica et speculativa; T. III).
ISBN 5-94457-110-1
В монографии впервые освещается весь комплекс отношений К. Н. Батюшкова с итальянской культурой: его произведения на итальянские темы, переводы, подражания и стилизации, цитаты и реминисценции из итальянских писателей, употребление итальянского языка в письмах и т. д. Используя традиционные и оригинальные методы исследования, автор монографии выявляет и систематизирует многочисленные факты воздействия переводной поэзии (не только отечественной, но и западноевропейской) на русский поэтический язык конца XVIII—XIX вв. Работу отличает последовательно филологический подход к явлениям языка и культуры.
Книга может оказаться интересной специалистам по русской филологии, по истории русской литературы и сравнительному литературоведению, по истории русского языка и лингвистической поэтике, по истории и теории художественного перевода, а также музыковедам и всем, кому дорога и близка русская поэзия «золотого века».
ББК 83.3(2Рос = Рус)
Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153; e-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20-9102; e-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.
ISBN 5-94457-110-1
© И. А. Пильщиков, 2003
- 3 -
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
5
Глава первая
У истоков батюшковской тассианы: послание «К Тассу» (1808)
11
Глава вторая
Переводы из «Освобожденного Иерусалима» (1808—1810)
34
Глава третья
Переводы и выписки из итальянских поэтов (1810—1811)
62
Глава четвертая
Итальянские темы в письмах Батюшкова (1807—1820)
90
Глава пятая
«Ариост и Тасс», «Петрарка», «Пантеон итальянской словесности» (1815—1817)
116
Глава шестая
Мотивы Петрарки у Батюшкова и Пушкина (1815—1817 и 1821—1831)
141
Глава седьмая
Элегия «Умирающий Тасс»: Dichtung und Wahrheit (1817)
158
Вместо заключения
180
Примечания
186
Библиография
238
Приложения
274
Указатель имен
304
- 4 -
- 5 -
ВВЕДЕНИЕ
Назвав Батюшкова «страстнымъ любителемъ Италіянской и Французской поезіи», Уваров выразил общее мнение современников: тогдашним читателям «Опытов в Стихах и Прозе» Батюшков казался полномочным представителем романских литератур в России1. Другой рецензент с похвалой отзывался о статьях, в которых автор «Опытов» пишет «о Піитическомъ характерѣ безсмертныхъ образцовъ своихъ: величественнаго Тасса, игриваго Аріоста и нѣжнаго Петрарки» (Козлов 1817, 626). Кюхельбекер отождествлял «характеръ Поэзіи Италіянцевъ и питомца ихъ, Батюшкова» (1820б, 149). Воейков восторгался стихами Батюшкова — поэта, «сладостными, плѣнительными звуками золотой своей лиры< >напоминающаго Аріоста и Петрарку» (1821а, 175). Роскошный Батюшковъ! — восклицал тот же Воейков, — У Тасса взялъ ты жезлъ Армиды чудотворный <...> твой слогъ есть совершенство (1819, 254—255). В статье из «Энциклопедического лексикона» (первой русской энциклопедии, учрежденной А. А. Плюшаром) мы читаем, что Батюшков «твердо изучалъ литературу народовъ южныхъ и особенно Италіянскую, и душевно былъ привязанъ къ пѣвцамъ Италіи»; он «подражалъ Тассу, подражалъ <...> Петраркѣ и Аріосту», но, «не смотря на это внѣшнее вліяніе, онъ каждую мысль, каждый оттѣнокъ чувствованія усвоивалъ себѣ самостоятельно. Вездѣ видишь человѣка, который не рабски увлеченъ своими образцами, но сошелся съ ними свободно, по внутреннему сочувствію, по природному настроенію своей души» (Плаксин 1836, 97; ср. Никитенко 1839, 460). «Отечество Петрарки и Тасса было отечествомъ
- 6 -
музы русскаго поэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо послѣдній, были любимѣйшими поэтами Батюшкова», — писал Белинский (1843, 67)2. Главные русские итальянисты XX столетия называли Батюшкова «пионером нашей итальяномании» (Розанов 1928, 12) или «италомании» (Голенищев-Кутузов 1971, 457).
Уже́ первые биографы поэта отмечали роль, какую в его жизни играла итальянская культура (Бунаков 1855, 92, 96; Гревенец 1883, 546; Грот 1887, 3, 13; Майков 1887б, 25—26, 35—36)3. Однако филологические экскурсы в область итальянских интересов Батюшкова крайне немногочисленны, и можно лишь удивляться, как мало внимания привлекала эта проблема: у нас «до сих пор нет исследования, которое охватывало бы весь комплекс вопросов об отношении Батюшкова к итальянской литературе» (Горохова 1975, 241 примеч. 24; ср. Серман 1972, 233). Тем не менее в науке, похоже, установилось молчаливое согласие насчет того, что в сложившихся представлениях о связях Батюшкова с культурой Италии серьезных пробелов нет. Симптоматично, что в программной статье Н. В. Фридмана, призванной «наметить и осветить те основные проблемы изучения творчества Батюшкова, которые до сих пор остаются неясными и спорными или даже вовсе не поставлены в научной литературе» (1964а, 305), об итальянской проблематике речь не заходит.
Филологическому изучению литературного и эпистолярного наследия Батюшкова начало положил академик Л. Н. Майков, подготовивший при участии В. И. Саитова трехтомное собрание сочинений, приуроченное к столетию со дня рождения поэта (см. Майков 1885—1887а). «Для каждаго изслѣдователя русской литературы <...> недавно появившееся изданіе Батюшкова будетъ отнынѣ необходимымъ пособіемъ, — говорил Я. К. Грот. — Оно составляетъ важный вкладъ въ исторію всей русской литературы первыхъ десятилѣтій 19-го вѣка» (Грот 1887, 2; Семевский 1887, 520—521). Научный аппарат юбилейного издания, занимающий более шестисот страниц, — это беспрецедентное явление в истории батюшковианы: в предшествовавших публикациях пояснения практически отсутствуют4. Вместе с тем в майковских комментариях есть неточности и лакуны, неизбежные хотя бы в силу новаторского характера работы. Более или менее существенные поправки и дополнения, сделанные позднейшими редакторами, общей картины не изменили.
Увлечение итальянской словесностью началось у Батюшкова с поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». В дальнейшем хронологические рамки
- 7 -
его интересов расширялись — в сторону раннего Возрождения и Предвозрождения (Ариосто, Боккаччо, Петрарка, Данте), поэзии Сеттеченто (Касти, Метастазио, Ролли), современной литературы (Альфьери, Монти). Масштабы исследовательских работ куда скромнее. Единственная статья на тему «Батюшков и Тассо» (Varese 1969) представляет собой сводку результатов, добытых Майковым. Материалы этой, а также предшествующей статьи М. Ф. Варезе об отношении Батюшкова к итальянской литературе (Varese 1968) включены в монографию «Батюшков: поэт между Россией и Италией» (Varese 1970); малооригинальный характер этой работы был отмечен рецензентом (Серман 1972, 233—234; ср. Горохова 1975, 241 примеч. 24). Изучение влияния Петрарки на Батюшкова, по словам И. М. Семенко (1977, 473), «в сущности, только начато» в работах А. И. Некрасова (1911) и Н. Контьери (Contieri 1959). В 1970-е годы появились статьи Р. М. Гороховой, посвященные восприятию Ариосто и Тассо в России XVIII — первой трети XIX в. (Горохова 1973; 1974; 1976; 1978; 1979; 1980), а также две монографии — Н. В. Фридмана (1971) и И. З. Сермана (Serman 1974), — в которых уделено место итальянским связям Батюшкова. Среди обобщающих работ следует отметить статью в академической «Истории русской литературы» (Верховский 1941). Авторам названных исследований удалось детализировать и углубить наши представления об «итальянской составляющей» в творчестве Батюшкова, и всё же многие положения, высказанные в этих трудах, сегодня нуждаются в критическом пересмотре. Необходимость ревизии тем более очевидна, что за последние десятилетия в научный оборот было введено значительное количество новых источников, таких как пометы и записи Батюшкова на полях «Трактата об итальянской поэзии» Антонио Скоппы (Янушкевич 1990, 13—26), а также около сотни писем Батюшкова и десятки писем к нему.
Культурную самобытность Италии Франция осознала раньше, чем Россия, — благодаря этому Батюшков и его современники, обращаясь к итальянской словесности, могли прибегать к «посредничеству» французских переводов и историко-литературных разысканий (ср. Заборов 1963, 81—85; 2000, 41—44). В свою очередь, итальянская культура воспринималась как связующее звено между другими национальными новоевропейскими традициями и греко-римской античностью: «Поэзія Италіянская служитъ какъ бы чертою прикосновенія между древнею и новою поэзіею» (Георгиевский 1836, 79; Берков 1970, 20). Начав с увлечения Древним
- 8 -
Римом, Батюшков обрел двуединую Италию — «землю Сципїонову и Арїостову»5. Вот почему филологическое освещение русско-итальянских литературных контактов постоянно сопровождается экскурсами в область литературы латинской и французской.
Цель этой книги — новая интерпретация связей русского поэта с культурой Италии. Перед автором стои́т двуединая задача: продемонстрировать логику развития итальянских интересов Батюшкова, широко привлекая для этого, в том числе, малоизвестный материал. Исследование носит преимущественно генетический характер, однако по ходу дела обсуждаются также эволюция и типология художественных форм. В работе затронут достаточно широкий круг тем: историческая рецепция иноязычных культур, история и теория художественного перевода, история русского поэтического языка и поэтика русской литературы первой трети XIX в.; впервые подробно освещается вопрос об отношении Батюшкова к итальянской опере; в ряде случаев приходится заново решать проблемы текстологии и датировки. Я надеюсь, что монография при этом не распадается на отдельные фрагменты: ее целостность обеспечена общим предметом исследования и единством его методов.
Основной предмет моих занятий предопределяется их филологической природой: только филологию интересует «текст как целое <...> то есть уникальное, неповторимое единство смысла во всей полноте и в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме» (Шапир 2002б, 57 и др.; ср. 1994б, 275; а также Винокур 1981, 37—38, 41—47; Аверинцев 1972, стб. 973; Степанов 1994, 29). Смысл постигается путем исторически достоверного истолкования текста (Винокур 1923, 5), разумеется, понятого в совокупности не только внутренних, но и внешних его связей. По степени строгости и доказательности такое истолкование может не уступать результатам естественных наук (ср. Шапир 1997; 2001). Поэтому даже в области литературного генезиса, которая поддается формализации с больши́м трудом, я стремлюсь к максимально доступной точности выводов, основанных на системном изучении многочисленных лексико-фразеологических и ритмико-синтаксических соответствий между текстами.
Филолог изучает смыслы лишь постольку, поскольку они нашли выражение в языке, и, наоборот, рассматривает язык прежде всего как манифестацию культуры (Шапир 1994б, 275; ср. Винокур 1981, 4, 43—44, 50—54). С этой точки зрения, сравнительное литературоведение и история
- 9 -
переводной литературы — дисцилины филологические по своей сути: изучение творческой рецепции иноязычного произведения без опоры на лингвистические данные невозможно. В то же время полноценный анализ отношений перевода к оригиналу требует экстралингвистических све́дений: типы и уровни эквивалентности то и дело меняются (ср. Catford 1965), что в значительной мере обусловлено воздействием внешнего (историко-культурного) контекста. Именно он заставляет меня выйти за рамки традиционной модели «текст-источник — текст-результат»: я квалифицирую переводные произведения как полигенетические, аккумулирующие опыт «версий-посредников» (Пильщиков 1999г, 9; ср. 1995б; 2001). Такой подход позволяет выявить многочисленные факты воздействия переводной поэзии (не только отечественной, но и западноевропейской) на русский стихотворный язык рубежа XVIII—XIX вв.
К сожалению, с конца 1940-х годов по нынешний день сравнительно-историческое изучение русской литературы переживает не лучшие времена. В современном западном литературоведении компаративистика подпала под влияние постмодернистской идеологии, которая привела littérature comparée к полной интеллектуальной деградации и окончательной утрате методологических ориентиров. В последние годы те же тенденции набирают силу в России, где увидели свет и приобрели популярность сочинения, авторы которых не задумываясь жертвуют научной достоверностью ради броского изложения и ложно понятой оригинальности. Этим фактически ознаменован разрыв с научной традицией, которая вызвала к жизни образцовые исследования, посвященные международным связям русской поэзии «золотого века». Из работ, которые заслуживают названия классических, в первую очередь следует упомянуть монографию А. Н. Егунова о русских переводах Гомера (1964), а также итоговый сборник статей Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция» (1960), книгу академика М. П. Алексеева «Пушкин: Сравнительно-исторические исследования» (1972) и фундаментальный труд того же автора о русско-английских литературных связях, особенно главу о Томасе Муре (Алексеев 1982, 657—824). Широкой филологической эрудицией отличались компаративные пушкиноведческие этюды М. Ф. Мурьянова: об армянском предании в «Гавриилиаде», об отношении Пушкина к Песни песней, об отрывке «Когда владыка ассирийский...», о выражении süsse Gewohnheit у Пушкина, Гофмана и Гёте (Мурьянов 1973, 73—80; 1974; 1996, 200—222; 1999) и ряд других. Но ни в одной из перечисленных работ
- 10 -
не проанализирована хотя бы с относительной полнотой и последовательностью история рецепции целой национальной литературы в творчестве одного писателя — кажется, такого рода исследование предпринимается у нас впервые.
***
Некоторые темы, рассматриваемые на страницах этой книги, были затронуты в предварительных публикациях (см. Pilshchikov 1994b; 1995b; Pil’ščikov 1995a; Пильщиков 1994; 1995а; 1997; 1999а; 1999г; 2000а; 2000б; 2001; 2002а; 2002б), — все эти «сюжеты» в монографии существенно переработаны и дополнены. Я хотел бы выразить искреннюю признательность своим друзьям и коллегам: М. В. Акимовой, С. Г. Болотову, С. Гардзонио, А. А. Добрицыну, И. Г. Добродомову, А. А. Илюшину, Т. М. Левиной, — взявшим труд ознакомиться с моей работой в рукописи и не поскупившимся на поправки и замечания. Не сомневаюсь, что эта критика пошла книге на пользу и уберегла меня от многих непростительных промахов. Особая благодарность М. И. Шапиру, не раз выручавшему меня в тяжелую минуту, — вот и сейчас он любезно согласился стать моим редактором.
И. Пильщиков
Январь 2003 г.
- 11 -
Глава первая
У ИСТОКОВ БАТЮШКОВСКОЙ ТАССИАНЫ:
ПОСЛАНИЕ «К ТАССУ» (1808)1. Среди итальянских увлечений Батюшкова особое место занимает Торквато Тассо, которому поэт, по его собственному признанию, был «обязанъ лучшими наслажденїями въ жизни»6. В XVIII — начале XIX в. героическая поэма Тассо «Gerusalemme liberata» («Освобожденный Иерусалим») неизменно оставалась в центре читательского внимания; в своем жанре она соперничала только с «Илиадой» и «Энеидой» и к 1820-м годам оттеснила на задний план некогда популярную «Генриаду» Вольтера.
7 августа 1808 г. Батюшков, находившийся в Финляндском походе, отправил Н. И. Гнедичу в Петербург свое послание «К Тассу» и стихотворный отрывок, переведенный из I песни «Освобожденного Иерусалима». Посылку Батюшков сопроводил запиской: «Я къ тебѣ писать не буду. Ты самъ лѣнивъ. Напечатай ети стишки въ Драм<атическомъ> Вѣстникѣ чтобы доказать что я живъ и волею Божіею еще не помре съ печали: Я выбралъ нарочно трудны<я> мѣста для переводчика. Посланіе къ Тассу тебѣ понравится, марай дурное, воля твоя — но пожалѣй не много сіе новорожденное дѣтище. Прости до первой почты»7.
Стихи были опубликованы в VI части «Драматического Вестника» (1808). О послании «К Тассу» Л. Н. Майков писал: «Не смотря на недостатки внѣшней формы, стихотвореніе это замѣчательно, какъ первая попытка нашего автора воспроизвести печальный образъ своего любимаго поэта» [Майков 1887а, I: 74 (1-й пагинации); ср. Белинский 1835, стб. 207; 1843, 67]. Историки литературы неоднократно ставили перед собой задачу определить источники послания и восстановить его культурный
- 12 -
контекст, но единства мнений при этом не обнаружили. Н. В. Фридман полагал, что «трактовка темы несчастий поэта» в раннем стихотворении Батюшкова «приближается к обличительным мотивам в творчестве радищевцев» (Фридман 1971, 202, ср. 201), однако никаких параллелей из их сочинений приведено не было. Другим произведением, якобы «повлиявшим» на батюшковское послание 1808 г., исследователь по оплошности счел оду Капниста «Зависть пиита», написанную в 1817—1820 гг. (Фридман 1971, 202). Р. М. Горохова услышала в послании «К Тассу» «отзвуки „Veglie“ <„Тассовых бдений“. — И. П.>, которые Батюшков несомненно прочитал к тому времени» (Горохова 1978, 140). На чём основана такая уверенность, неясно: прямых свидетельств знакомства поэта с нашумевшей мистификацией Компаньони нет8. У. Э. Браун отыскал в батюшковском стихотворении «черты романтизированного портрета Тассо, почерпнутые у Сисмонди» (Brown 1986, 239). Этот отзыв также должен расцениваться как недоразумение: книга Сисмонди «О литературе юга Европы» увидела свет только в 1813 г.
Между тем уже́ Л. Н. Майков имел в своем распоряжении данные, позволяющие найти отправную точку для изучения батюшковского послания. Проверяя замечания Кюхельбекера и Пушкина о том, что элегия Батюшкова «Умирающий Тасс» переведена с французского9, Майков потратил много усилий на поиски французского стихотворения о судьбе Торквато. Наконец такое произведение встретилось ему «въ сборникѣ <„>Encyclopédie poétique“ <...> изданномъ въ Парижѣ въ 1780 году» (Майков 1894, 553 примеч. *; 1899, 314 примеч. 1). В статье «Пушкин о Батюшкове» Майков сообщил, что «элегія» «на тему о бѣдствіяхъ, перетерпѣнныхъ Тассомъ», «подъ заглавіемъ „Les malheurs et le triomphe du Tasse“, была написана Лагарпомъ». «Батюшковъ, вѣроятно, зналъ эту весьма слабую піесу; но сходства между нею и элегіей Русскаго поэта нѣтъ ни въ чемъ, кромѣ общаго основнаго мотива» (1894, 553). В «пересмотрѣнное» издание майковской биографии Батюшкова также было введено замечание о том, что поэт «могъ <...> знать плохую элегію Лагарпа „Les malheurs et le triomphe du Tasse“» (Майков 1896, 176). Выводы Майкова были поддержаны всеми учеными, писавшими на ту же тему (Фридман 1971, 204; Семенко 1977, 569; Горохова 1979, 38—39). Непонятно, однако, почему исследователи сопоставляли французский текст только с одним из двух стихотворений Батюшкова, посвященных великому итальянцу. Лагарпова «элегія», о которой говорил Майков (La
- 13 -
Harpe 1780), — это републикация «Послания к Тассу» («Épître au Tasse»), которое будущий автор «Лицея» написал в 1775 г. и впервые напечатал в парижском 6-томном собрании сочинений (La Harpe 1778, II: 223—231). Одноименное послание Батюшкова есть вольный перевод этого произведения (Pil’ščikov 1995a, 126; Пильщиков 1997, 8 слл.)10.
Не сто́ит забывать, что в свое время авторитет Лагарпа-стихотворца был столь же высок, как и авторитет Лагарпа-критика. Обращение к «Épître au Tasse» органично вписывается в общую картину литературных вкусов и пристрастий Батюшкова 1800-х — начала 1810-х годов. Летом 1810 г. поэт, по его собственному выражению, «къ Мечтѣ прибавилъ Горація»11. Новые, «горацианские» стихи в переработанной редакции «Мечты» В. Э. Вацуро (1994, 94—98) рассматривал как оригинальный отрывок, ориентированный на «французскую анакреонтическую традицию». Однако добавленный фрагмент был заимствован из «Ответа Горация Вольтеру» — это послание Лагарп написал от имени древнеримского поэта («Réponse d’Horace à M. de Voltaire», стихи 105—117; Pilshchikov 1994a, 106—107). Аналогичное художественное решение Батюшков порекомендовал Гнедичу (7 ноября 1811 г.), предложив ему к стихотворению «Уныние» «прибавить <...> la mélancolie de la Harpe», то есть отрывок из послания Лагарпа А. П. Шувалову, изображающий аллегорическую фигуру Меланхолии: «Подражай смѣло <...> Всѣ стихи прекрасны и достойны перевода» (Ефремов 1883, кн. V: 336; Майков 1886, III: 150)12. Гнедич внял совету друга, и в письме от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. Батюшков с удовлетворением отметил: «<...> все хорошо. И стихи изъ Лагарпа прекрасны» (Ефремов 1883, кн. V: 344; Майков 1886, III: 162).
Батюшкова привлекала не только оригинальная, но и переводная поэзия Лагарпа13. Его версию «Освобожденного Иерусалима» Батюшков использовал в качестве вспомогательного источника при работе над собственным переводом (Пильщиков 1997, 25—27; 2001). Лагарп приступил к «Gerusalemme liberata» в середине 1790-х годов (Todd 1972, 68—70, 159—161, 264 n. 74; Jovicevich 1973, 187), но окончить свой труд не успел. Отрывки из него появлялись в 1800—1805 гг. в «Mercure de France» и в «Альманахе Муз», а полностью восемь песен были опубликованы во II томе «Избранных и посмертных сочинений» (La Harpe 1806, II: 143—352; Beall 1942, 244; Todd 1979, 175—176). Здесь впервые издан фрагмент лагарповского перевода (песнь I, стихи 255—326),
- 14 -
которым Батюшков воспользовался в 1808 г.14 В том же томе «Œuvres posthumes» помещено «вольное и сокращенное» переложение четырех книг Лукановой «Фарсалии», завершающееся стихотворным «Эпилогом к манам Лукана» («Épilogue aux Mânes de Lucain»). Не исключено, что пример Лагарпа навел Батюшкова на мысль обратиться с посланием к тени Тассо: «Сіе посланіе предположено было напечатать въ заглавіи перевода Освобожденнаго Іерусалима» (Батюшков 1808б, 62 примеч. 1).
«Épître au Tasse» находится в числе произведений, принесших Лагарпу официальное признание и упрочивших его положение на французском Парнасе. В 1775 г. помимо двух премий (за красноречие и поэзию) он получил от Французской академии еще одну награду — поощрительный отзыв первой степени (le premier accessit) за «Послание к Тассу»15. В следующем году Лагарп стал членом Академии (Registres, 394—395; Todd 1972, 24—25; Jovicevich 1973, 82) и 20 июня 1776 г. произнес по этому поводу положенную речь (La Harpe 1776). Батюшков хорошо ее знал. Отвечая на письмо Гнедича от 16 октября 1810 г., он объяснял ему свое нежелание продолжать перевод «Gerusalemme»: «Нынѣ бросилъ все и читаю Монтаня, которой иныхъ учитъ жить, а другихъ ждать смерти. — А ты мнѣ совѣтуешь переводить Тасса, въ етомъ состояніи??? Я не знаю, но и етотъ Тассъ меня огорчаетъ. Послушаемъ Лагарпа, въ похвальномъ его словѣ Колардо16. Son ame (l’ame de Colardeau) sembloit se ranimer un moment pour la gloire et la reconoissance, mais ce dernier rayon alloit bientôt s’<é>teindre dans la tombe. Il avoit traduit quelque chants du Tasse. Y avoit-il une fatalité attachée à ce nom? — Я знаю цѣну твоимъ похваламъ, и знаю то что дружба не можетъ тебя ослѣпить до того чтоб<ы> хвалить дурное, но знаю и то, что мой Тазъ или Тассъ не такъ хорошъ какъ думаешь. Но если онъ и хорошъ, то какая мнѣ отъ него польза, лучше ли пойдутъ мои дѣла <...> болѣе или менѣе я буду щастливъ?»17 Перевод французской цитаты: «Его душа (душа Колардо), казалось, воспламенилась на мгновение для славы и признания, но этот последний луч должен был вскоре угаснуть в могиле. Он перевел несколько песен Тасса. Уж не тяготеет ли над этим именем рок?». Предшественник Лагарпа Шарль-Пьер Колардо, избранный в Академию на место герцога де Сент-Эньяна, умер, не успев принять почестей; «Лагарпъ сближаетъ это обстоятельство со смертью Тасса на канунѣ торжественнаго вѣнчанія» (Майков 1886, III: 628). «Могло же статься, что и во второй раз не дано было Тассу взойти на Капитолий!» — восклицает
- 15 -
далее панегирист [«Et faut-il que pour la seconde fois, il n’ait pas été donné au Tasse de monter au Capitole?» (La Harpe 1779, xxxviij)]. Слова́ Лагарпа о фатуме, преследующем имя Тассо, оказались пророческими: его собственный перевод «Иерусалима» разделил участь перевода Колардо. Теперь настал черед Батюшкова — таков смысл иронической цитаты в письме Гнедичу. В свете восстановленной предыстории письма́ эта отсылка (единственное у Батюшкова упоминание Лагарпа в связи с Тассо) приобретает характер недвусмысленного указания на исключительную роль французского мэтра, главного литературного наставника русского поэта в первые годы его тассианских штудий.
2. Приступая к разбору послания «К Тассу» в его отношении ко французскому оригиналу, необходимо прежде всего охарактеризовать его композицию. Оно разделено на семь стихотворных абзацев, границы которых проходят после строк 14, 28, 46, 60, 86 и 103 (Батюшков 1808б, 62—67; 1834, 98—102). Подлинник сокращен вдвое (112 строк вместо 222), однако архитектоника русского перевода находится в непосредственной зависимости от композиции Лагарпова «Послания» (параллельные тексты помещены в Приложении I). Первый абзац стихотворения Батюшкова (обращение к тени Тасса) напрямую связан с первым абзацем «Épître au Tasse» (стихи 1—16). Во втором абзаце Батюшков сократил и слил два абзаца французского текста, из которых один (стихи 17—24) вводит тему «несчастья и величия», а другой (стихи 25—54) описывает впечатления от батальных сцен «Иерусалима». Следующему разделу текста-источника (стихи 55—108) соответствуют два батюшковских: стро́ки 29—46 русского послания рисуют Тасса — «певца любви» и воздают хвалу разнообразию его гения; стро́ки 47—60 представляют собой пересказ избранных эпизодов «Gerusalemme liberata» (в этом фрагменте Батюшков, минуя Лагарпа, обращается непосредственно к эпопее). Пятый абзац батюшковского стихотворения, живописующий заточение Тасса, который пал «жертвой любви и зависти», соотносится с двумя сегментами французского текста (стро́ки 109—124 и 125—174). Заключительная часть «Épître au Tasse» у Батюшкова поделена надвое: стихи 175—202 («триумф и смерть») нашли свое отражение в предпоследнем разделе русского подражания, а в финальных аккордах обоих посланий звучит дифирамб великому поэту, чья жизнь продолжается в памяти потомков (здесь Батюшков дает собственную вариацию темы). Таким образом, в вольном переводе
- 16 -
Батюшкова границы разделов либо совпадают с лагарповскими, либо маркируют переходы к независимым от Лагарпа фрагментам18. В юбилейном собрании сочинений, подготовленном Майковым, компоновка послания «К Тассу» претерпела существенные изменения. Текст произвольно поделен на пять частей; первая граница проходит после 6-го стиха, последняя — после 104-го; стро́ки 7—60 слиты в один абзац [см. Майков 1887а, I: 50—54 (2-й пагинации)]. Очевидно, что майковская сегментация входит в противоречие с авторским замыслом; тем не менее, она была принята во всех последующих изданиях (см. Благой 1934, 213—216; Томашевский 1948, 188—192; Фридман 1964б, 82—85; Шайтанов 1987, 196—200; Кошелев 1989, 357—360; и др.).
И Лагарп, и Батюшков исходили из представлений о «протеизме» творца «Иерусалима». Это общее место западноевропейской литературной критики. По мнению теоретиков эпопеи, Тассо сумел соединить несоединимое: тематические переходы в его поэме не нарушают эпического единства. История этого критического топоса вкратце такова. В 1550-е годы в Италии развернулась полемика о «Неистовом Роланде» Ариосто, сосредоточенная на проблемах соотношения romanzo и эпопеи в аспекте формы (единство действия) и материала (героика и любовь). Эти вопросы получили особую актуальность по выходе «Освобожденного Иерусалима» (Donadoni 1946, 338 и далее; Weinberg 1961, 954 и далее, 991 и далее; Андреев, Хлодовский 1988, 117 и далее, 246 и далее, 273—280). В «Речах о героической поэме» («Discorsi del poema eroico») Тассо говорит о необходимости подчинить ренессансное «разнообразие» romanzo аристотелианскому «единству» классической эпопеи (Marmontel 1763, 253—263; Каплинский 1929; Cottaz 1942a, 165—224; Weinberg 1961, 652; Graziani 1988, 564; Maillat 1988, 457)19. При этом Тассо («Discorsi...», кн. II) и его последователи не исключали любовь из числа предметов, уместных в героической поэме. Вопросы, поднятые сторонниками Тассо и Ариосто, определили проблематику споров вокруг эпопеи нового времени и характер суждений критиков об «Освобожденном Иерусалиме» (Cottaz 1942b, 85—97; Андреев 1994, 321—324). В VII главе «Опыта об эпической поэзии» Вольтер писал: «Son <du Tasse> ouvrage est bien conduit; presque tout y est lié avec art <...> Il fait passer le lecteur des alarmes de la guerre aux délices d’amour, & de la peinture des voluptés il le ramène aux combats» (Voltaire 1785, X: 385) = «Тассъ <...> вездѣ изящно продолжалъ свое сочиненїе, вездѣ связывалъ все съ искусствомъ»; «отъ жестокости войны»
- 17 -
он «провождаетъ читателя къ утѣхамъ любви, и отъ описанїя различныхъ увеселенїй опять къ сраженїямъ» (Остолопов 1802, 89; ср. Beall 1942, 136)20. Шатобриан («Génie du christianisme», ч. II, кн. I, гл. II) также считал «Иерусалим» образцом композиции («un modèle parfait de composition»): Тассо умеет «сплетать предметы <повествования>, не спутывая их между собою» [«mêler les sujets sans les confondre» (Chateaubriand 1802, 6)]. Наконец, то же самое говорил Лагарп в примечаниях к переводу эпопеи: в ее лучших местах «религия, любовь и сражения сплетаются (s’y mêlent), не вредя друг другу и не спутываясь (sans se confondre)» (La Harpe 1806, II: 215 n. 10). Ср. этот же locus communis в поэтической формулировке Делиля: <...> Et la religion, et la gloire, et l’amour, // De lauriers et de fleurs le <le Tasse> parent tour à tour = <...> И религия, и слава, и любовь // Поочередно украшают его <Тасса> лаврами и цветами [«L’Imagination», песнь V, стихи 707—708 (Delille 1806, II: 44)]. Подобно своим знаменитым предшественникам, Батюшков восхищался в Тассовой поэме гармоническим «сочетанием двух тематических стихий — батальной и эротической» (Фридман 1971, 127). Рассмотрим, как разные ипостаси автора «Иерусалима» представлены в послании «К Тассу».
3. Вот отрывок, посвященный Тассо-баталисту (стихи 23—30):
Возпѣлъ ты бурну брань, и блѣдны Эвмениды
Всѣхъ ужасовъ войны открыли мрачны виды,
Бѣгутъ среди полей и топчутъ знамена;
Свѣтильникомъ вражды ихъ ярость разжена,
Власы разтрепаны и ризы обагренны!...
Я самъ среди смертей.... и Марсъ со мною мѣдный...
Но ужасы войны, мечей и копій звукъ
И гласы Марсовы... какъ сонъ изчезли вдругъ!Как и Лагарп, Батюшков начинает этот фрагмент обращением к Тассу, но в следующих строках меняет расположение материала21. В 28-й строке шесть французских александренов редуцированы до двух ключевых фраз: j’erre parmi les morts (стих 63) = я блуждаю среди мертвых (или среди смертей); Mars ouvre devant moi [des scènes de carnage] (стих 65) = Марс разворачивает предо мною [сцены резни]. Слово (les) morts является формой множественного числа либо от le mort ʽмертвец, покойник’, либо от la mort ʽсмерть’ — в любом случае, Лагарп имеет в
- 18 -
виду тела́ павших на поле битвы. Батюшковское прочтение не представляется очень убедительным, но именно благодаря ему родилась идиома среди смертей. Конструкцию Марсъ со мною можно считать характерно батюшковской; аналогичный оборот поэт употребил, переводя тибулловское Nunc ad bella trahor [= Теперь на войну увлечен я (Tib. 1.10.13)]: Я съ Марсомъ на войнѣ! (Батюшков 1810а, 277). Интересно происхождение эпитета мѣдный (Марсъ), отсутствующего у Лагарпа. Майков был неправ, полагая, что слово Марсъ «здѣсь употреблено въ смыслѣ военной трубы, подобно лат<инскому> aes sonat <= медь звучит>» [1887а, I: 318 (2-й пагинации)]22. Медный — один из эпитетов Ареса в «Илиаде» [χάλκεος Ἄρης (V, 704, 859, 866; VII, 146; XVI, 543); ср. мѣдный Арей в переводе Гнедича (1829, ч. I: 149, 156; ч. II: 121)]. Выражение Марсъ мѣдный мы находим в костровском переводе «Илиады», где бог войны выступает под двумя именами, греческим и латинским: Марсъ мѣдный возревѣлъ, какъ десять тысящь войска // Средь брани бурныя, средь подвига геройска [V, 1057—1058 (Костров 1787, 181); ср. Il. V, 859—861]23.
Батальный эпизод послания долгое время толковался наивно-биографически — в нём (как писал П. И. Бартенев) отразились обстоятельства «военной службы», которой «съ молодымъ восторгомъ предался Батюшковъ» (Бартенев 1867, № 10: стб. 1355). Между тем весь этот фрагмент имеет чисто литературное происхождение, и грозный античный бог упоминается в нём далеко не случайно. Стихам 25—27 батюшковского послания соответствуют следующие места у Лагарпа: 1) По сигналу <Марсовой трубы> Беллона <...> Издает неистовый клик и бежит в гущу сражения; // Она бежит, топча ногами знамена; // Она влачит по разбросанным трупам // Разодранные лохмотья своей окровавленной одежды (стихи 57—61); 2) Марс <...> Разжигает во мне огонь, опьяняет меня своей яростью <...> (стихи 65—66). К первому из процитированных мест Лагарп сделал примечание: «Et scissâ gaudens vadit discordia pallâ. VIRG.» (La Harpe 1806, III: 152 n. 2). Это строка из описания щита Энея в конце VIII книги «Энеиды». Среди выкованных на нём изображений была битва при Акциуме (Virg. Aen. VIII, 675 слл.):
Saevit mediō in certāmine Māvors
caelātus ferrō, trīstēsque ex aethere Dīrae,
et scissā gaudēns vādit Discordia pallā,
quam cum sanguineō sequitur Bellōna flagellō
- 19 -
[= Ярится в сражении Маворс, // Сделан из стали резцом, и мрачные в воздухе Диры, // И в раздранном плаще, веселяся, шествует Распря; // Следом за нею идет с бичом кровавым Беллона (Aen. VIII, 700—703)]24. Деталями из «Энеиды» Батюшков дополняет детали, взятые у Лагарпа. Из каталога богов во французском стихотворении исключены Диры (Фурии), которых Вергилий в других местах называет их греческим именем Eumenides (Grandsen 1976, 180). У Батюшкова Эвмениды «восстановлены»: они бѣгутъ среди полей и топчутъ знамена̀. Об Эвменидах здесь говорится то̀, что у Лагарпа было сказано о Беллоне: <...> Elle <Bellone> court, sous ses pieds foulant les étendards <...> Согласно Вергилию, в руках у Беллоны — окровавленный бич (sanguineum flagellum), а Дискордия (Распря, Вражда) шествует в разодранных одеждах (scissā pallā). Лагарп сливает Распрю и Беллону в единый образ: рубище Беллоны изорвано (Les lambeaux déchirés <...>) и окровавлено (<...> de sa robe sanglante)25. Последний атрибут Батюшков также передает Эвменидам: ризы у них обагрены человеческой кровью; им же в русском тексте приписана ярость Марса. Лагарпа бог войны опьяняет своей яростью (<...> m’enivre de sa rage <...>) — у Батюшкова ярость Эвменид разжена свѣтильникомъ вражды. По всей видимости, вражду в 26-й строке послания «К Тассу» следует интерпретировать как деперсонифицированную Дискордию [ср. батюшковский перевод Лагарпова полустишия La discorde tonnait <...> (73): Нѣтъ болѣе вражды <...>]26.
Следует добавить, что Лагарп и Батюшков ясно представляли себе роль классических аллюзий у Тассо. 6 сентября 1809 г. Батюшков писал Гнедичу по поводу строки E in sí bel corpo più cara venia (Ger. lib. V, viii, 4)27: «<...> ето одинъ изъ лучшихъ стиховъ Тассовыхъ <...> онъ значитъ: въ прекрасномъ тѣлѣ прекраснѣйшая душа. Етотъ стихъ взятъ изъ Енеиды, вотъ латинской: Gratior et pulchro veniens in corpore virtus <Aen. V, 344. — И. П.>. — Смиряйся предъ моей ученостью!»28 Скорее всего, это наблюдение заимствовано из Лагарповых примечаний к переводу «Иерусалима»: «Ici le Tasse a traduit un beau vers de Virgile avec cette fidélité littérale <...> C’est le vers de l’Énéïde:
Gratior et pulchro veniens in corpore virtus»
[= «Здесь Тассо с буквальной точностью перевел прекрасный стих Вергилия <...> Это стих из „Энеиды“: Доблестью также, что, мнится, милее в теле прекрасном» (La Harpe 1806, II: 265 n. 2; Пильщиков
- 20 -
1994, 232 примеч. 23)]29. Интерес к проблеме источников поэмы Тассо Батюшков не утратил и в последующие годы30.
4. В строках 31—35 своего послания Батюшков вслед за «Épître au Tasse» (стихи 70—76) переходит к впечатлениям от рустико-эротических сцен Тассовой эпопеи. Мотивы, подобранные для этого фрагмента Лагарпом, перекликаются с начальным эпизодом VII песни «Gerusalemme» (Эрминия находит убежище у пастухов на берегах Иордана), а также с теми эпизодами поэмы, в которых рассказывается об острове Армиды и о любви Армиды к Ринальдо (Ger. lib. XVI). 31-я строка русского стихотворения (Я слышу въ далекѣ пастушечьи свирѣли) может напомнить сцену пробуждения Эрминии (Brown 1986, 239), но в действительности Батюшков, не обращаясь к итальянскому первоисточнику, лишь перефразирует французский текст31. В следующем двустишии у Батюшкова появляется новый «античный» персонаж — Амур:
Нѣтъ болѣе вражды, и Богъ любви младой
Спокойно спитъ въ цвѣтахъ подъ миртою густой.
Онъ всталъ, и мечь опять въ рукѣ твоей блистаетъ!У Лагарпа читаем: La discorde tonnait; c’est l’amour qui soupire = Вражда утихла; теперь вздыхает любовь (стих 73)32. Amour — слово мужского рода, поэтому французский автор мог позволить себе олицетворение:
Il s’endort sur les fleurs, il sourit, et soudain
Le glaive à son reveil étincelle en sa main[= Он <l’amour> спит на цветах, он улыбается, и вдруг, // Едва он пробуждается, в его руке сверкает меч (стихи 75—76); помимо прочего, Лагарп намекает здесь на освобождение Ринальдо от чар Армиды и на возвращение его в стан крестоносцев]. Этот пример демонстрирует зыбкость грани между случайным и закономерным в генезисе художественного текста: персонаж, если можно так выразиться, «возникает» из несовпадения грамматической структуры языков. Вместе с тем противопоставление Марс (и Эвмениды) vs Амур корреспондирует с характеристикой Ринальдо у Тассо (Ger. lib. I, lviii, 7—8), получившей дополнительную известность благодаря переводному стиху Вольтера, который Лагарп инкорпорировал в собственную версию «Иерусалима»: Armé, c’est le dieu Mars: désarmé, c’est l’amour = Вооруженный, он — бог Марс; безоружный,
- 21 -
он — сама любовь (La Harpe 1806, II: 157)33. Несомненно при этом, что Батюшкову были понятны реминисценции из «Иерусалима» в «Épître au Tasse». Формулу любовь <...> вздыхает (<...> c’est l’amour qui soupire), не вошедшую в послание «К Тассу», Батюшков (1809б, 349) ввел в свою версию эпизода в очарованном лесу из XVIII песни «Gerusalemme»: Любовь <...> Вздыхаетъ въ тростникахъ (стихи 82—83). В соответствующем месте подлинника (XVIII, xxiv) этой формулы нет, но зато она есть в описании волшебного сада Армиды: <...> da ogni fronda amore spiri [= c каждой ветви дышит любовь (XIV, lxxvi, 6; ср. XVI, xvi, 8)]. Такая транспозиция предполагает хорошее знание оригинала: Тассо намеренно сближает топологию сада и леса (Chiappelli 1981, 117)34.
Кульминацией обоих посланий становятся строки, в которых тематическое разнообразие творения Тассо уподоблено переменчивости Протея: Quel docile Protée! il varie à ton choix <...> = Какой гибкий Протей! по твоей воле он переменяет <...> (стих 79); resp.: Какой Протей тебя, Торквато, премѣняетъ? (стих 36)35. В резюмирующем пассаже возвращаются мифологические образы:
Il porte tour-à-tour le sceptre et le tonnerre,
Les roses de Vénus, les torches de Mégère <...>[= В его руках то скиптр, то молния, // Розы Венеры, факелы Мегеры <...> (стихи 81—82)]. Ср. у Батюшкова (стихи 39—41):
То скиптръ въ его рукахъ, или перунъ зазженный,
То розы юныя Кипридѣ посвященны,
Иль факелъ Эвменидъ иль лукъ златой любви <...>Французское полустишие (Les roses de Vénus <...>) передано у Батюшкова полной строкой (40), и потому следующий стих ему пришлось дополнить выражением, не имеющим эквивалента в оригинале: лукъ златой любви. Эта конструкция грамматически двузначна: прилагательное златой может быть прочитано и как форма родительного падежа женского рода (златой любви), и как форма именительного падежа мужского рода (лукъ златой): эпитет златой относится либо к богу любви, либо (и это вероятнее) к его атрибуту — луку, который, по-видимому, был введен в текст в качестве контрастной параллели к атрибуту Эвменид — факелу (ср. Bömer 1976, 163)36.
- 22 -
Четыре заключительных строки в рассматриваемом разделе послания (43—46) очень близки к оригиналу: Протей
Летитъ — и я за нимъ лечу въ предѣлы міра,
То въ адъ, то на Олимпъ!37 У древняго Омира
Такъ шагъ одинъ творилъ огромный Богъ морей
И досягалъ другимъ краевъ подлунной всей.У Лагарпа (стихи 87—90):
Il vole, et je le suis au bout de l’Univers
Au palais de l’Olympe, aux cachots des enfers.
Tel le chantre d’Hector a peint le Dieu de l’onde,
Atteignant en deux pas jusqu’aux bornes du monde.(= Он летит, и я следую за ним на край Вселенной, // В чертоги Олимпа, в темницы ада. // Так певец Гектора изображал Бога моря, // Достигающего двумя шагами пределов мира.) Последняя деталь требует пояснения. Лагарп имеет в виду 20 стих XIII книги «Илиады», но цитирует неточно; Гомер повествует не о двух, а о четырех шагах Посейдона: Τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ <...> = Трижды ступилъ Посидо̀нъ, и въ четвертой достигнулъ предѣла <...> (Гнедич 1829, ч. II: 6)38. Пересказывая «Илиаду», Батюшков буквально следует за Лагарпом (ср. Егунов 1964, 169).
5. Не так обстоит дело с пересказом эпизодов из Тассо: и в отборе, и в расположении материала русский автор проявляет полную самостоятельность. У Лагарпа реминисценции из протеического «Иерусалима» завершаются портретом Армиды (стихи 97 слл.) — героини, которую сам Тассо сравнивает с Протеем: Proteo novel (Ger. lib. V, lxiii, 4). В основе лагарповского изложения — эпизоды из IV песни (прибытие соблазнительницы Армиды в лагерь христиан)39. Она предстает перед читателем плачущей (стихи 97, 101) и умоляющей (стих 97)40; мы видим, как она скромно потупляет взгляд в землю (стих 100)41, ловим ее улыбку и взор, которые рождают желание и сулят надежду (стихи 103—105)42; она умело пользуется очарованием своего голоса и в то же время владеет искусством молчания (стих 106)43. В примечаниях к своему переводу «Иерусалима» Лагарп назвал эти картины «одним из высших достижений (chefs-d’œuvre) итальянского духа» (La Harpe 1806, II: 241 n. 6)
- 23 -
и развернул пространную апологию эротических эпизодов IV песни: не полагаясь исключительно на образец древних, Тассо нашел тему, уместную в эпической поэме нового времени (La Harpe 1806, II: 241—242 n. 6, 245—246 n. 14). В «Лицее» (ч. III, кн. I, гл. I, раздел I) Лагарп подчеркивает, что итальянский поэт сумел неразрывно «связать» фигуру Армиды с «действием» «Освобожденного Иерусалима»; критик видит в этом еще одно свидетельство «безупречного построения» Тассовой эпопеи44. При таком подходе к поэме сцены, в которых действует Армида, приобретали особую важность. Она увлекает за собой лучших воинов-крестоносцев, соблазненных ее красотой, а затем, влюбившись в рыцаря Ринальдо (без участия которого не может быть взят Иерусалим — точно так же, как Троя не могла пасть без участия Ахилла), уносит его на чудесный остров (в этом Армида подобна другой волшебнице — Цирцее, которая удерживала на своем острове Одиссея45).
Батюшков не разделял мнения Лагарпа о том, что присутствие персонажа, подобного Армиде, совместимо с жанровыми законами героической поэмы. В письме к А. И. Тургеневу (10 сентября 1818 г.) он говорит о портрете Армиды: «И какое мѣсто въ Тассѣ! чудесное! — Здѣсь то — Тассъ именно великъ слогомъ, ибо Армида его недостойна Эпопеи46, кокетка, развратная, прелестница: но слогъ <...> ей даетъ прелесть неизъяснимую»47. В послании 1808 г., отталкиваясь от «Épître au Tasse», Батюшков также обращается к образу Армиды (стихи 47—50); однако на этом сходство заканчивается. Батюшков предлагает читателю вспомнить эпизоды волшебного сада:
Армиды ча̀рами средь моря сотворенной,
Здѣсь тѣнью миртовой въ долинѣ осѣненной,
Риналдъ, младой герой, забывъ воинской гласъ,
Вкушаетъ прелести любови и заразъ...Описание, на первый взгляд обобщенное и приблизительное, инкрустировано точными деталями из «Gerusalemme liberata». Сады Армиды были сотворены ее чарами [per incanto (Ger. lib. XIV, lxx, 5; ср. XV, xlvi, 8)] на острове в бескрайнем море [in pelago infinito (XV, xxiii, 6)]. В повествовании об острове (un’ isoletta) упоминаются тенистые долины [ombrose valli (XVI, ix, 5)], однако растут ли на этом острове мирты, неизвестно. У Батюшкова мирта, которую римляне считали деревом Венеры (Seyffert 1957, 681; и др.), становится лейтмотивом любовной темы: Амур,
- 24 -
также как Ринальдо, возлежит подъ миртою густой (стих 34)48. Тассо называет любовника Армиды il fanciullo, il garzone или il giovenetto ʽотрок, юноша’ (Chiappelli 1957, 98; 1981, 106); в батюшковском послании Ринальдо именуется младымъ героемъ в соответствии с традицией французских переводов и подражаний (le jeune héros)49.
Обращает на себя внимание существительное заразы ʽпривлекательные черты’ (ср. СЯ XVIII, вып. 8: 74), которое встречается у Батюшкова только дважды (Shaw 1975, 185) — в послании «К Тассу» и в переводе из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»: Ринальдо, войдя в очарованный лес, находит там царство сладкое и нѣги и заразъ (стих 50), напоминающее ему о садах Армиды. Можно утверждать, что слово заразы перешло в батюшковскую тассиану из прозаической версии «Иерусалима», принадлежащей М. Попову. У него пустынник Петр предупреждает Ринальдо о соблазнительных фантомах заколдованного леса (ср. Ger. lib. XVIII, x): «<...> не остановляйся при заразахъ, которыя прельстятъ твои чувства» (Попов 1772, ч. II: 327). Чаще всего интересующее нас слово появляется в переводе тех песен, где действует Армида. В IV песни Идраот уверяет Армиду, что воины Годфреда «не возмогутъ сопротивлятися соединеннымъ заразамъ <ея> разума и красоты»; она приходит в христианский лагерь, «имѣя оружїемъ единыя свои заразы», и прибегает к различным притворствам «для умиленїя воспламененныхъ ея заразами». В XVI песни Ринальдо говорит Армиде, что никакие зеркала «не возмогутъ достойно представити <ея> заразъ», а затем Армида жалуется, что Ринальдо пренебрегает ее «слабыми заразами» (Попов 1772, ч. I: 137, 138, 165; ч. II: 255, 267)50. Другая героиня, при описании которой оказывается уместным слово заразы, — Клоринда. В III песни она «побѣдила» Танкреда «своими заразами», после чего (песнь V) он сделался «нечувствительнымъ ко всѣмъ другимъ заразамъ», в том числе к чарам Армиды. Сама Клоринда (песнь VI) презирает «заразы, коими естество толь щедро <ее> снабдило» (Попов 1772, ч. I: 103, 197, 244). Во всех этих случаях русскому заразы соответствует at(t)raits ʽпрелести; charmes, чары’ в версии Мирабо, с которой делал свой перевод Попов51. Семантическая эквивалентность этих терминов представлялась переводчику настолько бесспорной, что он не стал включать attraits в список «новопереведенныхъ словъ», предпосланный поэме (см. Попов 1772, ч. I: а҃ı—в҃ı)52.
Особую проблему представляет синтаксическая инверсия в стихах 47—48 послания «К Тассу». Чтобы преодолеть трудности, возникающие при
- 25 -
осмыслении этих строк, их надо прочесть от конца к началу: «[Риналд], осененный в долине миртовой тенью, сотворенной средь моря чарами Армиды, [вкушает прелести любови и зараз]»53. Сложность усугубляется из-за рифмы сотворенной : осѣненной. Окончание -ой в именительном и винительном падежах прилагательных мужского рода совпадало с окончаниями косвенных падежей прилагательных женского рода. Как писал Л. А. Булаховский, это «могло приводить к неясности и даже двусмысленности» (1954, 106). Публикаторы послания, очевидно, полагали, что оба рифмующихся сло́ва принадлежат к женскому роду: окончание -ой в слове осѣненной сохранено даже в тех изданиях, где последовательно проведена замена -ой → -ый (Томашевский 1948, 190; Фридман 1964б, 84; Кошелев 1989, 358; и др.). Еще больше сбивает с толку пунктуационная конъектура, введенная Майковым и ныне общепринятая: первое полустишие 47-го стиха он отделил запятой от второго (Армиды чарами, средь моря сотворенной <...>) [Майков 1887а, I: 52 (2-й пагинации); ср. Благой 1934, 215; и др.]. Тем самым причастный оборот был подчинен выключенному из его состава существительному Армида: волшебница, сотворившая остров, сама, подобно Киприде, оказалась сотворенной средь моря. Это значит, что до сих пор анализируемый пассаж всеми понимался так: «Чарами Армиды, сотворенной средь моря, в долине, осененной миртовой тенью, Риналд вкушает прелести любови и зараз». Такое чтение неудовлетворительно по многим соображениям, из которых достаточно назвать одно: конструкция Риналд вкушает прелести чарами Армиды представляется лишенной смысла.
6. На самых разных уровнях повествования в «Освобожденном Иерусалиме» прослеживается параллелизм двух пар персонажей — Армиды и Ринальдо, с одной стороны, и Клоринды и Танкреда, с другой. Этот параллелизм актуален и для Батюшкова: в послании «К Тассу» за эпизодом Ринальдо и Армиды следует сцена боя Клоринды и Танкреда, завершающая раздел, посвященный «Иерусалиму» (Varese 1969, 24; 1970, 94—95; Brown 1986, 239). В выборе эпизодов Батюшков опирался на авторитет французской критики. Тот же Лагарп («Лицей», ч. II, кн. I, гл. X), рассуждая о «самых важных или самых патетических фрагментах» Тассовой эпопеи («les morceaux les plus importans ou les plus pathétiques»), особо выделяет «описание садов Армиды» и «рассказ о смерти Клоринды» (La Harpe 1799, VI: 210). Ж. де Сталь в X главе I части «De la
- 26 -
littérature...» писала: «La mort de Clorinde, tuée par Tancrède, est peut-être la situation la plus touchante que nous connoissions en poésie; et le charme inexprimable de cette épisode, dans le Tasse, ajoute encore à son effet» = «Смерть Клоринды от руки Танкреда — это едва ли не самая трогательная ситуация, которую мы знаем в поэзии; впечатление от нее усиливает неизъяснимая прелесть этого эпизода в изложении Тассо» (Staël-Holstein 1800, 201). По поводу одной из октав, заслуживших высокую оценку мадам де Сталь (Ger. lib. XII, lxiv), сам Батюшков заметил: «<Ч>то можетъ быть лучше етой строфы?»54. В статье «Ариост и Тасс» Батюшков перечисляет любимые сцены «Gerusalemme»: «Прелестный епизодъ Ерминїи, смерть Клоринды, Армидины сады и единоборство Танкреда съ Аргантомъ! кто читалъ васъ безъ восхищенїя? Вы останетесь незабвенными для сердецъ чувствительныхъ и для любителей всего прекраснаго!» (1816а, 117)55.
В основу стихов 52—60 из послания Батюшкова положены фрагменты XII песни «Освобожденного Иерусалима»: пожар, устроенный Клориндой и Аргантом (xlv—xlvi), бой Танкреда и Клоринды, закончившийся гибелью героини (lii слл.), и ламентации Танкреда (lxxv слл.):
Близъ стана воинска, подъ кровомъ черной ночи,
При заревѣ бойницъ, пылающихъ огнемъ,
Два грозныхъ воина, вооружась мечемъ,
Неистовой рукой струятъ потоки крови (52—55).Ночь — время действия и сквозная словесная тема XII песни, начинающейся словами: Era la notte = Была ночь (вергилианский топос: nox erat)56. Обращение к ночи предваряет рассказ о поединке (XII, liv, 3 слл.; ср. Chiappelli 1981, 139): «О нощь, сокрывшая подъ густотою твоихъ крововъ сїю достопамятную битву <...>» (Попов 1772, ч. II: 134)57. Упоминание огня отсылает к картине пожара (XII, xlv—xlvi; ср. vii, 6), вспыхнувшего близ христианского стана [Fuor del vallo nemico (v, 5)], куда Батюшков перенес место схватки. Вооружась мечемъ — модифицированная цитата из Тассо. Танкред спешивается, увидев пешего противника; начинается единоборство: <...> E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto = <...> И взял тот и другой меч острый [XII, liii, 5; ср. le spade ʽмечи’ (lv, 5; и др.)]. В рассказе о битве неоднократно возникает мотив кровавых ранений (lvii, 5—6; lviii, 5—6; lix, 6; lxii—lxiv; и др.). Причинами гибели Клоринды Тассо называет мрак и ярость [l’ombra e ’l furor (XII,
- 27 -
lv, 4)]. Мотивы неистовства, ярости и гнева (furor, sdegno, ira), охватывающего соперников (XII, liii, 6; lvi, 1—2; lxi, 5; lxii, 1, 8; lxxviii, 3; lxxxii, 5; и др.), также присутствуют в послании: Клоринда названа здесь «жертвой ярости» Танкреда (стих 56, ср. 55)58. В четырех заключительных стихах этого раздела Батюшков максимально близок к итальянскому оригиналу (Varese 1969, 24; 1970, 94):
Постойте воины!... Увы!... одинъ падетъ...
Танкредъ въ врагѣ своемъ Клоринду узнаетъ
И моремъ слезъ теперь онъ платитъ, дерзновенной,
За каплю каждую сей крови драгоцѣнной... (57—60)Тассо подчеркивает неведение Танкреда, именуя Клоринду il suo nemico ʽвраг его’ (XII, liii, 4; lviii, 6; ср. lvii, 4). Только когда она упала, сраженная ударом [<...> Ella <...> cadea (lxv, 3)], Танкред увидел ее и узнал [La vide, e la conobbe (lxvii, 7)]. Оригинал стихов 59—60 (Gli occhi tuoi pagheran <...> Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto) привел в примечаниях к своему стихотворению сам Батюшков и дал ссылку: «La Gierusalemme, canto XII<, lix, 2—3. — И. П.>» (1808б, 65 примеч. 5)59. С этими словами Тассо обращается к Танкреду, из речей которого взят эпитет драгоцѣнная [prezïoso (XII, lxxviii, 6)].
7. Мы видим, что в батюшковском переложении Лагарпа непрестанно варьируются способы интерпретации источника: точное воспроизведение, свободный пересказ, тематически сходные самостоятельные фрагменты; имеются даже случаи явной полемики с оригиналом. Вот как начинает свое стихотворение Батюшков:
Позволь, священна тѣнь! безвѣстному пѣвцу
Коснуться къ твоему безсмертному вѣнцу <...>
Среди Элизія, близъ древняго Омира,
Почіетъ тѣнь твоя, и Аполлона лира
Еще согласьемъ духъ поэта веселитъ!
Рѣка забвенія и пламенный Коцитъ,
Тебя съ любовницей, о Тассъ, не разлучили!
Въ Элизіѣ теперь васъ Музы съединили:
Печалей нѣтъ для васъ, и скорбь протекшихъ дней,
Какъ сладостну мечту объемлете душей...
- 28 -
Лагарп, обращаясь к Тассо, ориентируется на описание Аида в Вергилиевой «Энеиде»: Если твоя тень испила счастливое забвение Элизия [<...> A bu l’heureux oubli <...> de l’Élysée (стихи 5—6)], тогда зрелище твоих долгих скорбей [tes longues douleurs (стих 7)] представится тебе только сном [un songe (стих 8)]. Но если она пребывает близ той рощи (стих 9), где Дидона, вздыхая, отвернулась от Энея (стих 10), если Парки соединили тебя с влюбленными манами, чье пламя не угасили воды Леты (стихи 11—12), то позволь (permets) мне утешить тебя беседой (стихи 13—14).
Стихотворению Лагарпа предпослан эпиграф:
Lugentes campi: sic illos nomine dicunt.
Hic quos durus amor crudeli tabe peredit...
... curæ non ipsâ in morte relinquunt.Énéïde, liv. VI
[= Области скорбных полей: их по имени так называют. // Здесь, кого злая любовь беспощадным недугом изгрызла... // ...страсти и в самой смерти... не покидают (La Harpe 1806, III: 151)]. Лагарп цитирует стихи Aen. VI, 441—442 и 444: он предполагает найти своего певца там, где Эней встретил Федру, Лаодамию, Дидону, — близ развилки дорог, одна из которых ведет в Элизий, другая — в Тартар60. В «полях скорби» маны помнят о любви, но память служит им наказанием: в отличие от элизийских теней, им не дано вкусить радость забвения. У Батюшкова иначе: тень Торквато «почіетъ среди Элизія», где Музы (не Парки!) съединили певца с его любовницей. Глагол съединили взят из французского стихотворения (t’ont rejoint), однако общая ситуация инвертирована: Торквато и Леонора не знают тех печалей, которые преследуют страдальцев в подземном царстве «Энеиды». Как и в лагарповском варианте Элизия, скорбь протекшихъ дней представляется им сном (мечтой), но, в отличие от картин, нарисованных Лагарпом и Вергилием, в батюшковском Элизии любовники блаженствуют вдвоем. Вергилиев Элизий антиэротичен — Батюшков противопоставляет ему эротический Элизий.
Неправдоподобно, чтобы поэт, воспитанный на эстетике позднеклассической школы, взял на себя смелость произвольно изменить традиционную картину. Наиболее вероятный источник, на который мог опираться Батюшков, — это вариант мифа об Орфее и Эвридике, рассказанный в XI книге Овидиевых «Метаморфоз». У Овидия повествование о трагической
- 29 -
любви завершается «светлым разрешающим аккордом» (Norden 1966, 518) — певец и его возлюбленная находят счастье в Элизии (Stephens 1958, 182; Boillat 1976, 33, 92; Bömer 1980, 253—254; Вулих 1996, 144—145):
Тень же Орфея сошла под землю. Знакомые раньше,
Вновь узнавал он места. В полях, где приют благочестных,
Он Эвридику нашел и желанную принял в объятья61.
Там по простору они то рядом гуляют друг с другом,
То он за нею идет, иногда впереди выступает,
И не страшась, за собой созерцает Орфей Эвридику.Ovid. Met. XI, 61—66 (перевод С. Шервинского)
Параллель между Тассо и Орфеем прочерчена в «Épître» Лагарпа (стих 94). Кроме того, фигура вещего певца играет важную роль в загробном путешествии Энея. Орфей — это первый из примеров (exempla), который вспоминает герой, прося у Сивиллы позволения спуститься в Айдес (Virg. Aen. VI, 119—120; Austin 1977, 76). Эней встречает Орфея среди обитателей Элизия (Aen. VI, 645—647), но из текста «Энеиды» не ясно, находится ли в Элизии Эвридика. Не проясняют дело и «Георгики» (см. Georg. IV, 494—527). Только в юношеском «Комаре» Вергилий помещает Эвридику наравне с Орфеем в Элизий — опять-таки, непонятно, вместе или порознь (Culex 268—296; Güntzschel 1972, 100). Существенно, однако, что Вергилий в послании Батюшкова не упоминается. Зато в нём фигурирует Овидий, и в этом заключается еще одно яркое отличие русского подражания от французского оригинала.
Лагарп творит миф о явлении Тассо-поэта: Прозвучал твой голос — и тут пробудилась (s’éveille) Авзония (стихи 25—26). Ты пел в Ферраре, вдохновленный славой и любовью, которые воспламеняли твой гений [ton génie (стихи 31—33)]. Муза Эпопеи прилетела с могилы Вергилия (стихи 34—35), чтобы услышать твои бессмертные песни [tes chansons immortelles (стих 37)]. Над твоей священной главой она распростерла свои крылья и собственной рукой тебя увенчала (стихи 38—39). Весь Олимп восплескал, ему отозвался Пинд (стихи 39—40). У Батюшкова мы читаем (стихи 19—22):
Ты пѣлъ — и весь Парнасъ въ возторгѣ пробудился,
Въ Феррару съ Музами Фебъ юный низпустился,
- 30 -
Назонову тебѣ онъ лиру самъ62 вручилъ
И геній крыльями безсмертья осѣнилъ.Налицо сокращение темы, перекомпоновка лексического материала и варьирование традиционной атрибутики («Пинд» — «Парнас», «Муза» — «все Музы и сам Аполлон»), однако нас будет интересовать другое. Лагарп сопоставляет Тассо с двумя певцами, служившими Каллиопе: с Вергилием (стих 35) и Гомером (стихи 43 слл.). После П. Бени (Beni 1607) к этой параллели обращались многие авторы, писавшие об «Иерусалиме» (Puglisi Pico 1896, 37—45), в том числе наставник Батюшкова М. Н. Муравьев (Майков 1885, II: 565; Фридман 1971, 200; Горохова 1980, 140—141) и, позже, сам Батюшков: «Сколько описанїй битвъ въ поемѣ Торквато! И мы смѣло сказать можемъ, что сїи картины не уступаютъ, или рѣдко ниже картинъ Виргилїя. Онѣ часто напоминаютъ намъ самаго Гомера» (1816а, 111). В послании 1808 г. Батюшков также уподобляет Торквато Гомеру (стихи 7, 110—112), но Вергилия заменяет Овидием (стих 21): Омир репрезентирует героическую поэзию, Назон — любовную. Ассоциация «Тассо — Овидий» для Батюшкова оказалась значимой: он не только заставил Феба вручить творцу эпической поэмы Назонову лиру, но и переработал в духе Овидия вергилианскую картину царства мертвых из «Épître au Tasse»63.
8. В переводных текстах первой четверти XIX в. часто совмещались две противоположные тенденции: калькирование французской поэтической фразеологии и заимствование уже́ готовых формул у русских современников и предшественников (Томашевский 1937а, 13). В этой связи послание «К Тассу» представляет исключительный интерес.
С одной стороны, целый ряд мотивов, введенных в русскую тассиану Батюшковым, восходит непосредственно к Лагарпу. Так, дословно с французского переведена формула преждевремянно несчастливъ и великъ (стих 18); ср.: <...> Fut d’être avant le tems et grand et malheureux (стих 24). Отдаленное сходство некоторых мест из послания «К Тассу» с «Тассовыми бдениями» Компаньони показалось Гороховой (1978, 140) достаточным для того, чтобы усмотреть отражение «Veglie» в стихах 61 слл. На самом деле они взяты из Лагарпа и выполняют ту же композиционную функцию, что и во французском оригинале: Чтожъ было для тебя наградою, Торкватъ? // За пѣсни стройныя? — Зоиловъ острый
- 31 -
ядъ <...> — Eh bien! quel fut le prix de ces efforts sublimes?... <...> Inexorable Envie!... (стихи 109—111)64. Аналогичным риторическим вопросом открывается следующий абзац: Имѣло ли конецъ несчастіе поэта? (стих 87) — Ce long cours d’infortune a-t-il enfin son terme? (стих 177). В некоторых строках Батюшкова воспроизведены даже ритм и синтаксис подлинника: Придите! Вотъ поэтъ, превыше смертныхъ хвалъ <...> (стих 81) — <...> Approchez: le voilà, ce chantre renommé <...> (стих 160) [ср. также: О вы, которыхъ ядъ <...> (стих 77) — Et vous dont le courroux <...> (стих 159)]65.
С другой стороны, рядом с точно переведенными сегментами текста мы встречаем в послании «К Тассу» преднамеренные отступления от источника: Позволь <ср. permets у Лагарпа в стихе 13. — И. П.>, священна тѣнь! безвѣстному пѣвцу // Коснуться къ твоему безсмертному вѣнцу <...> (стихи 1—2); Торквато! Кто изпилъ всѣ горкія отравы // Печалей и любви, и въ храмъ безсмертной славы, // Ведомый Музами, въ дни юности проникъ <...> (стихи 15—17). Согласно Лагарпу, Торквато достиг славы (attendit la gloire) только на смертном одре [au moment de la mort (стих 3)]. Кроме того, Батюшков перенес в свое новое произведение формулы, с которыми раньше обращался к В. А. Озерову:
Любимецъ строгой Мельпомены,
Прости усердный стихъ безвѣстному пѣвцу.
Не лавры къ твоему вѣнцу,
Рукою дерзкою сплетенны,
Я въ даръ тебѣ принесъ. Къ чему мой фиміамъ <sic!>
Творцу Димитрія, кому безсмертны Музы <...>
Открыли славы храмъ?(Батюшков 1808а, 145)66
Наглядным свидетельством русско-французского полигенеза послания Батюшкова может послужить сцена смерти Торквато (стихи 101—103):
Премѣна жалкая столь радостнаго дни!
Гдѣ знамя почестей — тамъ смертны пелены,
Не увѣнчаніе, но лики погребальны...Д. Д. Благой указал, что в майковском издании 102-й стих был «воспроизведен <...> ошибочно»: знаки почестей вместо знамя почестей [Благой 1934, 558; ср. Майков 1887а, I: 53 (2-й пагинации)]. В дальнейшем
- 32 -
все публикаторы, за исключением Б. В. Томашевского (1948, 192), придерживались чтения «Драматического Вестника»; тем не менее, конъектура юбилейного собрания не может быть отвергнута безоговорочно: Майков опирался на текст издания 1834 г., подготовленный к печати Гнедичем67. Только обращение к оригиналу послания позволяет установить, что вариант Гнедича (?) был результатом недосмотра или редакторского произвола:
<Le destin> montrait la couronne, il ouvre le cercueil.
Un si beau jour se change en d’affreuses ténèbres,
L’étendard de la gloire en des linceuls funèbres[= Судьба, посулив венок, отворяет гроб. // Столь счастливый день сменяется ужасающей тьмой, // Знамя славы — погребальными пеленами (стихи 200—202)]. Сопоставление батюшковских стихов с подлинником понуждает внести коррективы в историко-литературный комментарий. Благой считал, что эти строки «явно подсказаны Батюшкову знаменитой антитезой из оды Державина „На смерть князя Мещерского“» (Благой 1934, 558): Где стол был яств, там гроб стоит, // Где пиршеств раздавались лики, // Надгробные там воют клики68. Нельзя, однако, не заметить, что из трех вышеприведенных стихов послания «К Тассу» первый дословно переведен из Лагарпа, во втором на французский фразеологический материал накладывается державинский синтаксис (где... там...), а в третьем лагарповская лексическая оппозиция (la couronne ʽвенок’ vs le cercueil ʽгроб’) трансформирована под воздействием окказиональной синонимии в оде Державина. У Державина — параллелизм противопоставлений: стол яств и лики пиршеств противопоставлены гробу и надгробным кликам. У Батюшкова лагарповский cercueil ʽгроб’ по ассоциации с державинским гробом и надгробными кликами, а также под воздействием рифмы клики : лики контаминируется в лики погребальны, и этот образ, восходящий к Державину, в батюшковском стихе противопоставлен увенчанию, которое восходит к Лагарпу. Еще о связи с поэтикой предыдущего столетия сигнализирует неточная рифма дни : пелены (Гаспаров 1977, 67, 69; 1984, 142—144), а кроме того, созвучие, связывающее 23-й и 24-й стих послания Батюшкова: <...> Эвмениды // Всѣхъ ужасовъ войны открыли мрачны виды, // Бѣгутъ среди полей <...> Эта рифма была употреблена Барковым (?) в знаменитой оде «Приапу»: Оставя в тартаре свой труд, // И гарпии и евмениды,
- 33 -
// И демонов престрашны виды // Все взапуски ко мне бегут (Цявловский 1996, 250; Пильщиков, Шапир 2002, 280)69.
Из других случаев полигенеза остановлюсь только на одном. В стихотворении Лагарпа есть строки, долженствующие изобразить внезапную перемену в жизни героя: On déchira trop tôt les voiles favorables // Qui couvraient de ton sort le secret enchanteur = Вскоре будут разорваны благосклонные завесы // Скрывавшие чарующую тайну твоей судьбы (стихи 142—143). Отталкиваясь от этого маловразумительного иносказания, Батюшков создает новый энергический образ: Завѣса раздрана! — Ты узникъ сталъ, Торквато! (72). Подобно французскому voile (ср. Григорьева 1969, 229), слово завеса нередко употреблялось в переносном значении ʽвнешний облик, ложная видимость’: завѣса святости (Ломоносов), завѣса величавости (Радищев), завѣса скромности (Карамзин) и т. п. (СЯ XVIII, вып. 7: 174—175). В послании «К Тассу» речь идет о «завесе лести» — о притворной хвале и ласках, которыми Торквато был недолгое время окружен при дворе феррарского герцога. Но у сочетания завеса раздрана — особая история; оно восходит к евангельскому повествованию о распятии Христа: когда Иисус испустил дух, «завѣ́са церко́внаѧ раздра́сѧ» (Мф 27, 51; Мк 15, 38; Лк 23, 45). Евангелисты говорят о завесе иерусалимского храма (τὸ καταπήτασμα τοῦ ναοῦ), которая отделяла святилище от Святая Святых (פָּרֹכֶת; ср. Исх 26, 31—35; Cranfield 1977, 459—460; и др.). Связь батюшковского стихотворения с библейским контекстом — опосредованная; дерзкая метафора уже́ употреблялась в русской литературе до Батюшкова, в частности, тем же Державиным в оде 1799 г. «На коварство...»: <...> Завѣса лести раздерется (Державин 1808, ч. I: 183)70.
Генетический анализ послания «К Тассу» выявляет характерную особенность переводческой техники Батюшкова. В стихотворении свободно сочетаются элементы, восходящие к разным источникам, а степень переводческой точности произвольно варьируется при переходе от одного сегмента к другому: рецидивы крайнего буквализма соседствуют с заменами европейских поэтических идиом на русские. К сходным выводам подталкивают и наблюдения над переводами Батюшкова из Тассо, которым посвящена следующая глава.
- 34 -
Глава вторая
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»
(1808—1810)1. Вслед за посланием «К Тассу» Батюшков поместил в «Драматическом Вестнике» свой «опытъ перевода нѣкоторыхъ октавъ изъ безсмертной Тассовой поэмы» — стихотворную версию эпизода из I песни «Gerusalemme liberata» (xxxii—xli), повествующего об избрании Годфреда главным военачальником и о параде христианских войск. Автор предупреждал читателей: «Если не найдутъ высокихъ піитическихъ мыслей, красоты выраженій, плавности стиховъ, то вина переводчика: подлинникъ безсмертенъ» (Батюшков 1808б, 67). По-видимому, уже́ тогда Батюшков был близок к представлению о том, что творения великих итальянцев «ни на какой языкъ перевести не возможно» (Батюшков 1816б, 187). 6 сентября 1809 г. он писал Гнедичу: «<...> Іерусалимъ сокровище, чѣмъ болѣе читаешь тѣмъ болѣе новыхъ красотъ которые <sic!> изчезаютъ во всѣхъ переводахъ»71.
Подобно другим поэтам-переводчикам рубежа XVIII—XIX вв., Батюшков воспроизводил не собственно оригинал, а комплекс тематически и стилистически связанных с ним текстов, включая уже́ существующие переводы (которые я буду называть переводами-посредниками). Принцип анализа версий-посредников может быть сформулирован следующим образом: их воздействие считается доказанным (или, по крайней мере, высоко вероятным) в том случае, когда у двух переводчиков обнаружено значительное число одинаковых отступлений от оригинала, которые при этом не совпадают с отступлениями в других переводах (Пильщиков 1995б, 90—91; 1999г, 9; 2001, 345).
- 35 -
К началу XIX века в России имелся только один полный перевод поэмы Тассо, сделанный М. Поповым с прозаического переложения, «надъ которымъ трудился господинъ Мирабодъ» (Попов 1772, ч. I: ҃є примеч. *; Семенников 1913, 43; Заборов 1963, 81—82; 2000, 43; Горохова 1973, 143—146). Труд Ж.-Б. Мирабо (1724) на полстолетия стал переводом «Иерусалима» par excellence; несмотря на свое несовершенство, он имел огромный успех и открыл перед автором двери Академии (Beall 1942, 129—132)72. Книга Попова также пользовалась популярностью. Карамзин писал в «Пантеоне Российских Авторов»: «Переводы Г. Попова были въ великомъ уваженіи: особливо Тассовъ Освобожденный Іерусалимъ, о которомъ ЕКАТЕРИНА Вторая упоминаетъ съ похвалою въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Вольтеру» (Карамзин 1820, 325). Через два года после опубликования перевода Попова увидела свет лучшая франкоязычная прозаическая версия поэмы, принадлежащая Ш.-Ф. Лебрену (переработанное издание со вступительной статьей Ж.-Б.-А. Сюара вышло в 1803 г.). В том же 1774 году, рецензируя эту книгу, Лагарп писал, что она «заставит забыть» «слабый, растянутый, вялый и подчас неточный перевод г-на де Мирабо» (La Harpe 1778, VI: 130—131). «Освобожденный Иерусалим» Лебрена был единогласно признан шедевром французской переводной литературы; опубликованный без имени автора перевод некоторое время «приписывали Ж.-Ж. Руссо, и он достоин этого великого писателя <...>» [Panckoucke 1785, I: 10 (1-й пагинации)]. Исключительного значения лебреновского перевода не отменили последующие работы, в том числе версия à côté du texte Ш.-Ж. Панкука (1785), о которой высоко отзывался Женгене (Ginguené 1789, № 19: 94; Grossi 2001, 253 n. 4). В 1795 г. П. Баур-Лормиан (см. о нём Gallagher 1938) перевел итальянскую эпопею en vers français. Вскоре в изданных А. Г. Решетниковым сборниках «Разные стихотворения» (Москва 1798) и «Продолжение разных стихотворений» (Москва 1799) появились русские стихотворные переводы из «Освобожденного Иерусалима». Об их существовании Батюшков, судя по всему, не знал — в одном из примечаний, которыми снабжено послание «К Тассу», он пишет: «Кажется до сихъ поръ у насъ нѣтъ перевода Тассовыхъ твореній въ стихахъ» (1808б, 62 примеч. 2; Горохова 1980, 149—153).
В апреле и в июне 1808 г. стихотворные отрывки из «Иерусалима» опубликовал А. Ф. Мерзляков (1808а; 1808б). 24 июня 1808 г. Батюшков с беспокойством спрашивал Гнедича: «Мерзляковъ не перевелъ-ли
- 36 -
уже безъ меня? и не лучше-ли моего, ето меня мучитъ»73. К труду своего соперника Батюшков всегда относился с больши́м уважением (ср. Верховский 1941, 403). В письме к А. И. Тургеневу от 10 сентября 1818 г. он противопоставляет мерзляковский перевод шишковскому: «<...> слушать буду сегодня переводъ Мерзлякова, у котораго много пламенныхъ стиховъ <...>»74. Ю. Н. Тынянов ошибался, утверждая, что Батюшков «почти примирился с поэзией Мерзлякова и <...> нашел у него „пламенные стихи“» только в 1818 г., когда наступил «кризис „карамзинизма“» (Тынянов 1926а, 229, ср. 246). Еще в мае 1810 г., сообщая Гнедичу московские новости, Батюшков отзывался о Мерзлякове в тех же выражениях: «Мерзляковъ читалъ 4-ю пѣснь Тасса, въ которой истинно есть прекрасные стихи» (Майков 1886, т. III: 94)75. В переписке 1807—1808 гг. другие переводы эпопеи не упоминаются, однако сопоставление батюшковского фрагмента с предшествующими версиями обнаруживает его зависимость от Лагарпа и от Попова (см. Приложение II).
Исследователи подчеркивают, что Батюшков переводил Тассо высоким слогом, «с изобилием славянизмов, выходящих уже́ из употребления в других жанрах его творчества» (Верховский 1941, 403; Serman 1974, 28—29; Горохова 1975, 253 примеч. 63; 1980, 145; Brown 1986, 239). Эта «архаизирующая» стратегия была унаследована им у Попова, который безусловно предпочитал церковнославянские формы русским, полагая, что «обширный и богатый Славенскїй Языкъ <...> есть источникъ и красота Россїйскаго» (Попов 1772, ч. I: ҃ı; ср. Живов 1996, 417). Но это далеко не всё: подчас Батюшков заимствует у предшественника обороты, не имеющие точных эквивалентов в итальянском оригинале. Вот несколько примеров76.
Годфред провозглашен военачальником крестоносцев; он получает новые полномочия. В итальянском тексте сказано: L’approvâr gli altri: esser sue parti denno <...> = Прочие это одобрили: должно стать его уделом <...> (I, xxxiii, 1). У Батюшкова: И плески шумные избранье увѣнчали! // Ему единому, всѣ ратники вѣщали <...> (стихи 9—10) — в соответствии с версией Попова: «Всѣ прочїе восплескали единодушно сему избранїю. Ему единому, вѣщали <...>» (Попов 1772, ч. I: 17)77. Попов точно следует французскому тексту: «Tous les autres applaudirent unanimement à leur choix. C’est à lui, dirent-ils <...>» (Mirabaud 1724, I: 13).
Начинается смотр войск. Французы идут под традиционным знаменем золотых лилий [<...> de’ gigli d’oro <...> l’usata insegna (I, xxxvii,
- 37 -
5—6)]. Попов перефразирует Мирабо: «<...> благородная Хоругвь Трехъ Лилїй» (Попов 1772, ч. I: 19); так же описывает французский флаг Батюшков: <...> хоругвь трехъ лилій благородныхъ (стих 45). Ср. у Мирабо: «<...> la noble Enseigne des Fleurs-de-lys» (Mirabaud 1724, I: 15). Из этого примера (а также из ряда других) видно, что Батюшков пользовался переводом Попова и не обращался к версии Мирабо.
Итальянский поэт рассказывает, что на параде всадники и пехотинцы передвигались раздельно [<...> si vedea davanti // Passar distinti i cavalieri e i fanti (I, xxxv, 7—8)]. В русских переложениях установлен строгий порядок шествия, а pluralia заменены собирательными именами: Но войско двигнулось78 — передъ вождемъ течетъ // Тяжела конница и ей пѣхота въ слѣдъ (стро́ки 31—32 в переводе Батюшкова); «Прибывшу туда Годофреду, все воинство предъ нимъ учинило свое шествїе; во первыхъ конница, и за оною пѣхота» (Попов 1772, ч. I: 18). Ср.: «<...> la Cavalerie d’abord, & puis l’Infanterie» (Mirabaud 1724, I: 14).
Тассо, желая польстить своему покровителю Альфонсу д’Эсте, говорит, что Гельф имел длинный ряд Эстских предков [<...> De gli avi Estensi un lungo ordine <...> (I, xli, 4)]. У Батюшкова другая формула: Изъ дома Эстскаго сей витязь родился (75). Ср.: «<...> знаменитый домъ Естскїй» (Попов 1772, ч. I: 21); «<...> l’illustre maison d’Este» (Mirabaud 1724, I: 16).
В интерпретации переводчиков XVIII в. «святое рвенїе (un saint zele) возбудило» епископов Вильгельма и Адемара «препоясати мечъ» (Попов 1772, ч. I: 20; Mirabaud 1724, I: 16). Отсюда восклицание Святое рвеніе! в батюшковской версии «Иерусалима» (стих 59) — итальянского аналога этому выражению нет79.
Часть отступлений от подлинника Батюшков допустил, ориентируясь на Лагарпа80. Ко французскому переводу восходят некоторые парафразы и эпитеты: ср. свѣтило дня (стих 26) и l’astre du jour (стих 281) вместо il sol(е) ʽсолнце’ (I, xxxv, 1); Счастливой Иль-де-Франсъ, обильной, многоводной <...> (стих 49) и heureux (стих 298) вместо ampio e bello = обширный и прекрасный (I, xxxvii, 4). Русская синтаксическая конструкция: Повѣждь — да слава ихъ утраченна вѣками <...> (стих 37) — соответствует французской [Parle, et que désormais leur longue renommée <...> = Говори, и да отныне их долгая слава <...> (стих 292)] и расходится с итальянской [Suoni e risplenda la lor fama antica = Озвучь и освети их древнюю славу (I, xxxvi, 5)].
- 38 -
Годфред в поэме Тассо принимает военные приветствия с видом спокойным и сосредоточенным [<...> in volto placido e composto (I, xxxiv, 4)]; в русском переложении иначе: <Онъ> видъ величія спокойнаго являлъ (стих 20). М. Ф. Варезе цитирует батюшковский стих как пример вольного обращения переводчика с оригиналом (Varese 1969, 22), но Батюшков следовал здесь не итальянскому тексту, а французскому: <Godefroi,> calme et majestueux = <Годфред,> спокойный и величественный (стих 274). Эта характеристика дословно повторена в «Умирающем Тассе», где «христіянскіе витязи, со всѣми, даже малѣйшими, оттѣнками характеровъ, изображены въ нѣсколькихъ строкахъ» (Плетнев 1823, 222): <...> Готфредъ, Владыко, вождь Царей <...> спокойный, величавый (Батюшков 1817а, ч. II: 250). Титул вождь Царей тоже взят из раннего перевода: <...> Готфреда нарекли вождемъ самихъ царей (стих 8)81.
Французские и русские поэты 1790-х — 1810-х годов переводили «Gerusalemme» александреном со смежной рифмовкой — стихом французской и русской эпопеи (ср. Егунов 1964, 89—92; Голенищев-Кутузов 1965; 1966, 416; Lauer 1968, 486—488; Эткинд 1973, 145, 153; Serman 1974, 30; Матяш 1979, 104). При этом у Батюшкова двустишия сгруппированы в 8-строчные стро́фы (в соответствии с количеством строк в Тассовой октаве). Перераспределение словесного материала эндекасиллабических октав по александрийским двустишиям батюшковского фрагмента также не оставляет сомнений в том, что русский переводчик сверялся со стихотворной версией Лагарпа. Вот начало XXXV октавы I песни:
Facea ne l’orïente il sol ritorno,
Sereno e luminoso oltre l’usato,
Quando co’ raggi uscí del novo giorno <...>В буквальном переводе Н. Остолопова это место звучит так: Дѣлало на востокъ солнце возвращеніе // Свѣтлое и блестящее, сверхъ обыкновеннаго, // Когда съ лучами, вышло, новаго дня <...> (Остолопов 1819, 351). У Лагарпа и Батюшкова три строки превращаются в две — ср. стихи 281—282 во французском переложении и стихи 25—26 в русском:
Jamais l’astre du jour s’élevant dans les cieux,
Ne fit voir à la terre un front plus radieux.Торжественнѣй въ сей день явилось надъ морями
Свѣтило дня, лучи ліющее рѣками!
- 39 -
Еще большей компрессии подверглись 3—6 стихи XLI октавы:
Conta costui per genitor latino
De gli avi Estensi un lungo ordine e certo;
Ma, german di cognome e di domino
Ne la gran casa de’ Guelfoni è inserto.Ср. переводы:
Des héros du sang d’Este illustre rejeton,
Des Guelfes non moins grands l’heureuse adoption <...>(стихи 321—322)
Изъ дома Эстскаго сей витязь родился,
Возпринят Гелфомъ былъ и Гелфомъ назвался <...>(стихи 75—76)
Рассмотрим пристальнее самый яркий случай — перевод начальных строк знаменитой XXXVI строфы I песни:
Mente, de gli anni e de l’oblio nemica,
De le cose custode e dispensiera,
Vagliami tua ragion, sí ch’io ridica
Di quel campo ogni duce ed ogni schiera(= Память, врагиня годов и забвения, // Вещей хранительница и распространительница, // Передай мне свое знание, дабы я мог пересказать, // Из какого лагеря был каждый вождь и каждый полк). Оба переводчика вольно передают первую строку целым двустишием, а в следующее двустишие умещают содержание остальных трех строк:
Toi qui perces des tems la nuit injurieuse,
O toi du noir oubli toujours victorieuse!
Mémoire, ouvre pour moi tes antiques dépôts;
Redis-moi tous les noms des chefs et des héros <...>[= Ты, пронзающая оскорбительную ночь времен, // О, ты, всегда побеждающая черное забвение! // Память! открой мне свои древние хранилища; // Перескажи мне все имена вождей и героев <...> (стихи 287—290)];
О память свѣтлая! Тобою озаренны
Протекши времяна и подвиги забвенны;
- 40 -
О память! Мнѣ свои хранилища открой!
Чьи ратники сіи? Кто славной ихъ герой?(стихи 33—36)82
Нетрудно заметить, что версии Лагарпа и Батюшкова настолько же близки друг к другу, насколько обе далеки от оригинала (у Тассо речь идет о Памяти-хранительнице, у Лагарпа и Батюшкова — о хранилищах Памяти; глагол открыть есть у обоих переводчиков, но отсутствует в итальянском оригинале; и т. д.). Для того, чтобы объяснить лексико-синтаксические отклонения обоих переводов от итальянского первоисточника, необходимо обратиться к истории французских версий этого фрагмента. Своим появлением в переводе XXXVI октавы слово héros обязано Бауру-Лормиану: <...> Redis-moi les hauts faits et les noms des héros = <...> Перескажи мне высокие деяния и имена героев (Baour-Lormian 1796, I: 13); Лагарп слегка переиначил строку предшественника, приблизив ее к подлиннику (характерно, что и у французских поэтов, и у Батюшкова слово héros/герой попадает на клаузулу83). 35-й стих батюшковского отрывка целиком переведен с французского. Лексико-морфологический строй французского языка позволяет точно воспроизвести эффектную просопопею Тассо [Mente <...> custode e dispensiera = memoire <...> gardienne & dispensatrice (Vigenère-Bourbonnais 1595, fol. 6v)], однако для переводчиков XVIII в. она была стилистически неприемлема. Из двух приложений Мирабо сохранил первое (custode ʽхранительница, стражница’), причем передал его не словом gardienne ʽта, которая охраняет’, а семантически близким dépositaire ʽта, которая хранит’: «Mémoire <...> qui es la depositaire de tout ce qui s’est passé dans le monde» (Mirabaud 1724, I: 14). Через несколько десятилетий и такая «ретушь» показалась недостаточной. Перелагая Мирабо, Попов заменил одушевленное существительное хранительница неодушевленным хранилище: «Память <...> хранилище всего случившагося въ мїрѣ» (Попов 1772, ч. I: 18—19). К похожему решению пришел Лебрен, употребивший в своем переводе слово dépôt ʽхранилище’84: «O toi <...> qui conserves, dans un dépôt fidèle, les événemens passés, mémoire<!>» (Lebrun 1774, I: 14; 1803, I: 15) = «О ты <...> соблюдающая въ надежномъ хранилищѣ минувшія событія, Память!» (Москотильников 1819, ч. I: 18)85.
Следующий этап трансформаций был обусловлен спецификой версии Панкука. Панкук стремился создать «буквальный и верный перевод» эпопеи,
- 41 -
который мог быть напечатан параллельно с итальянским оригиналом. Такой перевод должен близко следовать форме подлинника и одновременно давать хоть какое-то представление о его поэтическом совершенстве. Преследуя эту двоякую цель, Панкук комбинировал фрагменты лебреновской версии (славившейся своими художественными достоинствами) с элементами дословного перевода, частично заимствованными из подстрочника, опубликованного в 1783—1784 г. П.-Ж. Люно де Буажерменом в качестве пособия для изучающих итальянский язык [см. Panckoucke 1785, I: 9—12, 39 (1-й пагинации); Beall 1942, 145—147]. В редакции Панкука обращение к Памяти приобрело следующий вид: «Mémoire <...> gardienne et dispensatrice des choses, ouvres-moi <sic!> tes dépôts <...>» [Panckoucke 1785, I: 36 (2-й пагинации)]. Слово dépôt, взятое у Лебрена, было поставлено во множественное число и через императив связано с обращением ouvre-moi ʽоткрой мне’. Это новшество не осталось незамеченным. Лагарп, отбросив буквально переведенный сегмент, построил свой стих на амплификации версии Панкука. Батюшков воспроизвел стих Лагарпа. Баур-Лормиан, который в середине 1810-х годов радикально переделал свой перевод (Quérard 1838, 351), также воспользовался лагарповским стихом: <...> Mémoire, ouvre à mes yeux tes antiques annales! (Baour-Lormian 1819, I: 15)86. Наконец, сторону Лагарпа и Батюшкова принял Мерзляков: О Память, стражъ, судья событій знаменитыхъ! // Открой мнѣ глубины обителей сокрытыхъ <...> (1828, ч. I: 14).
Говоря о батюшковском переводе в целом, необходимо указать, что поэт не просто заменяет отдельные сегменты подлинника выражениями, найденными у Лагарпа или у Попова: как отмечалось выше, Батюшков переводит не оригинал, а некоторый «макротекст», включающий в себя оригинал и переводы-посредники. Посмотрим, как «сделано» первое восьмистишие батюшковского фрагмента, соответствующее XXXII октаве I песни «Gerusalemme liberata».
Начальные два стиха — это обращение к Святому Духу [Sant’ Aura e divo Ardore (ср. Battaglia 1961, I: 846, 639)]:
Скончалъ пустынникъ рѣчь! — Небесно вдохновенье!
Не скрыто от тебя сердечное движенье.Восклицание Небесно вдохновенье! восходит к переводу Попова: «Божественное вдохновенїе!» [1772, ч. I: 17; ср. у Мирабо: «Inspiration divine
- 42 -
<...>» (Mirabaud 1724, I: 13)]. При этом соотношение метра и синтаксиса в 1-й строке — лагарповское:
Скончалъ пустынникъ рѣчь! — | Небесно вдохновенье!
Pierre n’en dit pas plus: | ô puissance invisible! (255)
Причастие скрыто во 2-м стихе батюшковского переложения соответствует итальянскому chiusi; ни у Попова, ни у Лагарпа его нет. Зато сердечное движенье — это отклик на перевод Лагарпа, где Святой Дух назван движителем человеческих сердец [O du cœur des humains moteur irrésistible <...> (стих 256)]. 3-й стих (Ты въ старцовы уста глаголъ вложило сей) соотносится с итальянским (Inspiri tu de l’Eremita i detti), но при посредничестве версии Попова: «Ты словеса сїи вложило во уста сего пустынножителя» (1772, ч. I: 17; разрядка моя. — И. П.)87.
Вот третье двустишие батюшковского фрагмента:
Ты укротило въ нихъ бунтующія страсти,
Духъ буйной вольности, любовь врожденну къ власти.Посредничество Попова очевидно: «<...> ты угасило въ нихъ врожденную человѣкамъ любовь къ неподвластности (l’amour naturel <...> pour l’indépendance): ты укротило (tu réprimas) сїю склонность <...> къ повелѣванїю другими» (Попов 1772, ч. I: 17; Mirabaud 1724, I: 13; разрядка моя. — И. П.). Но у Попова нет слова страсти: Батюшков взял их из итальянского подлинника (innati affetti ʽврожденные страсти’).
В 7-й и 8-й строках Батюшков ближе к подлиннику, чем переводчики-предшественники, в 9-й и 10-й он перелагает стихами прозу Попова, через некоторое время снова возвращается к итальянскому тексту и т. д. В одних случаях Батюшков воспроизводит фразеологию Лагарпа, в других — калькирует итальянский оригинал: principe nativo (I, xxxviii, 6) = кровный царь (стих 52); triplicati (I, xl, 7) = трижды толикое число (стих 71). Продемонстрированный принцип «совмещения источников» выдержан на протяжении всего фрагмента.
Влияние французской переводческой традиции не воспрепятствовало хорошему знакомству Батюшкова с оригиналом Тассовой эпопеи: зачастую Батюшков передает итальянский текст точнее других переводчиков. Сравнение перевода с итальянским подлинником подтверждает справедливость замечания Благого (1934, 559) о необоснованности майковской
- 43 -
конъектуры в 7-м стихе: Вильгельмъ и мудрый Гельфъ, первѣйшій изъ вождей <...> [Майков 1887а, I: 55 (2-й пагинации)], — вместо первѣйши изъ вождей (Батюшков 1808б, 68; 1834, 103). У Тассо (I, xxxii, 6—7) сказано: <...> Guglielmo e Guelfo, i piú sublimi, // Chiamâr Goffredo per lor duce i primi = Вильгельм и Гвельф, самые выдающиеся, // Назвали Годфреда своим вождем первыми (I, xxxii, 6—7). К сожалению, правильное чтение, восстановленное Благим, не прижилось: начиная со следующего издания, редакторы вернулись к варианту Майкова (см. Мейлах 1941, 167; Томашевский 1948, 193; Фридман 1964б, 86; Шайтанов 1987, 201; Кошелев 1989, 360; и др.).
Еще менее счастливо сложилась судьба двустишия 69—70:
Корнутскій графъ по томъ, вождь мудрости избранной,
Четыреста мужей ведетъ на подвигъ бранной <...>(Батюшков 1808б, 71)
Чтобы понять эти стихи, надо уяснить, в каком падеже стоя́т слова́ на клаузулах. Первое из них является формой родительного падежа женского рода: вождь избранной (ʽисключительной’) мудрости (ср. СЯ XVIII, вып. 9: 11). Такое толкование не противоречит оригиналу: правитель Шартра был не только искусным воином, но и мудрым советчиком [<...> Potente di consiglio e pro’ di mano (xl, 6)]. Можно привести еще один аргумент в пользу предложенной интерпретации: окончание -ой (вместо -ый) у прилагательных церковнославянского происхождения, как правило, было обусловлено рифмой (Булаховский 1954, 106); вполне вероятно, что и в данном случае окончание -ой в прилагательном бранной (вин. п. муж. р.) вызвано тем, что в рифмующей словоформе замена -ой на -ый невозможна. Тем не менее такая замена была произведена (очевидно, по оплошности наборщика) при перепечатке в издании 1834 г.; рифма в стихах 69—70 приняла вид избранный:бранной (Батюшков 1834, 106). Майков, исходивший из текста этого издания88, не усомнился в ее аутентичности и, унифицировав окончания, «канонизировал» эту бессмыслицу: Корнутскій графъ потомъ, вождь мудрости <?> избранный, // Четыреста мужей ведетъ на подвигъ бранный <...> [Майков 1887, 57 (2-й пагинации)]. В этой редакции батюшковские строки печатаются по сей день (см. Мейлах 1941, 169; Томашевский 1948, 196; Фридман 1964б, 87; Шайтанов 1987, 203; Кошелев 1989, 362; и др.)89.
- 44 -
Генезис батюшковского отрывка из «Иерусалима» будет описан заведомо неполно, если в качестве текстов-посредников мы будем рассматривать только версии соответствующих мест Тассовой поэмы. Ранее уже́ говорилось об использовании переводчиками поэтических формул, которые они заимствовали у своих русских предшественников. Сказанное применимо и к анализируемому отрывку: перевод Попова был не единственным русскоязычным источником батюшковского переложения.
Смотр войск в «Освобожденном Иерусалиме» является аналогом Перечня кораблей (Беотии) во II книге «Илиады»; переводя отрывок из Тассо, Батюшков отчасти ориентировался на Беотию в переводе Кострова (1787, 55—73). У Батюшкова есть строки, которые не имеют соответствий ни в оригинале, ни в переводах-посредниках. Вот одна из них (60): <...> Умѣетъ поражать/враговъ изъ далека; ср. у Кострова: <...> Искусныхъ поражать/враговъ своихъ стрѣлой (II, 841). Выше (с. 38) было отмечено, что Батюшков называет Годфреда вождемъ царей. Прообразом Годфреда послужил Агамемнон; его титулы в «Илиаде» Кострова: Царь вождей (I, 159, 359, 456, 476; II, 89) и вождь вождей (I, 100; II, 20, 909; IV, 205, 239, 272). В двустишии 63—64:
<...> Но равное число идетъ изъ Пуйскихъ стѣнъ
И Адемаръ вождемъ той рати нареченъ —образующие рифму слова́ введены в текст Батюшковым. Ту же рифму встречаем в Беотии Кострова:
<...> Въ приморскомъ Киринѳѣ, въ твердыняхъ гордыхъ стѣнъ,
Что окружаютъ градъ Дїосомъ нареченъ (II, 611—612).На поэтике и стилистике батюшковского двустишия 69—70, рассмотренного выше, сказались две строки из костровской «Илиады»: <...> Но се тотъ чудный сонъ зрѣлъ Царь вождей избранный; // Зримъ убо, какъ возжечъ <sic!> огонь въ Аргивцахъ бранный (II, 89—90). Второе полустишие 44-й строки (Гугъ, царскій братъ, сперва былъ вождемъ въ сихъ полкахъ) также находит многочисленные формульные параллели у Кострова: <...> Снисходитъ отъ небесъ, стремится въ сихъ полкахъ (II, 499); <...> Но главнымъ Дїомидъ вождемъ былъ сихъ мужей (II, 647); <...> Летѣли чрезъ моря; вожди же ихъ полкамъ <...> (II, 785); <...> Герой, Ѳетид<ин>ъ сынъ имъ былъ вождемъ въ поляхъ
- 45 -
(II, 798); <...> Но Полипитъ симъ вождь былъ не одинъ полкамъ (II, 874) и т. д.
Молодой Белинский, листая сочинения Батюшкова 1834 г., с неудовольствием обнаружил там «отрывочный переводъ изъ ТАССА, ужасающій Херасковскими ямбами» (1835, стб. 208). Можно подивиться точному слуху критика: действительно, еще один русский источник батюшковского перевода — это «Россияда» Хераскова. Так, у Хераскова (1796, 39) во II песни (стихи 463—464):
<...> Великое они покрыли ратью поле;
Но сильны не числомъ, а храбростїю болѣ90.Ср. у Батюшкова (стихи 73—74):
Гелфъ славный возлѣ нихъ покрылъ полками поле,
Гелфъ славенъ счастіемъ, но мудростію болѣ91.См. также обращение к Славе и список героев ополчения в X песни «Россияды» (стихи 389—424).
Анализ батюшковского перевода позволяет заключить: в тех случаях, когда поэт не следует итальянскому подлиннику, он принимает варианты версий-посредников — русской (Попова) или французской (Лагарпа). Кроме того, на текст Батюшкова оказали воздействие традиции русских эпопей XVIII века (переводных и оригинальных).
2. Вопреки обещанию Батюшкова (1808б, 72), следующий его перевод из Тассо не был напечатан в «Драматическом Вестнике». «Отрывок из X <sic!> песни Освобожденного Иерусалима» появился в июньском выпуске «Цветника» за 1809 г. (см. Проскурин 1987, 66—68; Pil’shchikov, Fitt 1999, 25—26). Переведенный эпизод (Ринальдо побеждает духов очарованного леса) взят не из X, а из XVIII песни «Gerusalemme» (xii, 1 — xxxviii, 1). В этой загадочной ошибке Батюшков продолжал упорствовать: составляя в 1810 г. «Расписание моим сочинениям», он по-прежнему именовал отрывок переводом «изъ д<е>сятой» песни поэмы92.
Если представления о вольности первого перевода из Тассо (Varese 1969, 22—23; Фридман 1964б, 269) следует признать сильно преувеличенными, то второй перевод действительно носил «достаточно вольный характер» (Благой 1934, 561) и «могъ бы быть точнѣе названъ подражаніемъ»
- 46 -
[Майков 1887а, I: 319 (2-й пагинации)]. Отрывок из I песни был разделен на восьмистишия, условно соответствующие Тассовым ottave rime; в новом переводе поэт «отказывается <...> от какого бы то ни было строфического членения» (Благой 1934, 561; ср. Фридман 1964б, 270). Последнее указание нуждается в уточнении: астрофический отрывок из XVIII песни поделен на семь стихотворных абзацев (Батюшков 1809б; 1822), границы между которыми, зачем-то уничтоженные Майковым [1887а, I: 59—64 (2-й пагинации)], так и не были восстановлены93. Новый перевод существенно отличается от предыдущего и с генетической точки зрения: в меньшей степени использована версия Попова; кроме того, работая над XVIII песнью, Батюшков лишился помощи Лагарпа, успевшего переложить на французский только восемь песен «Gerusalemme». Место второго посредника занял прозаический перевод Лебрена, который мог влиять на лексику и на фразеологию, но не на мелодику батюшковских стихов. Ниже приводятся некоторые примеры воздействия текстов-посредников на батюшковское подражание (см. Приложение III)94.
В заколдованном лесу Ринальдо переходит реку по золотому мосту, который падает [<...> e quel giú cade <...> (XVIII, xxi, 5)], едва лишь герой ступает на другой берег. В переводах Мирабо и Попова падение сопровождается сильными звуковыми эффектами: «<...> мостъ обрушился съ великимъ шумомъ» (Попов 1772, ч. II: 331); «<...> le pont tombe avec grand bruit» (Mirabaud 1724, II: 196). То же добавление у Батюшкова: <...> Но сводъ обрушившись мостъ съ трескомъ низвергаетъ <...> (стих 64).
Рыцарь вступает в бой с демоном мирты, принявшим облик Армиды. Второе полустишие 147-го стиха (Мечь острый обнажилъ, чтобъ миртъ сразить ударомъ) находит соответствие не в итальянском тексте (Vassene al mirto <...>), а в русском: «<...> извлекъ онъ <Ренальдъ> свой мечъ, и уготовился поразить онымъ Мирту» (Попов 1772, ч. II: 336). Ср. это же место в точном переводе Мерзлякова: <...> и мечь свой обнажилъ, // И къ мирту онъ течетъ (Мерзляков 1828, ч. II: 229)95. Первоисточник отклонений — текст Мирабо: «<...> il tira son épée, & se mit en devoir d’un frapper le Mirthe» (Mirabaud 1724, II: 200).
Прежде, чем направиться в заколдованный лес, Ринальдо совершает молитву на горе Масличной. У Тассо эпизод резюмирован словами: Cosí pregava = Так он молился (XVIII, xv, 1); у Батюшкова: Скончалъ молитву онъ (стих 27). Ср.: «Едва окончилъ онъ сїю молитву <...>» (Попов
- 47 -
1772, ч. II: 329); «A peine eut-il achevé cette priere <...>» (Mirabaud 1724, II: 195).
В ряде случаев лексические эквиваленты оригинала Батюшков перенимает у Попова: таковы, скажем, наречие колико в 10-й строке как аналог итальянского quanto96, форма глагола обратиться (къ Возтоку) в 22-й строке, которым передано выражение fissare le luci (ne l’orïente) ʽустремить взгляд (на восток)’ [ср. se tourner (Mirabaud 1724, II: 195)], или существительное заблужденье (стих 24) как эквивалент ит. colpe ʽгрехи’97. Есть один пример полигенетической редупликации сло́ва. В конце эпизода (XVIII, xxxv, 7) демон мирты является рыцарю в виде гиганта (ит. gigante = un géant французских версий). Попов, избегавший европеизмов, перевел это словом исполинъ (1772, ч. II: 336) — Батюшков употребляет сразу оба варианта, Исполинъ (стих 155) и Гигантъ (стих 153). Однако в целом зависимость от версии Попова не привела к значительному искажению оригинала; гораздо более сильный деформирующий импульс дал батюшковскому стихотворению текст Лебрена.
Элементы французской версии активно вторгаются в текст Батюшкова начиная с 72-го стиха, соответствующего начальному стиху XXIII октавы. Перейдя реку, Ринальдо углубился в чащу, где всюду подъ его раждалися стопами <...> ручьи прохладные и нѣжные цвѣты (72—74). Ср.: «<...> des fleurs naissent sous ses pas» (Lebrun 1774, II: 212; 1803, II: 227) = «<...> цвѣты раждаются у него подъ стопами» (Москотильников 1819, ч. II: 188). В итальянском оригинале иной синтаксис (Где проходя следы он оставляет <...>) и другие глаголы (scaturire ʽвозникать’ и germogliare ʽраспускаться’): Dove in passando le vestigia ei posa, // Par ch’ ivi scaturisca, o che germoglie (Ger. lib. XVIII, xxiii, 1—2). Из лебреновского перевода XXIII октавы Батюшков также позаимствовал метафору-оксюморон son <du ruisseau> mobile crystal = подвижный кристалл <ручья> (Lebrun 1774, II: 213; 1803, II: 227); она транспонирована в предшествующий сегмент: Пространство все ея <рѣки> текуща кристала <...> (стих 58)98.
Мне удалось выяснить, какой из двух редакций лебреновского перевода пользовался русский поэт. У Тассо XXIII октава завершается так:
<...> E sovra e intorno a lui la selva annosa
Tutte parea ringiovenir le foglie;
S’ammolliscon le scorze e si rinverde
Piú lietamente in ogni pianta il verde
- 48 -
[= <...> И над ним, и вокруг него многолетний лес // Всю, казалось, обновляет листву; // Размягчается кора, и набирает силу // Всё радостнее на каждом растении зелень]. Ср. стихи 77—79 из перевода Батюшкова:
Повсюду древній лѣсъ красуется, цвѣтетъ,
Видъ юности кора столѣтнихъ липъ беретъ
И зелень новая растѣнія <sic!> вѣнчаетъ.Девиации совпадают со второй редакцией французского перевода: «Partout, l’antique forêt rajeunit son feuillage, l’écorce s’amollit, tous les arbres se couronnent d’une nouvelle verdure» = «Повсюду древний лес освежает листву, кора размягчается, все деревья венчаются новой зеленью» (Lebrun 1803, II: 227)99. В первоначальном тексте у Лебрена было: «Par-tout, la forêt reprend une vigueur nouvelle & se couronne d’une nouvelle verdure» = «Повсюду лес набирает новую силу и венчается новой зеленью» (Lebrun 1774, II: 213). Труднопереводимый глагол rinverdersi ʽвновь покрываться зеленью; оживать, набирать силу’ Лебрен заменил описательной конструкцией reprendre une vigueur nouvelle ʽнабирать новую силу’ и соединил ее с возвратной формой глагола couronner ʽвенчать’, который был сохранен в окончательном варианте перевода, а оттуда перешел к Батюшкову. Уместно будет подчеркнуть, что Батюшков ориентируется именно на перевод Лебрена, а не на близкий к нему в ряде деталей перевод Панкука: «Par-tout où il porte ses pas <...> de toutes parts cette antique forêt paroît reverdir, et l’écorce même des arbres semble rajeunir, et toutes les plantes se couronner d’une agréable verdure» = «Повсюду, куда он ни направит свой шаг <...> со всех сторон, кажется, этот древний лес вновь зеленеет, и сама кора деревьев словно омолаживается, и все растения венчаются приятной зеленью» (Panckoucke 1785, V: 126).
Еще одна «улика», доказывающая знакомство Батюшкова со второй редакцией Лебренова перевода, находится в первом полустишии 16-го стиха: <...> Мы слѣпы для чудесъ <...> В оригинале (октава XIII) нет существительного чудеса (meraviglie) — оно почерпнуто у Лебрена (merveilles в обеих редакциях). Предикативному прилагательному слѣпы во французском тексте соответствует пассивное причастие éblouis (ʽослеплены’), при котором глагол-связка в первоначальной редакции стоял в 3-м лице (nos regards <...> ils sont éblouis = наши глаза <...> ослеплены), а в окончательной — в 1-м лице (nous sommes éblouis = мы ослеплены)100.
- 49 -
Эти сопоставления не только позволяют идентифицировать текст-медиатор с максимально доступной точностью, но и принуждают скорректировать замечание М. Ф. Варезе о наличии немотивированных отступлений от подлинника в 16-м стихе батюшковского перевода (Varese 1969, 22).
В некоторых фрагментах своего переложения Батюшков комбинирует элементы, восходящие к итальянскому подлиннику и к переводам-посредникам. У Тассо XXIV октава начинается так:
Rugiadosa di manna era ogni fronda,
E distillava da le scorze il mèle(= Орошена манной была каждая ветвь, // И сочился из коры мед). Ср. у Батюшкова (стихи 80—81):
Роса небесная на вѣтвіяхъ блистаетъ,
Изъ толстыя коры струится свѣтлый медъ.81-я строка дополнена прилагательными, отсутствующими в оригинале. В переводе Попова также находим два эпитета: «<...> изъ нѣжныя ихъ <древесъ> коры искапалъ сладостнѣйшїй медъ» (1772, ч. II: 332; разрядка моя. — И. П.); ср.: «<...> de leur tendre écorce distiloit le plus doux miel» (Mirabaud 1724, II: 197). Батюшков заимствовал у Попова конструкцию строки, но не сами эпитеты — первое прилагательное он подобрал самостоятельно, второе было подсказано переводом Лебрена: «<...> le miel le plus pur distille des rameaux» = «чистейший мед сочится из ветвей» (Lebrun 1803, II: 227). Обращают на себя внимание времена глаголов: у Тассо, Мирабо и Попова — прошедшее (distillava, distiloit, искапалъ), у Лебрена и Батюшкова — настоящее (distille, струится). В 80-й строке прилагательное небесная и глагол блистаетъ тоже взяты у Лебрена: «Sur les feuilles, une manne céleste brille comme la rosée» = «На листьях манна небесная блистает как роса» (Lebrun 1803, II: 227)101. При этом здесь батюшковский текст эквилинеарен итальянскому подлиннику; потребность в амплификации, очевидно, была вызвана версификационными нуждами (удлинение строки́).
Особый интерес представляют стро́ки 35—38 — перевод развернутых сравнений из XVI октавы, описывающей преображение Ринальдо после молитвы на Елеоне102:
Такъ роза блеклая въ часъ утра оживая
Красуется, слезой Аврориной блистая;
- 50 -
Такъ чешуей гордясь весною лютый змѣй
Вьетъ кольца по пѣску излучистой струей.Во французском поэтическом языке словосочетание les pleurs de l’aurore = слёзы зари/авроры — традиционная перифраза со значением ʽутренняя роса’. Словарь Французской академии (1694) констатирует: «Поэты называют Росу Les pleurs de l’Aurore» (DAF, 256; ср. СЯ XVIII, вып. 1: 18). В переводе Тассовой октавы это выражение появилось у Мирабо: «Telle est une tendre fleur à qui les pleurs de l’aurore donent un éclat nouveau» (Mirabaud 1724, II: 195) = «Таковъ есть нѣжный цвѣтокъ, которому слезы зари придаютъ новое сїянїе» (Попов 1772, ч. II: 330). Сходную «редакцию» стихов Тассо предложил Вольтер, подражавший им в III песни «Генриады» (стихи 215—216): Telle une tendre fleur qu’un matin voit éclore // Des baisers du Zéphyr, & des pleurs de l’Aurore <...> = Так нежный цветок, который утро видит распускающимся // От лобзаний Зефира и слез Авроры <...> (Voltaire 1785, X: 83)103. Такую же вариацию тассианского топоса находим у Лебрена: «Telle la fleur aride s’embellit des pleurs de l’aurore» = «Так засохший цветок украшается слезами авроры» (Lebrun 1774, II: 211; 1803, II: 224). Что же касается детали въ часъ утра, то она взята Батюшковым непосредственно из итальянского подлинника: Tal rabbellisce le smarrite foglie // A i mattutini geli arido fiore <...> = Так (вновь) украшает бесчувственные листья // С утренними холодами засохший цветок (XVIII, xvi, 5—6). Экстравагантное сравнение преобразившегося рыцаря со сбросившим старую кожу змеем было снято в тексте Мирабо и восстановлено у Лебрена; последующие переводы носят на себе явные следы воздействия лебреновской версии104.
В дополнение — еще один случай, демонстрирующий соотношение между переводом Батюшкова и предшествующей традицией. Последняя строка переведенного Батюшковым отрывка (Tornò sereno il cielo, e l’aura cheta = Стало безоблачным небо, и ветер утих) передана у него двустишием:
Вѣтръ бурный усмирилъ и бурю въ облакахъ,
И прежняя лазурь явилась въ небесахъ.Порядок изложения изменен в соответствии с версией Лебрена, а заключительный стих, не вступая в противоречие с оригиналом, в действительности переводит французский перевод: «L’air se calme, les cieux se revêtent
- 51 -
d’azur» = «Ветер (воздух) успокоился, небеса вновь оделись лазурью» (Lebrun 1774, II: 217; 1803, II: 232). В этой прозаической французской фразе 12 слогов (с учетом e muets), и словоразделы распределены таким образом, что в стихотворном контексте она образует правильный додекасиллаб; так у Баура-Лормиана: L’air se calme, les cieux / se revêtent d’azur (Baour-Lormian 1796, II: 203). Во многих местах своего перевода Баур версифицирует прозу Лебрена, заимствуя словосочетания и даже целые предложения, укладывающиеся в метрическую схему александрийского стиха или нуждающиеся в незначительных переделках: Les <...> fleurs / naissent de toutes parts = Повсюду рождаются цветы; <...> dans son mouvant crystal = <...> в движущемся кристалле <ручья>; <...> Et le miel le plus pur distille de leur flancs = И чистейший мед сочится из <ветвей> и т. д. (Baour-Lormian 1796, II: 195, 198). Одинаковые отступления от Тассо у Баура и Батюшкова всякий раз восходят к Лебрену; при этом у Батюшкова есть заимствования из Лебрена, отсутствующие у Баура-Лормиана. Его версии Батюшков не знал или не считал нужным ее учитывать (сказанное верно и применительно к версии Панкука).
Обсуждение намеренных переводческих «неточностей» в отрывке из XVIII песни «Иерусалима» мне хотелось бы завершить комментарием к стихам 10—14:
Колико ты простеръ<,>
Царь вѣчный и благій<,> сіянія надъ нами! —
Въ день солнце, образъ твой, течетъ подъ небесами<,>
Въ ночь тихую луна и сонмъ безчетныхъ звѣздъ
Ліютъ утѣшный лучь съ лазури горнихъ мѣстъ.Именование Бога в 11-м стихе не имеет аналогов ни в оригинале (октава XIII), ни в текстах-посредниках. Только в XIV октаве Ринальдо обращается к Господу: Padre e Signor. Батюшков «распространил» это обращение: Отецъ и царь благій (стих 23). Прилагательное бл҃гій (др.-евр. טוֹב, греч. ἀγαθός) — это ветхозаветный атрибут Всевышнего (2 Пар 30, 19; ср. Пс 85, 5; и др.). В 11-й строке к этому определению добавлен атрибут вѣчный (αἰώνιος), который относится к Богу и в Ветхом, и в Новом Завете [Быт 21, 33; Ис 40, 28; Иер 10, 10 («цр҃ь вѣ́чный»); Рим 14, 25]105. Наконец, в строках 12—14 появляются словесные темы из юношеского стихотворения Батюшкова «Бог» (1804), которое, в свою очередь, разрабатывает топику Ger. lib. XVIII, xiii, 3—4:
- 52 -
Всесильнаго чертогъ — небесный чистый сводъ,
Гдѣ Солнце — образ твой въ лазури намъ <с>іяетъ —
И гдѣ луна въ ночи свѣтъ тихій проливаетъ <...>Въ ночи когда луна< >намъ тихо льетъ свой лучь
И звѣзды ясны<я >сіяютъ изъ-за тучь <...>106Оборот проливать тихій свѣтъ заимствован из «Иерусалима» в переводе Попова: «<...> безконечное число звѣздъ, проливающихъ тихїй свѣтъ» (1772, ч. II: 328) ← «Un nombre infini d’étoiles qui repandent une douce lumiere» (Mirabaud 1724, II: 194). Стихотворение 1804 г. является самым ранним свидетельством знакомства Батюшкова с текстом «Gerusalemme» — по крайней мере, с эпизодом очарованного леса в русском переложении. Пристальный интерес поэта к этому эпизоду в комментариях не нуждается; XVIII песнь представляет кульминацию «дидактического сюжета» эпопеи: Тассо трактовал свое произведение как религиозно-философскую аллегорию (ср. Остолопов 1820; 1821, ч. I: 497—503), в которой заколдованный лес означает заблуждения ума и чувственности, а победа над демонами — духовное очищение (Murrin 1980, 95—126)107.
3. Стихотворные переводы Батюшкова из «Иерусалима» пользовались популярностью у современников, чему есть немало свидетельств (Арапов 1861, 337; Чебышев 1911, 36; Фридман 1964б, 269). Идею переложения Тассовой поэмы александрийскими восьмистишиями подхватил В. Г. Анастасевич. 28 февраля 1811 г. в его журнале «Улей» был опубликован анонимный «Опытъ перевода съ Италїянскаго подлинника» первых 32 строф «Gerusalemme liberata» (Улей 1811, 81 и далее). Вот как зазвучало по-русски «предложение» и «призывание» итальянской эпопеи (Ger. lib. I, i—ii):
1. Пою святую рать и доблести Ироя,
Который гробъ Христовъ освободилъ и строя
Премного мудростью и мышцею своей,
Премного пострадалъ на славной брани сей.
Вотще съ нимъ Азія и Ливія сражалась;
Вотще противъ него злость ада воружалась;
Самъ Богъ его храня привелъ въ странахъ пустыхъ
Блуждавшихъ ратниковъ подъ тѣнь знаменъ святыхъ.
2. О муза! коея верху горы священной
Лавръ яснаго чела не осѣняетъ тлѣнной,
- 53 -
Но въ ликѣ праведныхъ, на тверди горныхъ мѣстъ,
Въ златомъ красуется вѣнцѣ изъ вѣчныхъ звѣздъ,
Ты въ грудь мою вдохни твой чистой огнь небесный,
Прослави пѣснь мою; прости, коль неизвѣстный
Тебѣ для истины дерзну покровъ соткать,
И не въ твои ее пріятства облекать.(Улей 1811, 81—82)
Героический шестистопник, выбор которого продиктован требованиями жанра эпопеи, заменяет собой итальянский эндекасиллаб108. С другой стороны, разбиение текста на 8-строчные строфы всё-таки отражает национальную форму итальянской октавы. Наконец, строго выдержанный альтернанс возвращает нас к французским правилам: французский героический александрен требует чередования мужских и женских рифм, тогда как итальянская ottava eroica мужских окончаний не допускает (Scoppa 1803, 43—44). Такой гибридной («франко-итальянской») эпической строфы нет ни у одного русского поэта, кроме Батюшкова и его анонимного последователя. На этот эпизод из предыстории русской октавы указал М. И. Шапир (2003б), чье замечание о зависимости перевода в «Улье» от батюшковского переложения, напечатанного в «Драматическом Вестнике», подтверждается тем, что перевод 1811 г. доведен до 32-й октавы — той са́мой, с которой начинает свой отрывок «Иерусалима» Батюшков109. Ср.:
Скончалъ пустынникъ рѣчь! — Небесно вдохновенье!
Не скрыто отъ тебя сердечное движенье.
Ты въ старцовы уста глаголъ вложило сей
И сладость онаго влило въ сердца Князей.
Ты укротило въ нихъ бунтующія страсти,
Духъ буйной вольности, любовь врожденну къ власти. —
Вилгелмъ и мудрый Гелфъ, первѣйши изъ вождей,
Готфреда нарекли вождемъ самихъ царей <...>(Батюшков 1808б, 68)
Здѣсь старецъ сей умолкъ; но ты, о духъ небесный!
Ихъ зрѣлъ сердца — тебѣ ихъ помыслы извѣстны:
Ты словеса сіи пустыннику внушилъ
И знамя ихъ въ душахъ ироевъ положилъ;
Развилъ внѣдренны въ нихъ отъ навыка, природы,
Властолюбивыя желанія свободы.
- 54 -
Старѣйшіе Вилгельмъ и Гвельфъ на сонмѣ семъ
Изъ первыхъ нарекли Готфреда ихъ вождемъ.(Улей 1811, 95)
Переводчик «Улья» не только вторит Батюшкову, но и отталкивается от него. Вспомним строку Ger. lib. I, xxxii, 3 в переводе Попова: «Ты словеса сїи вложило во уста сего пустынножителя» (1772, ч. I: 17). Батюшков использовал одну часть этой фразы (Ты въ старцовы уста глаголъ вложило сей), аноним из «Улья» — другую (Ты словеса сіи пустыннику внушилъ). Следующий стих у неизвестного переводчика (И знамя ихъ въ душахъ ироевъ положилъ) совсем не похож на батюшковский с лексико-фразеологической точки зрения (И сладость онаго влило въ сердца Князей), но зато, если не считать порядка слов, тождествен с точки зрения синтаксиса и морфологии. Впрочем, батюшковское выражение сердца Князей использовано в 11-й строфе «Улья»: Когда Всевидящій Творецъ и Царь вселенны // Проникъ въ сердцахъ Князей всѣ тайны сокровенны <...> (Улей 1811, 85).
«Продолженїе опыта перевода» появилось в печати полтора года спустя — в сентябрьском выпуске «Улья» за 1812 г., в разгар Отечественной войны (выпуск датирован 5 ноября). «Переведенная здѣсь вторая часть Iй пѣсни содержитъ въ себѣ избраніе Готтфреда Царемъ и главнымъ вождемъ и обозрѣніе его всѣхъ войскъ своихъ. Словесникамъ извѣстны трудности перевода, сопряженныя съ подробностями сего мѣста» (Улей 1812, 163 примеч. *). Занятны переклички с Батюшковым, который так-же назвал свою работу над I песнью «Иерусалима» «опытомъ» перевода110 и для публикации «выбралъ нарочно трудны<я> мѣста для переводчика»111.
В начальных строках аноним отходит от выбранных им принципов: октавы XXXIII и XXXIV переданы одним 18-строчным абзацем112. Дальше деление на восьмистишия выдерживается строго (отдельные нарушения должны быть списаны на типографскую небрежность). В остальном перевод 1812 г. обнаруживает те же тенденции, что и предыдущий фрагмент. Иногда аноним отступает от подлинника в пользу вариантов Попова, но лишь при условии, что этими вариантами не воспользовался Батюшков. Так, два разных итальянских глагола — mostrarsi ʽявиться, показаться перед кем.-л.’ и parere ʽявиться, показаться кем.-л., похожим на кого-л.’ (Ger. lib. I, xxxiv, 1—2)113 — у Попова и у сотрудника «Улья»
- 55 -
переданы одинаково (или почти одинаково): «Годофредъ явилъ себя воинамъ, и явился имъ достоинъ верховнаго сана» (Попов 1772, ч. I: 18); Онъ воинамъ явясь <...> Онъ сана своего явившись имъ достойнымъ (Улей 1812, 163—164). У Батюшкова не так: Узрѣли воины начальника избранна // И властію почли достойно увѣнчанна (Батюшков 1808б, 69). В оригинале XXXIV строфы́ не сказано, что Годфред благодарил солдат; эту деталь измыслил Мирабо (и, естественно, повторил Попов): «<...> и возблагодаря имъ самъ (& les avoir remercié) за оказанные знаки къ нему ихъ ревности <...>» (Попов 1772, ч. I: 18; Mirabaud 1724, I: 14). Эту же деталь встречаем у переводчика «Улья»: <...> И возблагодаривъ имъ за любовь и честь <...> (Улей 1812, 164). У Батюшкова о благодарности Годфреда нет ни слова.
Заимствований из версии Батюшкова в переводе 1812 г. немного — это один из эпитетов Иль-де-Франса (обильной) и характеристика Клотария: <...> доблестью своею знаменитъ (Улей 1812, 165)114. Благодаря хорошему знакомству с итальянским оригиналом неизвестный переводчик оказывается гораздо точнее своих предшественников в передаче деталей подлинника. В отдельных случаях он, как и Батюшков, калькирует итальянский оригинал: например, батюшковскому трижды толикое число = triplicati (см. наст. изд., с. 42) в «Улье» соответствует три краты не толико (Улей 1812, 166). Октава XXXV, очень вольно пересказанная Батюшковым, в «Улье» переведена весьма близко к подлиннику, как бы «в обход» всех посредников. Строфа XXXVI (где вопреки всем существующим версиям обращение Mente передается не как Память, а как Ум) в целом переведена вернее, чем в любом из тогдашних стихотворных переводов (см. Улей 1812, 164). В строфе XXXVII только соперник Батюшкова воспроизвел словосочетание l’insegna de’ gigli d’oro — златоли<л>ейный стягъ (Улей 1812, 165)115.
Но кто же был этим соперником? Достаточно высокая переводческая и версификационная техника анонима позволяет подозревать, что им мог быть сам издатель «Улья» (ср. Гардзонио 1999, 110—111). Для него характерны и переводческая точность, и установка на конкуренцию с известными переводами-предшественниками. Так — с позиций буквализма и в пику Дмитриеву с его «Тибулловой Элегией» — Анастасевич в 1806 г. перевел I элегию I книги (Пильщиков 2003). В любом случае, Батюшков был не в восторге ни от литературной, ни от издательской деятельности Анастасевича. При этом у нас есть все основания думать, что с его произведением
- 56 -
(по крайней мере, с первой частью публикации) поэт ознакомился: 6 мая 1811 г. Батюшков издевательски предлагал Гнедичу вылить «по обычаю древнихъ» перед домашним Пенатом «капли три помоевъ чайныхъ, либо кофейныхъ» и увенчать его, «за недостаткомъ дубовыхъ листьевъ, листами Анастасевичева журнала» (Майков 1886, III: 123; ср. Ефремов 1883, кн. IV: 112)116.
Публикация отрывка из XVIII песни «Иерусалима» в «Цветнике» также вызвала живой отклик в среде литераторов и читающей публики117. 3 января 1810 г. Батюшков рассказывал Гнедичу: «Я получилъ отъ Canus-Капниста письмо и предлинное гдѣ онъ говоритъ и повторяетъ одну фразу: Я къ вамъ писалъ и не имѣлъ удовольствія получить отвѣта. Вашъ Тассъ безподобенъ, я къ вамъ писалъ,... Вашъ Тассъ... и прч. Забавно!»118 В 1822 г. отрывок из XVIII песни удостоился включения в воейковское «Собрание образцовых Руских сочинений и переводов в стихах» (Батюшков 1822). Отношение к батюшковским переводам из Тассо на́чало меняться, когда в центре внимания теоретиков и практиков художественного перевода оказались вопросы эквиметрии. В том же 1822 г. были высказаны первые принципиальные сомнения в правомерности переводческого подхода, который разделяли Батюшков и Мерзляков: «Оба переводили Тасса Александрійскими стихами съ риѳмами по двѣ въ рядъ: это должно непремѣнно вредить достоинству перевода, ибо отдаляетъ его совершенно отъ формы подлинника» (Катенин 1822, 304; Левин 1963, 24—25; Измайлов 1971, 102—103; Эткинд 1973, 156 и далее; Пильщиков 1997, 32—33). Авторская самооценка изменилась гораздо раньше. Если в «Расписании моим сочинениям» (1810) под первыми тремя номерами значились: «Эрусалима, пѣснь первая», «ibid — изъ дѣсятой <sic!>» и «Посланіе къ Тассу»119, то в рукописный сборник 1812 г. ни один из этих текстов включен не был (Зубков 1997, 33, 35). Составляя в 1817 г. стихотворный том «Опытов», поэт подтвердил свою неприязнь к ранним вещам (Благой 1934, 439; Горохова 1975, 253—254). В письме от 22—23 марта 1817 г. он выговаривал другу-издателю: «Теперь спѣшу объявить вамъ, что ни переводъ изъ Тасса ни изъ Арїоста не хочу. Особенно Тассъ — дрянь. Ты меня взбѣсишь. И сохрани богъ! <...> и такъ будетъ довольно — а переводами не стыди моей головы»120. Ср. в следующем (майском) письме: «Еще прошу, и очень серіозно, переводовъ <...> не печатай: не срами пріятеля» (Ефремов 1883, кн. VIII: 238; ср. Майков 1886, III: 438).
- 57 -
4. Произведение, открывающее список 1810 г., — это, по всей вероятности, не фрагмент, напечатанный в «Драматическом Вестнике», а полный перевод I песни «Gerusalemme» (ныне утраченный), который Батюшков намеревался представить великой княгине Екатерине Павловне (ср. Благой 1934, 560) и о котором он впервые сообщил Гнедичу в конце ноября 1809 г.: «Ты мнѣ твердишь объ Тассѣ или Таз̀ѣ, какъ будто я сотворенъ по образу и подобію божьему затѣмъ чтобъ переводить Тасса. Какая слава, какая польза отъ етого? — никакой. Только время потерянное <...> Впрочемъ перьвая пѣснь готова»121.
От I песни помимо отрывка, опубликованного в 1808 г., сохранились еще два стиха, процитированные в письме Гнедичу осенью 1809 г.:
Се третій шествуетъ Алкастій гордъ и страшенъ
Какъ древле Капаній у твердыхъ Фивскихъ <sic!> башенъ122.В итальянском подлиннике этому двустишию соответствуют строки: Alcasto il terzo vien, qual presso a Tebe // Già Capaneo, con minaccioso volto = Алкаст идет третьим, как возле Фив // Некогда <шел> Капаней, с грозным лицом (Ger. lib. I, lxiii, 1—2). Батюшков недаром гордился своим двустишием (см. указанное письмо): он перевел строки Тассо гораздо техничнее, чем Лагарп, которому понадобились четыре стиха, чтобы передать два итальянских123, и намного изящнее, чем Попов, которого «подвел» французский прозаический синтаксис: «По семъ явился Алькастъ на преди третїяго полчища, толикожъ горделивую имѣя поступь, какову имѣлъ нѣкогда предъ Ѳивами дерзновенный Капаней» (Попов 1772, ч. I: 33)124.
Три стиха из другого фрагмента дошли в составе письма́ Гнедича к Батюшкову от 16 октября 1810 г.: «Ззываетъ <sic!> жителей подземныя страны трубы мѣдяной ревъ гортанью сатаны — Сводъ звукнулъ отъ него и мгла поколебалась»125. М. Г. Альтшуллер, опубликовавший письмо, предположил, что Гнедич, «очевидно», цитирует «строки из не дошедших до нас отрывков батюшковского перевода поэмы Тассо» (Альтшуллер 1974, 88 примеч. 1, ср. 86—87); тем не менее до сих пор в собрание сочинений Батюшкова эти стихи не включались. Думается, составители уделили бы им больше внимания, если бы первый публикатор отметил, что перед нами начальные строки самой известной октавы «Gerusalemme liberata» (IV, iii):
- 58 -
Chiama gli abitator de l’ombre eterne
Il rauco suon de la tartarea tromba:
Treman le spazïose atre caverne,
E l’aer cieco a quel romor rimbomba(= Созывает обитателей вечных теней // Хриплый звук адской трубы. // Дрожат обширные мрачные пещеры, // И воздух, непроницаемый для взора, отзывается на этот гул.) Эпизод «адского совета» (Ger. lib. IV, i слл.) был опубликован Мерзляковым еще в июне 1808 г.:
И се, пространный адъ внезапу всколебался,
Во мракахъ тартара звукъ трубный раздавался!
Вдругъ по трепещущимъ пещерамъ пробѣжалъ,
И въ грохотахъ глухихъ вкругъ воздухъ завывалъ!(Мерзляков 1808б, 161)
Чувствуется, что Батюшков и Мерзляков ставили перед собой сходные поэтические задачи — так, во втором стихе оба переводчика стремились воспроизвести знаменитую ономатопею с аллитерацией на r и t126. В батюшковском отрывке можно заметить следы воздействия версии Попова. У Тассо сначала от рева адской трубы дрожат пещеры (treman le caverne), а затем на этот рев откликается воздух (l’aer rimbomba). У Батюшкова, наоборот, сначала звукнулъ сводъ, и лишь затем мгла поколебалась; ср.: «На гласъ адскїя трубы, созывавш<і>я демоновъ на совѣщанїе, мрачная Область возшумѣла (retentit): темные и глубокїе ея вертепы восколебалися (furent ébranlés)» (Попов 1772, ч. I: 128; Mirabaud 1724, I: 98; лексические переклички: созывавшія — сзываетъ, поколебалась — восколебалися). Симптоматично выражение сводъ звукнулъ, ранее употребленное Державиным в кантате «Цирцея»:
Столь голосомъ грознымъ
Подвигнулся адъ,
И гуломъ громовымъ
Сводъ звукнулъ Плеядъ;
Завѣса ужасна
Подернула свѣтъ;
Дно тартара мрачна
Содрогшись реветъ <...>(Державин 1806, 166)127
- 59 -
Совпадение между стихами Батюшкова и Державина неслучайно. Державинская кантата представляет перевод VII кантаты Ж.-Б. Руссо «Circé», в соответствующем фрагменте которой варьируются мотивы Тассовой октавы «Chiama gli abitator...»:
Sa voix redoutable
Trouble les Enfers:
Un bruit formidable
Gronde dans les airs:
Un voile effroyable
Couvre l’Univers:
La Terre tremblante
Frémit de terreur <...>(Rousseau 1743, 323)128
Проанализированными фрагментами исчерпываются наши сведения о неопубликованных переводах Батюшкова из Тассо.
Батюшков не представил новых отрывков из «Иерусалима» на суд публики и, вопреки своему намерению, не обратился за помощью к высокородной покровительнице искусств, определившей Гнедичу пенсион для перевода «Илиады». Более того, к осени 1810 г. Батюшков, игнорируя настояния Гнедича, окончательно отказался от идеи посвятить свою жизнь переводу поэмы Тассо (Фридман 1971, 130—131; Пильщиков 1999г, 11—12; 2002б, 283—285). О том, как развивались события с января по ноябрь или декабрь 1810 г., мы узнаём из переписки Батюшкова с Гнедичем129.
16 января 1810 г. Батюшков спрашивает своего корреспондента: «Еслибъ я съѣздилъ туда <в Тверь к вел. кн. Екатерине Павловне. — И. П.> съ I-й пѣснею Тасса? Еслибъ великая княгиня приняла ее милостиво? <...> Какъ думаешь?» (Майков 1886, III: 72; ср. Ефремов 1874, 383—384). Здесь же заходит речь о возможном посредничестве кн. И. А. Гагарина. В начале февраля Батюшков благодарит своего друга «за обѣщаніе — писать къ Гагарину», а 19 февраля сообщает сестре, что собирается в Тверь (Ефремов 1874, 388; Майков 1886, III: 78, 80). В конце февраля или в начале марта он получает ободряющее письмо от Гнедича: «Нескоро отвѣчаю потому, что ожидалъ отвѣта Гагар<ина> вмѣсто котораго увидѣлъ его самого; но сегодни же онъ и назадъ отъѣзжаетъ. Поѣзжай въ Тверь, адресуйся къ нему, онъ все что можетъ сдѣлаетъ <...>
- 60 -
Гагаринъ ненаходитъ никакого затрудненія въ исполненіи твоихъ намѣреній. Дай боже — Поѣзжай»130. Поездка, однако, откладывается: Батюшков заболел. 17 марта он жалуется Гнедичу на нервические припадки и добавляет: «Итакъ, я и въ Тверь не поѣхалъ! Что дѣлать! Знать таковы судьбы! Однако же Тасса моего хочу послать туда прямо къ Гагарину. Что будетъ, того не миновать. Знаю, что самому бы лучше, да нельзя» (Майков 1886, III: 81; ср. Ефремов 1874, 388—389). Есть и дополнительная причина: Батюшков обеспокоен недовольством, которое вызвало «Видение на брегах Леты» («<...> у васъ на меня гроза»). «Представь себѣ, мой другъ, — признаётся он 23 марта, — что это даже останавливаетъ отчасти мою поѣздку въ Тверь» (Ефремов 1874, 389; Майков 1886, III: 82). Через неделю, 1 апреля, Батюшков сообщает Гнедичу, что «о Твери не забылъ. Переписываю Тасса и его пошлю къ Гагарину. Что будетъ, не минуетъ. А самъ не ѣду». Проходит месяц; наконец, в мае Гнедич узнаёт обнадеживающую новость: «<...> я рѣшился и завтра отправлю къ Гагарину Тасса». На некоторое время обмен корреспонденцией прерывается; лишившись дружеской поддержки, Батюшков пасует, перевод не отсылает и обвиняет во всём... Гнедича (23 мая 1810 г.): «Твое молчаніе виной тому, что я къ князю Гагарину не послалъ моего Тасса, хотя было и рѣшился это сдѣлать» (Майков 1886, III: 87, 93, 97; ср. Ефремов 1874, 393, 396, 397).
К лету хлопоты о презентации «Освобожденного Иерусалима» отходят на задний план. Батюшков подготавливает для «Собрания Русских стихотворений» Жуковского новую редакцию элегии «Мечта» и переводит «Le Torrent» Парни (оба стихотворения отправлены Жуковскому 26 июля 1810 г.), а 29 июля сообщает Вяземскому о начале работы над переводом Песни песней. Через два месяца, 30 сентября, Батюшков пишет Гнедичу: «<„Пѣснь Пѣсней“> кончилъ и тебѣ предлагаю <...> Я избралъ для „Пѣсни Пѣсней“ драматическую форму <...> затѣмъ что слогъ лирическій мнѣ неприличенъ, затѣмъ что я прочиталъ (вчера во снѣ) Пиѳагорову надпись въ храмѣ: познай себя, и примѣнилъ ее къ способности писать стихи». «Вотъ вступленіе» (Ефремов 1883, кн. III: 655; ср. Майков 1886, III: 104). На этих словах дошедший до нас текст письма́ обрывается. О содержании утраченной части можно судить по ответному письму Гнедича от 16 октября 1810 г.131: «Ты во снѣ прочелъ надпись познай себя и наяву примѣнилъ ее къ своей лѣности, и кинулъ Тасса для того, чтобы переводить пѣсни пѣсней? Бѣдность ума человѣческаго
- 61 -
потворствующаго страстямъ своимъ! Неужели ты думаешь, что друзья твои и всѣ умные люди переводъ твой читавшіе тебя обманывали? Ты обманываешь самъ себя. Промѣняетъ ли хоть одинъ толковой человѣкъ всѣ твои пѣсни пѣсней и< >оды одъ на одну строфу Торквата?» Здесь Гнедич приводит цитировавшиеся выше стихи: «Ззываетъ жителей подземныя страны <...>» — и с возмущением добавляет: «Несчастный — позна<й> себя!»132
Батюшков «кинулъ Тасса» и взялся переводить Песнь песней133. Напомнить поэту о его собственном переводе «Chiama gli abitator...» — вот последний аргумент, который смог найти Гнедич, пытаясь убедить Батюшкова вернуться к работе над «Иерусалимом» (ср. Зубков 1987, 276). Впрочем, в своем письме Гнедич, кажется, исчерпал все возможные доводы: «Читая ученіе Іисуса <...> ты узнаешь, что проклятъ сокрывающій талантъ свой. — Если неуважаешь совѣтовъ дружескихъ, такъ побойся Бога. И Самарина, и Аленинъ, и Nиловы и всѣ кто читалъ переводъ твой ругаютъ тебя достойно за то что ты хочешь кинуть. — Но этого быть неможетъ, ты меня мистифицируешь»134. Батюшков ответил пространной цитатой из Лагарпа (см. наст. изд., с. 14) и решительно закрыл тему: «<...> прошу тебя оставить моего Тасса въ покоѣ, котор<а>го я вѣрно-бы сжегъ, еслибъ зналъ что у меня одного онъ находится»135.
- 62 -
Глава третья
ПЕРЕВОДЫ И ВЫПИСКИ
ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ПОЭТОВ (1810—1811)1. Я. К. Грот отмечал, что около трети стихотворений Батюшкова — «переводы и подражанія» (Грот 1887, 7; Венгеров 1891, 254 примеч. *); в действительности текстов такого характера у Батюшкова даже больше, чем насчитывал Грот. По поводу обилия переводных и полупереводных произведений в наследии Батюшкова Белинский писал: «Удивляться этому нѐчего: въ тѣ блаженныя времена, подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились...» (1843, 80)136. Пик переводческой деятельности Батюшкова-поэта приходится на 1810 г. (Serman 1974, 54; Pil’shchikov, Fitt 1999, 27): он перелагает стихами заключительную элегию из I книги Тибулла (см. Батюшков 1810а), пять произведений Парни («Ложный страх», «Мадагаскарская песня», «Привидение», «Источник», «Сон воинов») и шесть или семь стихотворений итальянских авторов (таким образом, на итальянцев приходится около половины переводной продукции этого периода137). В списке итальянских поэтов, привлекших внимание Батюшкова, мы находим имена Петрарки, Касти, П. Ролли и Метастазио.
«Освобожденный Иерусалим» был единственным произведением итальянского Ренессанса, получившим безоговорочное признание у теоретиков позднего классицизма; лишь во второй половине XVIII столетия в один ряд с эпопеей Тассо встает Ариостов «Orlando furioso». Время Петрарки и Данте наступило еще позже, когда нормативную поэтику классицизма окончательно вытеснил исторический подход к литературе138. От Тассо к Петрарке — это биографически первый шаг, сделанный Батюшковым
- 63 -
на пути к постижению итальянской культуры в целом. 24 марта 1809 г. он писал А. Н. Оленину: «<...> прошу васъ покорнѣйше прика<за>ть купить мнѣ Тасса, котораго я имѣлъ несчастіе потерять». Здесь Батюшков поставил точку, но затем, взяв слова́ после запятой в скобки, добавил: «<...> и Петрарка, чѣмъ меня чувствительнѣйше одолжить изволите»139. Примерно в это же время пробуждается интерес поэта к Ариосто: самая ранняя цитата из «Неистового Роланда» находится в письме Гнедичу от 1 ноября 1809 г. (Горохова 1974, 121; 1975, 241; Пильщиков 1994, 226—227; 2000а, 9; 2002б, 285). Перевести отрывок поэмы Ариосто Батюшков решился только два года спустя, но стихотворные переводы из Петрарки увидели свет уже́ следующей осенью.
Вольный перевод сонета «Rotta è l’alta colonna...» (под заглавием «На смерть Лауры») и подражание канцоне «Ne la stagion che ’l ciel rapido inchina...», озаглавленное «Вечер», были напечатаны в сентябрьском и ноябрьском выпусках «Вестника Европы» (Батюшков 1810в; 1810г). Оба перевода сделаны 6-стопным ямбом (один — с перекрестными рифмами, другой — со смежными)140. Эти стихотворения не принято относить к числу переводческих удач Батюшкова: поэту «инкриминируются» отказ от эквиметрии, несоблюдение схемы рифмовки в канцоне, разрушение сонетной формы, стилистическая неадекватность и ошибки в интерпретации подлинника, вызванные недостаточным знанием итальянского языка [Майков 1887а, I: 342—343 (2-й пагинации); Некрасов 1911, 186—188; Благой 1934, 569—570; Contieri 1959, 168—171; Varese 1970, 99—100; Фридман 1971, 126—127, 299; Lauer 1975, 317; Семенко 1977, 571—572; Томашевский 1974, 392—394; 1981, 176—177; Солонович 1979, 316, 318; Полуяхтова 1984, 10—13; Титаренко 1985, 84, 89; Brown 1986, 241; Гиривенко 2002, 143—144]. Жанры обоих переложений определены самим Батюшковым: первое имеет подзаголовок «Изъ Петрарка»141, второе — «Подражаніе Петраркѣ. Canzone IX». Наверное, придавать особое значение различию в подзаголовках не следует: в «Расписании моим сочинениям» (1810) и «Вечер», и «На смерть Лауры» помещены в раздел «Изъ Петрарка»142; в Блудовской тетради (1815) «Вечер» снабжен подзаголовком «Подражаніе Петраркѣ», а в оглавлении это же стихотворение названо «Вечеръ<,> изъ Петрарка»143. Е. Г. Эткинд, разбирая аналогичный пример («Стихотворение „Ложный страх“ имеет подзаголовок „Подражание Парни“, а „Привидение“ — „Из Парни“»), пришел к выводу, что за этими дефинициями Батюшкова стоя́т «не слишком определенные
- 64 -
жанровые термины <„вольный перевод“ и „подражание“. — И. П.>, — разница между ними практически не обнаруживается» (Эткинд 1973, 119, 124). Но мне всё же разница между «вольными переводами» и «подражаниями» кажется достаточно ощутимой.
Применив метод оценки лексической строгости перевода, предложенный М. Л. Гаспаровым (1975; 1992; ср. Настопкене 1981, 55—59; и др.), мы обнаружим, что для первого переложения «показатель точности» составляет 39%, а «показатель вольности» — 66%. Это значит, что около 3/5 подлинника никак не отражается в переводе, а примерно 2/3 объема перевода не соотносится с оригиналом144. Если у Петрарки сказано: Tolto m’аi, Morte, il mio doppio thesauro, // Che mi fea viver lieto et gire altero <...> (= Ты похитила у меня, Смерть, мое двойное сокровище, // Благодаря которому я жил радостно и ступал гордо <...>), — то в переводе читаем: Все смерть похитила, все алчная пожрала, // Сокровище души, покой и радость съ нимъ! (ср. Солонович 1979, 318). Там, где в подлиннике говорится, что вернуть похищенное смертью не может ни земля, ни власть, // Ни восточный самоцвет, ни сила золота (<...> ristorar nol pó terra né impero, // Né gemma orïental, né forza d’auro), Батюшков восклицает: Все тщетно предъ тобой, и власть, и волхованья <...> (ср. Полуяхтова 1984, 11—12). Сонет Петрарки заканчивается сдержанной минорной сентенцией:
O nostra vita ch’è sí bella in vista,
Com perde agevolmente in un matino
Quel che ’n molti anni a gran pena s’acquista!(= О наша жизнь, которая столь прекрасна на вид, // Как легко она теряет однажды утром // То, что в течение многих лет приобретает с большим трудом!). Стихотворение Батюшкова завершается взволнованной ламентацией об умершей возлюбленной:
Какъ сладко, жизнь, твое для смертныхъ обольщенье!
Я въ будущемъ мое блаженство основалъ;
Тамъ пристань видѣлъ я, покой и утѣшенье,
И — все съ Лаурою въ минуту потерялъ!(Батюшков 1810в, 54)
Начальные строки русского подражания: Колонна гордая! о лавръ вѣчно-зеленый! // Ты палъ! — представляют собой переводческую ошибку.
- 65 -
Батюшков сливает в единый образ высокую колонну и зеленый лавр, поэтому стихотворение, посвященное двоим — Дж. Колонне и Лауре, в переводе оказывается связанным только с одним именем (Некрасов 1911, 187 примеч. 2; Contieri 1959, 168; Cantarini 1978, 89—90; Полуяхтова 1984, 11). Примечательно, что позже (в статье «Петрарка») Батюшков объяснил эти стихи правильно: «Лавръ (Lauro) напоминаетъ имя Лауры, и потому былъ вдвое драгоцѣненъ сердцу Поета. По смерти славнаго Колонны и Лауры стихотворецъ воскликнулъ:
Rotta è l’ alta Colonna, e< ’>l verde Lauro!»
(Батюшков 1816б, 183; Cantarini 1978, 87—88)145. Во втором и третьем катренах переводчик вводит мотив могильного камня, в оригинале отсутствующий: И мертвый нѣмъ лежитъ подъ камнемъ гробовымъ!; И слезы вѣчныя на хладный камень лить! (Некрасов 1911, 187; Contieri 1959, 168; Солонович 1979, 318; Полуяхтова 1984, 12). Здесь чувствуется влияние Дмитриева, чьи подражания Тибуллу, Парни и Петрарке послужили Батюшкову образцами для переводческих опытов 1810 г.: <...> И страждущїй Петраркъ на камень упадаетъ // Безъ памяти, безъ чувствъ, такъ холоденъ, какъ онъ <...> (Дмитриев 1797, 252)146. Зато на стилистике батюшковского переложения никак не отозвались державинские переводы из Петрарки147: на рубеже 1800—1810-х годов Батюшков воспринимал лирику Петрарки в ином ракурсе, нежели эпику Тассо, и сентиментальный «петраркизм» Дмитриева оказался ему ближе торжественной архаики Державина (ср. Гардзонио 1989а, 24—27, 31).
Канцона «Ne la stagion...» в современных изданиях «Книги песен» значится под номером 50. Батюшков называет ее «Canzone IX» (1810г, 37; 1834, 72; ср. Белинский 1843, 67) в соответствии с самым авторитетным изданием того времени, подготовленным Ф. Соаве (Petrarca 1805, 1: 42). У Соаве канцоны (к числу которых отнесены также секстины, баллаты и мадригалы) нумеруются отдельно: после первых десяти сонетов идет 1-я канцона, за ней следуют сонеты 11 и 12 (= №№ 12 и 13 по ныне принятой нумерации), затем идет 2-я канцона (= № 14), затем 13-й сонет (= № 15) и так далее (см. McKenzie 1912, x—xvi). Майков ввел в текст батюшковского перевода неоговоренную конъектуру: вместо «Canzone IX» он напечатал «Canzone IV» [Майков 1887а, I: 118, 343 (2-й пагинации)]: под этим номером (IV канцона I части) «Ne la stagion...»
- 66 -
фигурирует в издании А. Марсана (Petrarca 1819, I: 62) и во многих более поздних изданиях XIX в. (McKenzie 1912, x, ср. v)148. Д. Д. Благой в комментарии к «Вечеру» также говорил о «4-й канцоне Петрарки из цикла „Sonetti e canzoni in vita di M. Laura“» (Благой 1934, 570; ср. Фридман 1964б, 281), но само стихотворение Батюшкова опубликовал по Блудовской тетради, в которой подзаголовок перевода редуцирован: «Подражаніе Петраркѣ»149. Ни в издании под редакцией Благого, ни в последующих изданиях сочинений Батюшкова полный подзаголовок «Ве́чера» не воспроизводится даже в редакторских примечаниях.
Батюшков знал, что «Канцоной называется пьеса, составленная из нескольких строф, состоящих из эндекасиллабов и семисложников (vers endecasillabi et Settenarii), переплетенных между собой (entremêlés) по правилам, неизменным и единообразным для каждой из этих строф», причем «порядок рифм и чередование <длинных и коротких> стихов всегда задаются произвольно» (Scoppa 1803, 176). Канцона «Ne la stagion...» написана четырнадцатистишиями с рифмовкой ABCBACCDDEEFEF150; Батюшков перевел ее десятистишиями парной рифмовки, уменьшив к тому же количество строф с пяти до четырех: 3-я и 4-я строфа объединены в одну [Майков 1887а, I: 343 (2-й пагинации)]. Классическая канцона должна завершаться особым укороченным строфоидом, который называется commiato ʽотпущение’ и содержит обращение автора к само́й канцоне (Scoppa 1803, 177). В «Ne la stagion...» эта концовка состоит из 8 стихов ABBCCDCD (1-й стих холостой); Батюшков слил ее с предпоследней строфой, вдобавок заменив обращение к канцоне (Canzon, se l’esser meco <...>) обращением к лире (О лира! — возбуди бряцаньемъ струнъ златыхъ <...>). «Это обращеніе передѣлано Батюшковымъ кореннымъ образомъ и получило выраженія, для Петрарки несвойственныя <...>» (Некрасов 1911, 188). Завершается стихотворение Батюшкова знакомыми мотивами (в оригинале они, разумеется, отсутствуют): <...> я, печали сынъ, среди глубокой нощи, // Объятый трепетомъ, склонился на гранитъ: // И надо мною тѣнь Лауры пролетитъ! (Батюшков 1810г, 39; Contieri 1959, 170; Проскурин 1996, 85). «Показатель точности» ранней редакции «Ве́чера» — 14%, «показатель вольности» — 81% (для поздней редакции эти цифры составляют, соответственно, 15% и 80%).
Посмотрим, какого рода изменения вносил Батюшков, перерабатывая стихотворение. Вторая строфа первоначально заканчивалась так (стро́ки 17—20):
- 67 -
Въ тѣни домашнихъ Ларъ, и всюду сынъ послушный,
Съ отцомъ и матерью вкушаетъ пиръ радушный.
Онъ счастливъ; я одинъ тоской усыновленъ,
Грущу и день и ночь среди безмолвныхъ стѣнъ!(Батюшков 1810г, 38)
В промежуточной редакции, которая находится в Тургеневской тетради, стро́ки 17—18 изменены:
Супруга, рой дѣтей оратая встрѣча<ю>тъ,
И брашны сельскіе <sic!> поспѣшно предлага<ю>тъ,
Онъ счастливъ: я одинъ тоской усыновленъ —
Грущу и день и ночь среди безмолвныхъ стѣнъ!151Наконец, в Блудовской тетради модифицированы также стро́ки 19—20:
Супруга, рой дѣтей оратая встрѣчаютъ,
И брашны сельскіе поспѣшно предлагаютъ.
Онъ щастливъ: я одинъ съ безмолвною тоской
Бесѣдую въ ночи съ задумчивой луной!152В этой версии введена отсутствующая в оригинале параллель с заключительными стихами первой строфы, которые во всех редакциях батюшковского «Подражания» читаются: А я <...> Одинъ, въ изгнаніи, одинъ съ моей тоскою, // Бесѣдую въ ночи съ задумчивой луною! (Батюшков 1810г, 38; и др.). Поразительнее всего то, что эти вариации не имеют к оригиналу почти никакого отношения:
<...> Et poi la mensa ingombra
Di povere vivande,
Simili a quelle ghiande,
Le qua’ fuggendo tutto ’l mondo honora.
Ma chi vuol si rallegri ad ora ad ora,
Ch’i’ pur non ebbi anchor, non dirò lieta,
Ma riposata un’hora,
Né per volger di ciel né di pianeta(= <...> И затем стол загромождается // Скудными яствами, // Подобными тем желудям, // Которые весь мир, отвергая, в то же время чтит. // Пусть хотя бы иногда радуется кто угодно, // У меня же еще не было — не скажу радостного, // Но даже спокойного часа, //
- 68 -
Сколько бы ни вращались небо и светило). Начало той же строфы (Come ’l sol volge le ’nfiammate rote // Per dar luogo a la notte <...> = Когда солнце поворачивает пламенные колеса, // Чтобы уступить место ночи <...>), первоначально переведенное: Когда вечерній лучь потухнетъ средь морей <...> (Батюшков 1810г, 38), — в позднейших редакциях читается: Когда свѣтило дня потонетъ средь морей <...>153 Новый вариант перевода ненамного ближе к оригиналу, чем прежний.
Вряд ли деформации, которым подверглась итальянская канцона, объясняются исключительно тем, что переводчик недостаточно хорошо понимал подлинник (Contieri 1959, 170—171). Как показал О. А. Проскурин (1996, 82—86), Батюшков переработал стихотворение Петрарки в стилистическом ключе, заданном Греевой элегией в переводе Жуковского. Некоторые значимые отступления от итальянского текста являются реминисценциями из начальной строфы «Сельского кладбища»: Уже блѣднѣетъ день, скрываясь за горою <...> (Жуковский 1802, 319) — Въ тотъ часъ, какъ солнца лучь потухнетъ за горою <...>154; Но се блѣднѣетъ тамъ багряный небосклонъ <...> (Батюшков 1810г, 37, 38); <...> Усталый селянинъ, медлительной стопою, // Идетъ задумавшись въ шалашъ покойный свой (Жуковский 1802, 319) — <...> Оратай острый плугъ увозитъ за собою, // И медленной стопой идя подъ отчій кровъ <...> (Батюшков 1810г, 38). Не менее показательны параллели между батюшковским «Вечером» и одноименной элегией Жуковского: <...> туманный дымъ // Ложится по лугамъ и холмы облачаетъ <...> (Жуковский 1807, 281) — <...> Съ холмовъ и пажитей, туманомъ орошенныхъ <...> (Батюшков 1810г, 39); <...> Спѣшитъ, восторженный, оставя сельскій кровъ <...> (Жуковский 1807, 281) — <...> Спѣшитъ, спѣшитъ съ полей подъ отдаленный кровъ <...> (Батюшков 1810г, 37). Стилистическим аналогом итальянской канцоны оказывается для Батюшкова медитативная элегия английского типа — неслучайно в «Собрании Руских стихотворений» (Батюшков 1815а) и в «Сочинениях» Батюшкова 1834 г. «Вечер» помещен в отдел элегий.
В 1814 г. батюшковские подражания Петрарке были перепечатаны по тексту «Вестника Европы» в «Музе новейших Российских стихотворцев» (Батюшков 1814а; 1814б). Между тем из рукописного сборника 1812 г. стихотворение «На смерть Лауры» исключено — сюда вошел только «Вечер» (Зубков 1997, 35); при этом Батюшков продолжал его шлифовать: как уже́ было сказано, разные стадии переработки стихотворения отразились
- 69 -
в Тургеневской (1811—1812) и в Блудовской тетрадях (начало 1815 г.). В «Опыты» 1817 г. подражания Петрарке (так же, как переводы из Тассо) включены не были. Тем не менее свою роль в становлении батюшковской поэтики они сыграли: принято считать, что именно с них «начинается расцвет „высокой элегии“ Батюшкова» (Верховский 1941, 405)155.
Стилистическое и тематическое единство двух переводов из Петрарки представляется неоспоримым; в «Расписании моим сочинениям» 1810 г. оба произведения помещены одно за другим в общей рубрике (под №№ 30 и 31)156. Однако некоторое время назад были высказаны сомнения по поводу того, что эти стихотворения относятся к одному и тому же периоду батюшковского творчества: О. А. Проскурин предпринял попытку передатировать «Вечер» концом 1808 — началом 1809 гг. Основанием для передатировки послужили слова́ Батюшкова из письма Гнедичу: «Впрочемъ я радъ что тебѣ понравились мои стихи въ Вѣстникѣ, они давно были написаны. Ето очень видно»157. Возражая А. Л. Зорину, заявлявшему: «О каких именно стихах <...> идет речь, установить невозможно» (Зорин 1989, 610), — Проскурин делает следующее предположение: «К тому времени самой свежей была публикация „Вечера“, увидевшая свет в ноябре <1810 г. — И. П.>», а значит, «скорее всего именно „Вечер“ был назван самим Батюшковым „давно написанным“ сочинением» (Проскурин 1996, 113 примеч. 15). Оба исследователя ошибочно относят письмо Батюшкова к декабрю 1810 г. (ср. наст. изд., примеч. 135 на с. 203); между тем оно представляет собой ответ на письмо Гнедича от 16 октября 1810 г., где Гнедич прямо указывает понравившиеся ему стихи: «Твоя персидская Идилія и другія напечатанныя съ нею піэсы <...> говорятъ <...> что ты имѣешь превосходное дарованіе для Поэзіи <...>»158. Несомненно, замечание Батюшкова относится именно к этому пассажу: предыдущая фраза из его письма́ («<...> прошу тебя оставить моего Тасса въ покоѣ <...>») является ответной репликой на предшествующую фразу из письма Гнедича [«Но этого быть неможетъ, ты меня мистифицируешь» (см. наст. изд., с. 61)]. Разумеется, в своем октябрьском письме Гнедич говорит не о ноябрьской, а о сентябрьской публикации: «Персидская идиллия — подзаголовок стихотворения Батюшкова „Источник“ <...> напечатанного в „Вестнике Европы“ <...> в том же номере напечатаны стихотворения „Счастливец“ и „На смерть Лауры“» (Альтшуллер 1974, 88 примеч. 3). Но и касательно этих произведений у нас нет оснований
- 70 -
утверждать, что слова́ давно были написаны «означают до 1810 г.» (Проскурин 1996, 113 примеч. 15): скорее всего, Батюшков имел в виду первую половину того же года (Пильщиков 2000а, 9—10)159.
Всё в том же 1810 г. Батюшков записывает в тетради «Разные замечания»: «On trouve dans Pétrarque un morceau qui me paroit égal à celui de Tibulle (Sur sa mort). L’amant de Laura est au milieu des bois, o<ù> sa mélancolie l’égare toute la journée; il pense au moment qui viendra terminer ses souffrances. Il conjure cette forêt de donner un asile à sa cendre: „Hélas! s’écrie-t-il, peut être un jour celle qui à présent n’a pour moi que des rigueurs, viendra sous cette ombre accoutumée; ses regards se tourneront vers le lieu o je m’asseyois ordinairement; je ne serai plus qu’une terre insensible: peut être alors un soupir s’échapera <sic!> de son cœur; peut être qu’avec son voile elle essuiera ses beaux yeux, obscurcis par quelques larmes...<“>» [= «У Петрарки есть отрывок, который кажется мне равноценным отрывку из Тибулла (о его смерти). Любовник Лауры блуждает в лесной чаще, по которой его целый день водит уныние; он думает о мгновении, которое придет, чтобы прекратить его страдания. Он заклинает этот лес дать пристанище его праху. „Увы! — восклицает он, — может быть, однажды та, которая сейчас ко мне сурова, придет под эту привычную сень; ее взоры обратятся к тому месту, где я обычно сидел; я уже превращусь в бесчувственную землю; может быть, тогда вздох вырвется из ее сердца; может быть, она утрет вуалью свои прекрасные глаза, затуманившиеся слезами...“»]160. Затем Батюшков заносит в тетрадь пересказанный им фрагмент — стихи 27—39 из канцоны «Chiare, fresche e dolci acque...»161
Параллель между Петраркой и Тибуллом для Батюшкова знаменательна: итальянскую литературу он трактует как «наследницу» древнеримской. Еще Карамзин в «Письмах Русского путешественника» (ч. IV, № 124) называл Петрарку «Италиянским Тибуллом» (Garzonio 1988, 40; Гардзонио 1989а, 25); в «Речи о влиянии легкой Поэзии на язык» сам Батюшков отметит, что Петрарка создавал свои лирические шедевры, «подражая Тибуллу, Овидію и Поэзіи Мавровъ» (Батюшков 1816г, 49). С другой стороны, через Петрарку классическая античность связывается с культурой высокого Возрождения, стоя́щей у истоков «новейшего» времени. Как писал Державин в «Рассуждении о лирической поэзии», «Дантъ, Петраркъ и Бокацїй <...> могутъ безпрекословно назваться возродителями древней и отцами новой поэзіи въ такъ ими названныхъ: Канцонахъ, Сонетахъ, Балладахъ, Стансахъ, Мадригалахъ и другихъ пѣсняхъ, извѣстныхъ
- 71 -
въ Европѣ» (Державин 1812, 23; Алексеев 1970, 43 примеч. 14). Этот же ход мысли запечатлен на страницах «Разных замечаний». Батюшков не ограничивается констатацией сходства между канцоной Петрарки и элегией Тибулла — его тут же увлекает новая ассоциация: «Я увѣренъ въ томъ что Тассъ не рѣдко подражалъ Петрарку. <В>отъ тому доказательство: Ерминія начертывая на вязахъ имя Танкредово, погружается въ сладкую задумчивость... все вокругъ ее <sic!> безмолствуетъ <sic!>, природа раздѣляетъ съ ней печаль ея, полуденный зной опаляетъ долину, козы покоятся подъ тѣнію широкихъ вѣтвей...» «Ета картина прелестна...»162 Дальше — снова итальянская выписка: октавы XX—XXI из VII песни «Gerusalemme liberata»163. Тезис о зависимости Тассо от Петрарки был развит и обоснован в статье Батюшкова «Петрарка» (1815); первым там приводится тот самый пример, что был разобран в «Разных замечаниях» (см. Пильщиков 2000а, 11—12).
2. Следующим шагом в развитии батюшковских интересов стало изучение специфически итальянских литературных явлений — произведений, не принадлежащих фонду общеевропейской классики. Новые для себя имена он нашел в «Трактате об итальянской поэзии» Антонио Скоппы (Scoppa 1803). Экземпляр этой книги, с которым Батюшков работал в 1810 г., был найден и описан А. С. Янушкевичем (1990, 13—26)164. Исторический очерк, открывающий трактат («Précis historique de l’origine et des progrès de la poésie italienne»), завершается панегирической характеристикой: «<...> le célèbre Casti, dont le grand génie embrasse tout ce qui rendit immortels les ouvrages de Tasso et d’Ariosto» = «<...> прославленный Касти, чей великий ум объемлет всё то, что сделало бессмертными творения Тассо и Ариосто» (Scoppa 1803, 6; Pil’ščikov 1995a, 128). Этой рекомендации оказалось достаточно: Батюшков перевел анакреонтические стихотворения Дж.-Б. Касти «A Fille, che non giudichi secondo le apparenze» и «Il Contento»165. Очевидно, знакомство Батюшкова с творчеством Касти не ограничилось только двумя произведениями — в 1817 г., составляя конспект-памятку по истории итальянской литературы, он опустил раздел, посвященный этому поэту: «КАСТИ. Я его знаю»166.
Стихотворение «Счастливец (Подражание Касти: Odi le rapide ruote sonanti)» было напечатано в том же выпуске «Вестника Европы», что и перевод сонета Петрарки. В «Счастливце» Батюшков также отказался от воспроизведения версификационной формы подлинника («A Fille»), написанного
- 72 -
5-сложными катренами с чередованием дактилических и женских окончаний (зарифмованы четные женские строки):
Odi le rapide
Ruote sonanti
Tratte da’ fervidi
Destrier fumanti[= Слушай быстрые // Звонкие колеса, // Влекомые горячими // Пышущими конями (Casti 1810, 70)]. Переводчик выбрал «анакреонтический» 4-стопный хорей с перекрестной рифмовкой AbAb (ср. Матяш 1979, 104; Гаспаров 1984, 114; 1999, 193, 202—203):
Слышишь! мчится колесница
Тамъ по звонкой мостовой;
Правитъ сильная десница
Коней сребряной браздой....(Батюшков 1810б, 52)
Из 20 катренов оригинала в переводе осталось 14 (в поздней редакции — 15). Однако даже в сохраненных строфах отступления от подлинника подчас весьма значительны. Например, стро́фы 2-я и 3-я звучат так:
Scansiam solleciti
L’ urto villano
Poich’ è già prossimo
L’ auriga insano;E mira, o Fillide,
Quel che sdrajato
Siede nel fulgido
Cocchio dorato <...>[= Проворно избегаем // Грубого удара, // Потому что уж близок // Неистовый возница; // Но посмотри, о Фи́ллида, // На того, кто, развалясь, // Сидит в блистающей // Позолоченной колеснице <...> (Casti 1810, 70)]. А вот что получилось у Батюшкова:
Ихъ копыта бьютъ о камень,
Искры сыплются струей!..
Пышетъ дымъ и черный пламень
Вылетаетъ изъ ноздрей!..
- 73 -
Рѣзьбой дивною и златомъ
Колесница вся горитъ;
На коврѣ ея богатомъ
Ктожь, Лизета, кто сидитъ?(Батюшков 1810б, 52)
Есть случаи сокращения текста (при том, что основная сюжетная линия передана достаточно точно). Таков, скажем, перевод строф 7-й и 8-й:
Nè a chi riscontralo
Per lo sentiero
Piegar mai degnasi
Il capo altero.Ma già il volubile
Cocchio trapassa,
E densa polvere
Dietro si lassa[= С кем бы он ни встретился // На пути, // Не соизволит он склонить // Гордую голову. // Но вот уже катящаяся // Колесница проносится мимо // И густую пыль // За собой оставляет <...> (Casti 1810, 71)]. Ср. в «Счастливце»:
Вотъ онъ съ нами повстрѣчался
И едва кивнулъ главой; —
Вотъ уж молніей промчался,
Пыль оставя за собой!(Батюшков 1810б, 52)
Однако по большей части мы имеем дело со свободными вариациями на тему Касти. Например, его лаконичное описание: Per l’ auree camere, // Per l’ ampie sale // Indivisibile // Noja l’ assale = В золотых комнатах, // В широких залах // Неразлучная с ним // Тоска его охватывает (Casti 1810, 72)] — контрастирует с многословными фантазиями Батюшкова:
Тамъ, гдѣ мраморъ изъ Пароса,
Из Каристы, на столбахъ;
Тамъ, гдѣ въ роскоши Пафоса
На узорчатыхъ коврахъСчастья шаткаго любимецъ
Съ Нимфами забвенье пьетъ:
- 74 -
Тамъ же слезы сей счастливецъ
Отъ людей украдкой льетъ.(Батюшков 1810б, 53)
Позже Батюшков еще расширил это описание, снабдив новыми деталями:
Тамъ, гдѣ хитростью искусства
Розы въ зиму разцвѣли;
Тамъ, гдѣ все плѣняетъ чувства,
Дань морей, и дань земли,Мраморъ дивный изъ Пароса
И кораллы на стѣнахъ;
Тамъ, гдѣ въ роскоши Паѳоса <sic!>
На узорчатыхъ коврахъ,Щастья шаткаго любимецъ
Съ Нимфами забвенье пьетъ <...>(Батюшков 1815б, 128)
Краткая «биография» отрицательного персонажа (строфа 4-я) также введена в текст переводчиком (Фридман 1964б, 280—281). В целом показатели точности и вольности батюшковского стихотворения составляют 16% и 80%; для поздней редакции показатель вольности еще выше — 82% (при таком же показателе точности). Красноречивый факт: в экземпляре II тома «Опытов», который Батюшков готовил к переизданию в 1819—1820 гг., подзаголовок «Подражаніе Касти» зачеркнут167.
Из многочисленных отступлений от подлинника, допущенных Батюшковым, наибольшую известность получило следующее. Касти пишет:
<...> Ma se con provvido
Giudizio sano
Tuo sguardo internasi
Nel core umano,Vedrai che misero
È quei talora,
Cui ’l volgo instabile
Invidia e adora:Vedrai che torbido
Pensier nascoso
- 75 -
Ad altri rendelo
E a se nojoso;Brama avidissima,
Tema, livore,
Odio implacabile
Gli rode il core.(Casti 1810, 72)
Привожу дословный перевод:
Но если с предусмотрительным
Здравым рассудком
Твой взгляд проникнет
Вглубь человеческого сердца,Ты увидишь, сколь жалок
Иногда тот,
Кому непостоянная чернь
Завидует и поклоняется.Ты увидишь, как мрачная
Тайная мысль
Делает его для других
И для себя докучным;Алчная страсть,
Страх, злоба,
Неутолимая ненависть
Грызет ему сердце.Совсем не то у Батюшкова:
Сердцемъ спитъ и нѣмъ душою
Тратитъ жизнь на суеты;
Днемъ не вѣдаетъ покою,
Ночью — страшныя мечты!Блѣденъ ночью Крезъ несчастный;
Шепчетъ тихо, чтобъ жена
Не вняла сей гласъ ужасный:
«Мнѣ погибель суждена!»Сердце наше кладезь мрачной:
Тихъ, спокоенъ сверху видъ;
- 76 -
Но спустись ко дну — ужасно!
Крокодилъ на немъ лежитъ!(Батюшков 1810б, 53)
Этими словами завершается первая редакция «Счастливца»168. «Прекрасную строфу прекраснаго перевода изъ Касти» (Вяземский 1884, 86) спародировал Воейков в сатире «Дом сумасшедших»:
Чудо! под окном на ветке
Крошка Батюшков висит
В светлой, проволочной клетке,
В баночку с водой глядит,
И поет певец согласный:
«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись туда — ужасный
Крокодил на дне лежит»[Воейков 1971, 797, ср. 299; Майков 1887а, I: 344—345 (2-й пагинации); Благой 1934, 508; Фридман 1964б, 281]. Об этой пародии Батюшков отзывался в письме к Жуковскому (август 1815 г.): «Поблагодари его <Воейкова> за пріятное воспоминаніе о Батюшковѣ и спроси, какъ я хохоталъ въ Москвѣ, читая: „сердце наше кладязь мрачный“, и наконецъ „крокодилъ на немъ лежитъ“. Скажи ему, что я... на Парнассѣ съ нимъ разсчитаюсь, но люблю его по прежнему, и не за что сердиться! Есть за что сердиться на Дашкова, который не довольно уважалъ меня, и потому не показалъ мнѣ эту шутку» (Бартенев 1875, 354). Позже Белинский, который находил, что батюшковское подражание Касти написано «прекрасными стихами», отмечал, что в нём «есть куплетъ, который разсмѣшилъ даже современниковъ этой пьесы, столь снисходительныхъ въ дѣлѣ поэзіи» (1843, 80).
С небольшими изменениями в строках 8, 23, 30 и 47 «Счастливец» был перепечатан Жуковским в «Собрании Руских стихотворений» (Батюшков 1811б)169; в этой же редакции текст включен в рукописный сборник 1812 г.170 Переделка стихотворения относится, вероятно, к августу или сентябрю 1814 г.: 7 октября 1814 г. дано цензурное разрешение на I часть «Собрания образцовых Руских сочинений и переводов в стихах», где появилась переработанная редакция «Счастливца» (Батюшков 1815б). В новой версии четверостишие «Сердцемъ спитъ и нѣмъ душою...» изъято, а два четверостишия добавлены (обсуждавшееся выше «Тамъ, гдѣ
- 77 -
хитростью искуства...» и финальное «Душъ великихъ сладострастье...»). В начале 1815 г. этот текст был внесен в Блудовскую тетрадь171, летом 1815 г. перепечатан в «Пантеоне Русской Поэзии» (Батюшков 1815г) и затем вошел в состав «Опытов» (Батюшков 1817а, ч. II: 192—195)172.
Второе «Подражание Касти», озаглавленное «Радость», опубликовано в «Опытах» вслед за «Счастливцем» (Батюшков 1817а, ч. II: 196—198). О времени создания этого произведения не существует единого мнения. Назывались даты: «<не> раньше 1807 г. и <не> позже 1814 г.» [Майков 1887а, I: 343 (2-й пагинации); Благой 1934, 509]; «не позднее 1810» (Фридман 1955б, 127); «около 1810 (?)» (Фридман 1964б, 126); «предположительно, около 1810 г.» (Семенко 1977, 562); «вероятно, в 1809—1810 гг.» (Кошелев 1989, 462). Тем не менее уточнить датировку можно. «Радость» не вошла в «Расписание моим сочинениям» 1810 г., куда включен «Счастливец» (№ 16, отдел «Анакреонъ»)173, тогда как в рукописный сборник, составленный не позже весны 1812 г., введены оба подражания Касти174. Скорее всего, «Радость» была написана в 1811 г. (нижняя граница — конец 1810 г., верхняя — начало 1812 г.).
В новом подражании условным эквивалентом полурифмованного пятисложника с дактилическими и женскими окончаниями («Il Contento») выступил редкий 2-стопный амфибрахий с дактилическими клаузулами без рифм (Эткинд 1968, 42—43; 1973, 151; Матяш 1979, 105, 106, 109; Гаспаров 1984, 122):
Любимца Кипридина
И миртомъ и розою
Вѣнчайте, о юноши
И дѣвы стыдливыя!(Батюшков 1817а, ч. II: 196)
Ср. у Касти:
Il crin cingetemi
Di mirti e rose,
Leggiadri giovani,
Donne amorose <...>[= Волосы венчайте мне // Миртами и розами, // Изящные юноши, // Влюбленные девушки <...> (Casti 1810, 107)]. Сопоставление текстов Батюшкова и Касти провел Майков: «Русскій поэтъ довольно близко
- 78 -
слѣдуетъ оригиналу въ первыхъ <17> стихахъ своей піесы, но затѣмъ почти совершенно удаляется отъ него, создавая свои образы и удерживая только основной мотивъ подлинника» [Майков 1887а, I: 344 (2-й пагинации)]. Из 84 строк оригинала в ранней редакции осталось 42, в поздней — 52 строки́ (строфическое деление в «Подражании» снято). После 37-го стиха (в поздней редакции — 47-го) Батюшков обрывает тему, но обрыв маскируется повтором начальных стихов (этот повтор задан кольцевой композицией оригинала):
Любимца Кипридина
Въ любви побѣдителя,
И миртомъ и розою
Вѣнчайте, о юноши
И дѣвы стыдливыя!(Батюшков 1817а, ч. II: 198)
Приведу показатели точности и вольности — отдельно для 17 начальных стихов дефинитивной редакции (48% и 59%)175 и для дефинитивной (52-строчной) редакции в целом (9% и 70%)176. Эти цифры подтверждают выводы Майкова: первая часть переложения выдержана строже, чем иные батюшковские «переводы», а всё стихотворение может быть квалифицировано как очень свободное «подражание». Кстати, Батюшков собирался перепечатывать «Радость» без указания на источник: в авторском экземпляре II тома «Опытов» подзаголовок «Подражаніе Касти» густо зачеркнут177.
Пространная редакция впервые фиксируется в Блудовской тетради (1815)178. В «Опытах» стихотворение было напечатано с новыми вариантами строк 16 и 40 (по сравнению с текстом 1815 г.). Редакция стихотворения, представленная в Тургеневской тетради (1811—1812) и в тетради из собрания Я. К. Грота (1812), существенно отличается от первопечатной (ср. Благой 1934, 509); так, в ранней версии еще отсутствуют стихи 22—31, лишь в небольшой степени зависимые от итальянского источника (ср. Фридман 1971, 131—132):
Какъ роза, кропимая
Въ часъ утра авророю,
С главой отягченною
Безцѣнными каплями,
Румянѣй становится:
- 79 -
Так ты, о прекрасная!
Съ главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснѣя промолвила:
Люблю! тихимъ шопотомъ179.(Батюшков 1817а, ч. II: 197)
В подлиннике этим стихам соответствуют две строфы:
<...> E a me con placido
Gentil sorriso
Lo sguardo languido
Fissando in viso,Se m’ ami, dissemi,
Già sento anch’ io
Per te amor nascere
Nel petto mio[= <...> И с безмятежной // Нежной улыбкой // Томный взгляд // Устремив на мое лицо, // «Если любишь меня, — Сказала мне, — // То и я уже чувствую, // Как любовь к тебе рождается // В моей груди» (Casti 1810, 108)]. Сравнение девушки с «розой, кропимой авророю», напоминает о батюшковском переводе XVI октавы из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима» (см. наст. изд., с. 49—50). С другой стороны, обсуждаемые стро́ки перекликаются с послевоенной лирикой Батюшкова — так, образ «блѣднѣющей и краснѣющей» стыдливости появляется в элегии «На развалинах замка в Швеции», переведенной из Маттисона примерно тогда же, когда была создана вторая редакция «Радости»180:
Красавица стоитъ безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва на жениха взглянуть украдкой смѣетъ,
Потупя ясный взоръ краснѣетъ и блѣднѣетъ,
Какъ мѣсяцъ въ небесахъ...(Батюшков 1814в, 221)
«Вот стихи прелестные, собственно Батюшкова — вся строфа прекрасна», — заметил Пушкин на полях своего экземпляра «Опытов в Стихах и Прозе» (Пушкин 1949, 12: 258); об этих же стихах восторженно отзывался Белинский (1843, 77—78). И действительно, в немецкой «Элегии,
- 80 -
написанной на развалинах старого горного замка», соответствующая сцена изображена несколько иначе:
Ihm die treue Rechte sprachlos reichend
Steht sie da, erröthend und erbleichend;
Aber was ihr sanftes Auge spricht,
Sängen selbst Petrarch und Sappho nicht[= Безмолвно протягивая к нему верную десницу, // Стои́т она там, краснея и бледнея; // А что говорит ее нежный взгляд, // Не спели бы сами Петрарка и Сапфо (Matthisson 1802, 37)]. Майков, отыскавший источник элегии Батюшкова, писал: «Подражая піесе Маттисона, Батюшковъ отнесся къ ней очень свободно; онъ почти совсѣмъ устранилъ изліянія нѣмецкаго поэта на отвлеченную тему, но, какъ бы осуществляя указаніе Шиллера <сделанное в статье о поэзии Маттисона. — И. П.>, чрезвычайно счастливо воспользовался тѣми намеками Маттисона, которые давали поводъ къ созданію живыхъ образовъ» [Майков 1887а, I: 225—226 (1-й пагинации), ср. 386 (2-й пагинации)]. И элегия «На развалинах замка в Швеции», и анакреонтическая ода «Радость» воспринимались и воспринимаются читателями как произведения характерно батюшковские — достаточно вспомнить лаконичный комментарий к «Радости», оставленный на полях «Опытов» Пушкиным: «Вот Бат<юшковск>ая гармония» (1949, 12: 279; ср. также Белинский 1843, 79—80).
3. В 1810 г. Батюшков прилежно штудировал «Трактат» Скоппы и переписывал в тетрадь с «Разными замечаниями» понравившиеся стихотворные примеры. Со страницы 217 выписан мадригал Джамбаттисты Феличе Дзаппи (Zappi, 1667—1719) «Disse Giove a Cupido...» («Сказал Юпитер Купидону...»). Со страниц 92, 69 и 75 в тетрадь перенесены отрывки из арий Метастазио: «Amo te solo...» («Только тебя люблю...»), «Nel cammin di nostra vita...» («На дороге нашей жизни...»), «Siam navi all’onde algenti...» («Мы — ладьи в холодных волнах...»)181. Это неудивительно: Метастазио считался бесспорно лучшим итальянским поэтом XVIII столетия182. В начале VII книги «Коринны» (книги, посвященной итальянской литературе) героиня перечисляет имена «наших первостатейных поэтов (nos poëtes du premier rang)»: Данте, Петрарка, Ариосто, Гварини, Тассо, Метастазио (Staël-Holstein 1807, 319—320; Cordié 1974, 175; 1985, 182). С творчеством Метастазио, чьи оперные либретто, арии
- 81 -
и кантаты пользовались необычайно широкой известностью (см. Meyer 2000; и др.), Батюшков мог познакомиться задолго до того, как взялся читать Скоппу. «Amo te solo...» (Brunelli 1953, I: 693) — это ария Сервилии из 3-актной «драмы для музыки» (dramma per musica) «Милосердие Тита» (акт I, сцена 7); в 1734—1803 гг. по либретто «La clemenza di Tito» было написано 43 оперы (Neville 1992, 355; ср. Lühning 1983)183. «Amo te solo...» исполнялась и как отдельная ария или канцонетта на музыку разных композиторов, в частности Доме́нико Чимарозы (см. его «Canzoncine per voce e strumenti a tastiera», № 1). «Nel cammin di nostra vita...» (Brunelli 1953, I: 1167) — это ария Леанго из «Китайского героя» (акт I, сцена 7); в 1752—1782 гг. либретто «L’Eroe cinese» использовали для своих опер 18 композиторов (Neville 1992, 356), в том числе учитель Чимарозы Антонио Саккини (1769 или 1770) и сам Чимароза (1782). Среди авторов, писавших отдельные арии на слова «Nel cammin di nostra vita...», — Иоганн Кристиан Бах (Minghini 1999, 7—8, 10). «Siam navi...» (Brunelli 1953, I: 602) — это ария Аминты из популярнейшей оперы Метастазио «Олимпиада» («L’Olimpiade», акт II, сцена 5), музыку к которой в 1733—1792 гг. писали такие композиторы, как Антонио Вивальди (1734), Джамбаттиста Перголези (1735), Доме́нико Скарлатти (1745), Никколо́ Пиччинни (1761, 1768), Саккини (1763, 1777), Чимароза (1784), Джованни Паизиелло (1786), — всего 53 музыканта (Neville 1992, 356; ср. Белецкий 1975, 44). Нужно добавить, что фразу из кантаты Метастазио «La Pesca» («Рыбалка»), которая не цитируется в книге Скоппы, мы находим в письме Батюшкова А. И. Тургеневу от 12 июля 1818 г. (Пильщиков 2002б, 294).
Следующая выписка в тетради 1810 г. — эпиграмма, автора которой Скоппа не называет:
Un pellegrin, che molto il somigliava
Vedendo Augusto, lieto il domandava:
Venne in Roma giammai chi t’era madre?
Rispose, no: ma spesso sì mio padre[= Странника, очень схожего с ним самим, // Увидев, Август весело спросил: // Приезжала ли когда-нибудь в Рим та, кто была тебе матерью? — // Она-то нет, ответил <странник>, а вот отец мой ездил часто (Scoppa 1803, 226)]184. Стихотворение принадлежит Луиджи Аламанни (Alamanni или Alemanni, 1495—1556), основоположнику эпиграмматического
- 82 -
жанра в итальянской литературе (Giunta 1857, 115). Историю о встрече Августа со своим двойником пересказывали и другие европейские эпиграмматисты; по-русски (с заменой Августа на Нерона) ее изложил В. Майков (Васильев и др. 1975, 646—647; Васильев 1998, 771). Батюшков этого анекдота, очевидно, не знал, поэтому копию «Un pellegrin...» он предварил пометой: «Вотъ забавная Эпиграмма»185.
Со страницы 179 Батюшков выписывает итальянское переложение 3-й и 4-й строфы из оды Sapph. 31 «Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν...» («Кажется мне тот равным богам...»). Рядом со стихами, хорошо известными ему по переводу Буало и двум переводам Державина, Батюшков делает помету: «Ода Сафы»186. Следом записана знаменитая эпиграмма, принадлежащая, по-видимому, Па́оло Джовио (Giovio, 1483—1552) и направленная против Пьетро Аретино (ср. Giunta 1857, 444; Васильев и др. 1975, 635—636; Васильев 1998, 35—36, 772):
Qui giace Aretin poeta tosco:
Di tutti disse mal, fuorchè di Dio
Scusandosi col dir: non lo conosco187.(Перевод: Здесь лежит Аретин, поэт тосканский; // Обо всех отзывался он плохо, кроме как о Боге, // Извиняя себя словами: я его не знаю.) «Аретина Эпит<афія>», как называет ее Батюшков188, несомненно, была ему известна еще до знакомства с «Трактатом» Скоппы. Дело в том, что у Скоппы эта эпиграмма, также напечатанная без имени автора, переадресована Лоредано: Quì giace Loredan poeta tosco <...> (Scoppa 1803, 227). Однако в отличие от Аретино, уроженца тосканского города Ареццо, основатель «Академии неизвестных людей» поэт Джан Франческо Лоредано (Loredano, 1607—1661) был венецианцем. Батюшков исправил неточность Скоппы189.
В «Расписание моим сочинениям» включен не дошедший до нас перевод с итальянского — «изъ Метастазія»190. Возможно, у Батюшкова был завершенный (?) перевод реплики Ахилла из оперы Метастазио «Ахилл на Скиросе», процитированной у Скоппы в главе о шестисложниках:
Ingrata m’inganni
Col darmi speranza:
Giurando costanza
Mi torni a tradir.(Scoppa 1803, 86—87)191
- 83 -
На полях книги сохранился набросок перевода:
Неблагодарная обманыв<аетъ>
Подавая мнѣ надежду
Обѣщаетъ вѣрность
И измѣняетъ192.Н. В. Фридман, который первым опубликовал отрывки «Разных замечаний», предполагал, что заглавие «изъ Метастазія» может относиться к стихотворению «Рыдайте, Амуры и нежные Грации...» (Фридман 1955а, 364; 1955б, 417; 1964б, 281; 1971, 132). Эту догадку пришлось отвергнуть, как только выяснилось, что оно переведено из Ролли (Varese 1970, 109—110 n. 286; Серман 1972, 234). Перевод трех начальных и трех заключительных строк стихотворения Па́оло Антонио Ролли (Rolli, 1687—1765) находится среди записей на полях книги Скоппы193. Вместе с итальянским оригиналом (см. Scoppa 1803, 94) он был перенесен в «Разные замечания»:
Piangete o Grazie piangete Amori,
Della Ninfa mia nel volto pallido,
Tutti si perdono gli almi colori.
O Amica Venere, di Giove figlia,
Se i voti accogli d’amante fervido,
Non lasciar perdere chi t’assomiglia.——
Рыдайте Амуры и нѣжныя Граціи,
У Нинфы моей на личикѣ нѣжномъ,
Розы поблекли и вянутъ всѣ прелести.
Венера Всемощная! Дочерь Юпитера! —
Услыши моленія и жертвы усердныя:
Не погуби на тебя столь похожую! —194Это хронологически первая выписка из Скоппы; за ней следуют другие, рассмотренные выше.
Во всех публикациях стихотворения (Фридман 1955а, 364; 1955б, 128; 1964б, 116; Шайтанов 1987, 264; Зорин 1989, 29) в предпоследней строчке ошибочно напечатано: Услышь моления <...> (вместо: Услыши моленія <...>). В первоначальной редакции перевода это место читается: <...> Услыши моленья <...>195 Стихотворный размер перевода — 4-стопный
- 84 -
трехсложник с переменной анакрусой и спорадическими усечениями на цезуре: (
)′
—́ (
)|(
)′
—́
(
)196. Скорее всего, слово моленія в позднейшей записи следует читать не как четырехсложное, а как трехсложное, хотя метрическая схема допускает обе интерпретации: в противном случае придется допустить возможность цезурных наращений (а не только усечений)197.
С. А. Матяш идентифицировала размер батюшковского стихотворения как 4-ударный дольник, «используемый в целях стилизации под античную строфу <? — И. П.>» (1979, 100). В. Б. Сандомирская неточно определила размер перевода как «своеобразное сочетание амфибрахия и дактиля без рифм» (1968, 267), С. А. Кибальник — как 4-стопный амфибрахий «с односложной каталектой» (1983, 64), А. С. Янушкевич (1990, 19) — как нерифмованный 4-стопный амфибрахий. Ближе других к определению размера батюшковского стихотворения подошел С. Гардзонио: «Трехсложник с переменной анакрусой и слоговыми усечениями (contrazioni sillabiche)», служащий для передачи итальянских эндекасиллабов [Garzonio 1984a, 68 (№ 424)]. Однако Скоппа объясняет, что стихи Ролли, строго говоря, «не являются ни декасиллабами, ни эндекасиллабами»: каждая строка представляет собой два пятисложника, которые «соединены вместе и легко расчленимы» благодаря постоянной цезуре после пятого слога [«<...> ce sont deux vers quinarii assortis ensemble, qu’on peut aisément séparer»; «<...> et ils se font remarquer par une césure au milieu de chaque vers, après la cinquième syllabe, ce qui les divise en deux hémisitiches» (Scoppa 1803, 60—61, 94, ср. 90)]. Батюшков выбирает размер, близкий к 4-стопному амфибрахию, и таким образом, действительно обнаруживается связь перевода из Ролли со вторым переводом из Касти, где пятисложник передан нерифмованными 2-стопными амфибрахиями (Янушкевич 1990, 19; Пильщиков 1999г, 14).
О стилистических особенностях батюшковского подражания можно судить уже́ по са́мому первому стиху, который сначала читался: Плачте всѣ Граціи<,> рыдайте амуры <...>198. Батюшков «отказался от повторения глагола», несмотря на бо́льшую близость этого варианта к оригиналу (Янушкевич 1990, 16, 18). Вероятнее всего, свою роль сыграло подмеченное Скоппой сходство стиха Ролли с начальной строкой стихотворения Катулла на смерть воробья Лесбии (Cat. III, 1): Lūgēte, ō Venerēs Cupīdinēsque <...> = Плачьте, о Венеры и Купидоны <...> (Scoppa 1803, 93—94; Кибальник 1983, 63—64; Янушкевич 1990, 17); Батюшков
- 85 -
предпочел классическую (катулловскую) композицию строки. Ассоциация с катулловским стихом вполне закономерна: в подражаниях Cat. III Купидоны иногда назывались другим именем — Амуры, а место малопонятных Венер обычно занимали привычные Грации. Эту замену мы находим у первого русского переводчика Cat. III А. Бухарского: Возплачьте Грацїи, Амуры <...> (Бухарский 1792, 303), — и даже у такого поклонника и знатока подлинной античности, как Востоков: Тужите Амуры и Граціи <...> (Востоков 1806, 62)199. Надо полагать, Батюшков понимал, что слова́ Ролли: O amica Venere, di Giove figlia, // Se i voti accogli <...> (= О, дружественная Венера200, дочь Юпитера, // Если просьбы примешь <...>) — представляют собой реминисценцию из гимна Сафо Афродите: Ποικιλόθρον’ ἀθάνατ’ Αφρόδιτα, // παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε <...> = Разноцветнопрестольная бессмертная Афродита, // Дочь Зевса, обманы сплетающая, умоляю тебя <...> (Sapph. I, 1—2). Ср. в переводе Державина (где имена греческих богов заменены, по тогдашнему обыкновению, латинскими):
Безсмертная Венера!
Всечтимая Богиня,
Юпитерова дщерь,
Которая прельщаешь
Сердца всѣхъ земнородныхъ!
Не мучь души моей
Скукъ бременемъ, печалей,
Тебя въ томъ заклинаю.(Державин 1808, ч. III: 154)
Усилив «античное» звучание итальянского подлинника, Батюшков превратил фрагмент в антологическую эпиграмму. Мы вновь сталкиваемся с конвергенцией случайного и закономерного в генезисе художественного текста: цитата стала источником законченного произведения (Pil’ščikov 1995a, 28; Пильщиков 1999г, 15)201. Точно так же через десять лет Батюшков преобразил в антологическую эпиграмму шесть строк из октавы Ариосто «La verginella è simile alla rosa...» («Девица юная подобна розе нежной...»).
Поэтические открытия, оставшиеся в черновиках, нередко оказываются ярче и смелее тех, которым довелось увидеть свет: Батюшков не счел свой перевод из Ролли достойным публикации. При этом он включил в
- 86 -
«Опыты» «Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою» — перевод итальянской эпиграммы, сочиненной неким французом, учеником Скоппы («un jeune homme français, mon écolier»):
Ты Нимфа, Іо; нѣтъ сомнѣнья!
Но только... послѣ превращенья!(Батюшков 1817а, ч. II: 207)
Quella donna vid’io
Da te tanta vantata:
Mi parve la ninfa Io
Ma metamorfosata[= Я видел ту женщину, // Столь тобой превозносимую: // Она показалась мне нимфой Ио, // Но уже преобразившейся (Scoppa 1803, 226; Янушкевич 1990, 23)]202. Хотя в 1820-х годах батюшковская эпиграмма перепечатывалась дважды (см. Благой 1934, 514), очевидно, что ни перевод, ни оригинал не поднимаются над уровнем посредственности. Подле этого стихотворения Пушкин написал: «Какая плоскость!» (1949, 12: 280)203.
4. В своем очерке итальянских «сюжетов» и «мотивов» у раннего Батюшкова я не могу обойти молчанием еще одно имя — Данте Алигьери. Вопрос о том, когда Батюшков впервые его прочел, долгое время оставался открытым. На мысль о возможном знакомстве русского поэта с «Комедией» способны навести некоторые параллели между описанием загробного мира в батюшковском «Видении на брегах Леты» (1809) и рассказом о нисхождении в преисподнюю в III—V песнях «Inferno». Следует, однако, учесть, что у Батюшкова и Данте был общий источник — VI песнь Вергилиевой «Энеиды» (надо ли напоминать, кто вел за собою Данте по скорбному царству?). Сопоставим описания катабасиса в трех указанных текстах204. Действие «Видения» происходит въ Елизіи священномъ, // Лавровымъ лѣсомъ осѣненномъ, // При шумѣ Касталійскихъ водъ <...> (стихи 23—25)205. Эти детали заимствованы у Вергилия (Aen. VI, 658—659): в Элизийских полях блаженные пируют в благоухающей роще из лавров (inter odōrātum laurī nemus), расположенной на берегах реки, — только это, конечно, не Кастальский ключ, а водами полный <...> поток Эридана (plūrimus Ēridanī <...> amnis). В Дантовом
- 87 -
«Аде» лавр не встречается206. Далее русский поэт описывает мертвецов, толпящихся на берегу подземной реки (стихи 79—82):
Подобно какъ въ осенни дни
Поблекши листвія древесны
Что буря въ долы разнесла,
Такъ тѣнямъ симъ не вѣсть числа!207В этом месте сам Батюшков ссылается на «VI пѣснь Энеиды»208, имея в виду стихи 305—310: Hūc omnis turba ad rīpās effūsa ruēbat <...> quam multa in silvīs autumnī frīgore prīmō // lāpsa cadunt folia <...> = Вся, разливаясь, сюда толпа к берегам устремлялась <...> Множество так в лесах при осени холоде первом // Падает листьев увядших <...> [ср. Майков 1887а, I: 342—343 (2-й пагинации); Kažoknieks 1968, 128—129]. Те же стро́ки Вергилия варьирует Алигьери: Come d’autunno si levan le foglie // L’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo // Vede a la terra tutte le sue spoglie, // Similemente il mal seme d’Adamo // Gittansi di quel lito ad una ad una <...> = Как осенью осыпаются листья // Один вослед за другим, пока ветвь // Не увидит все свои покровы лежащими на земле, // Точно так же дурное семя Адама // Бросалось с этого берега, одна <душа> за другой <...> (Inf. III, 112—116). Затем Вергилий и, по его примеру, Данте сравнивают тени с птицами (в батюшковской сатире такого сравнения нет). Отметим, что у Батюшкова в стихах 83—84 мертвецы Идутъ толпой <...> Къ рѣкѣ, как у Вергилия, а не бросаются в нее, как у Данте. Во всех трех текстах есть портрет Миноса. Ср. «Видение» (стихи 89—91):
Но тутъ Миносъ судьямъ на страхъ,
Старикъ угрюмый и курносый
Чинитъ расправу и допросы.....209Судьей подземного царства критского царя Миноса делают Гомер (Od. XI, 568—571), Платон (Gorg. 526c—526d) и Вергилий:
Nec vērō hae sine sorte datae, sine jūdice, sēdēs:
quaesītor Mīnōs urnam movet; ille silentum
conciliumque vocat vītāsque et crīmina discit[= Но не без жребия эти даны, иль судьи, пребыванья. // Зыблет квеситор Минос урну, а также безмолвных // Он созывает совет, преступленья
- 88 -
и жизнь испытуя (Aen. VI, 431—433)]. У Данте Минос превращен в хвостатого демона:
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
Essamina le colpe ne l’intrata;
Giudica e manda secondo ch’avvinghia.
Dico che quando l’anima mal nata
Li vien dinanzi, tutta si confessa;
E quel conoscitor de le peccata
Vede qual loco d’inferno è da essa;
Cignesi con la coda tante volte
Quantunque gradi vuol che giú sia messa[= Находится там ужасный Минос, и скалит зубы: // Рассматривает прегрешения при входе; // Судит и направляет, в соответствии с тем, сколько раз обовьется. // Говорю вам, что, когда душа злорожденная // Пред ним предстает, то во всём исповедуется; // И этот знаток грехов // Видит, какая область ада ей предназначена; // Обвивает ее хвостом столько раз, // На сколько ступеней вниз посылает (Inf. V, 4—12)]. Отдаленное сходство между «Видением на брегах Леты» и «Божественной Комедией» заключается разве что в репликах Миноса, обращенных к пришедшим. Однако умерших поэтов Минос допрашивает как судья: «Кто ты? вѣщай!»210, — а живого Данте он окрикивает как страж загробных врат: «O tu che vieni <...>» = «О ты, который идешь <...>» et cetera. Эти сопоставления не дают нам оснований усмаривать воздействие «Комедии» на батюшковское «Видение» — следы знакомства Батюшкова с Данте, судя по всему, нужно искать в более поздних источниках.
А. С. Янушкевич, обнаруживший экземпляр «Inferno», приобретенный Батюшковым в Веймаре в октябре или ноябре 1813 г. (Лобанов 1981, № 868), сделал вывод, что именно тогда «определился» «интерес Батюшкова к произведению итальянского поэта» (Янушкевич 1990, 10). К сожалению, исследователь не обратил внимания на итальянские стихи, которые находятся в тетради «Разные замечания» на следующей же странице после выписок из «Трактата» Скоппы. Это три начальных терцины из III песни «Inferno» (от слов Per me si và nella città dolente до слов Lasciat’ ogni speranza, voi che’ntrate), предваренные пометой: «Вотъ славная надпись на вратахъ Ада у Данте»211. А. А. Асоян это процитировал, но по недоразумению указал, что Батюшков вел тетрадь «Разные замечания»
- 89 -
«в 1807—1810 годах» (Асоян 1989, 18); на самом деле записи за эти годы в «Разных замечаниях» сделал Жуковский212. Тетрадь была подарена «въ Москвѣ. 1810г<о> года. Мая 12 дня Ж<уковски>мъ — Б<атюшко>ву» и заполнялась последним до «Маія 1811»213. Итак, начальный этап знакомства Батюшкова с «Божественной Комедией» приходится на 1810—1811 гг. В письме Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 ã. первый раз прозвучали вместе имена четырех поэтов, которые будут занимать Батюшкова на протяжении следующего десятилетия: Тассо, Ариосто, Петрарка, Данте.
- 90 -
Глава четвертая
ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕМЫ В ПИСЬМАХ БАТЮШКОВА
(1807—1820)1. В собраниях сочинений Батюшкова его эпистолярное наследие занимает более половины объема. Дружеская переписка в ту эпоху носила литературный характер (Степанов 1926; 1965; Todd 1976; Лазарчук 1996; и др.), и сам поэт ставил «письма къ друзьямъ» наравне со своими художественными произведениями: «<...> это мой настоящій родъ»214. «Литературность» Батюшкова неоклассична, она сродни «литературности» его французских учителей: Лагарпа, Парни или Бертена; цитатность декларируется и становится принципом поэтики. К «чужому» слову («Чужое: мое сокровище!») Батюшков относился едва ли не бережнее, чем к «своему» («Я не падокъ на свое»215). По поводу первого то́ма «Опытов» он писал Гнедичу (25 сентября 1816 г.): «Марай, поправляй, дѣлай что хочешь, но, Бога ради, ситаціи вѣрнѣе напечатай» (Ефремов 1883, кн. VII: 31; Майков 1886, III: 399). В каком бы жанре ни работал Батюшков: в прозаическом или поэтическом, в официальном или фамильярном, — всё им написанное объединяет характерная черта: предрасположенность к «ситациям», «ссылкам». В письме Гнедичу от 3 мая 1809 г. он обрывает серию стихотворных цитат пародическим замечанием: «Долго ли мнѣ ссылаться на другихъ? — Мартыновъ написалъ бы здѣсь въ скопкахъ, естетическимъ перомъ своимъ<:> citer à propos< >et mal à propos»216.
Батюшковский эпистолярий заключает в себе сотни цитат и реминисценций, которые отсылают ко многим десяткам новоевропейских и античных писателей (Пильщиков 1994; 1995а; 1999а; и др.). После русских авторов второе место по количеству цитат занимают французы, и только
- 91 -
третье делят римляне c итальянцами. Однако в данном случае количественный показатель не столь важен: дело в том, что итальянские и латинские вставки играют в батюшковских письмах принципиально иную роль, нежели французские217. Французская культура для Батюшкова — не менее «своя», чем русская, тогда как итальянская и ее предшественница латинская — «чужие»; при этом «чужое» демонстративно предпочитается «своему»218. По мнению Батюшкова, французскому языку можно выучиться в обычном разговоре, а латинский — это необходимый элемент домашнего образования219. По-особому относится Батюшков и к «счастливому языку Италїи, богатѣйшему наслѣднику древняго Латинскаго» (1816а, 111): «Ученїе Италїянскаго языка имѣетъ особенную прелесть. Языкъ гибкїй, звучный, сладостный, языкъ воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сицилїи <...> имѣетъ характеръ отличный отъ другихъ новѣйшихъ нарѣчїй и коренныхъ языковъ, въ которыхъ менѣе или болѣе примѣтна суровость, глухїе или дикїе звуки, медленность въ выговорѣ и нѣчто принадлежащее Сѣверу» (1816а, 107).
Язык переписки Батюшкова с друзьями-литераторами — русский, но целые пи́сьма или фрагменты писем, которые не имеют отношения к литературному быту, написаны по-французски (ср. Фридман 1965, 154—155; Паперно 1975, 151—155; Todd 1976, 140—144). Хотя именно к французскому Батюшков прибегал, когда затруднялся выразить свою мысль по-русски, недостаткам родного языка он противопоставлял достоинства итальянского, а не французского: «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? — На русскій языкъ <...> И языкъ-то по себѣ плоховатъ, грубенекъ, пахнетъ татарщиной. Что за Ы? — Что за Щ? Что за Ш? шій, щій, при, тры? — О варвары!220 <...> Извини, что я сержусь на русскій народъ, и на его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка, и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго: что слово — то блаженство!» [Н. И. Гнедичу, 27 ноября — 5 декабря 1811 г. (Ефремов 1883, кн. V: 346; ср. Майков 1886, III: 164—165); Майков 1887а, I: 234—236 (1-й пагинации); Пыпин 1899, 279—280; Розанов 1930, 118—119; Благой 1934, 30; Верховский 1941, 405—406; Contieri 1959, 173; Эткинд 1968, 39—40; 1973, 146—147; Горохова 1975, 249—250; Титаренко 1985, 86; Топоров 1990, 61—62; и др.]. Для Батюшкова «счастливая» Италия — это совершенно особая страна среди других европейских стран;
- 92 -
точно так же «счастливый» итальянский язык занимает особое положение по сравнению с другими живыми языками221.
2. Как известно, первым и главным итальянским увлечением русского поэта стал «Освобожденный Иерусалим» — сто́ит ли удивляться, что имя Тассо появляется в переписке Батюшкова уже́ в 1807 г. Отправляясь в Прусский поход, Батюшков пишет из Риги Гнедичу (19 марта 1807 г.): «Вообрази себѣ меня ѣдущаго на рыжакѣ по чистымъ полямъ и я, щастливѣе всѣхъ королей. ибо дорогой читаю Тасса, или что подобное <...>»222. Надо думать, Батюшков читал итальянские стихи наизусть, поскольку в том же письме он просит друга: «Поклонись Меценату-Капнисту. Да скажи ему что я не только Тасса съ собой не взялъ, но даже нѣтъ ни одного полустишія»223.
Во время следующего (Финляндского) похода Батюшков пишет послание «К Тассу» и переводит отрывок из I песни «Gerusalemme liberata»; эти стихи были отправлены Гнедичу с письмом от 7 августа 1808 г. (см. наст. изд., с. 11). В предыдущем письме (24 июня 1808 г.) Батюшков предлагает: «Поговоримъ не много о Тассѣ. Мнѣ о немъ и болтать пріятно. Я потерялъ 1й томъ и для того прошу тебя, сдѣлать дружбу купить мнѣ простую Эдицію Іерусалима съ Італіанскимъ <sic!> текстомъ и прислать не замедля. Я хочу въ немъ только упражняться». Здесь же находим первую итальянскую фразу: «<...> o folla <sic!> umana mente. и< >пр.!»224 Это неточная цитата из «Gerusalemme liberata» (IV, xxi, 1): ahi, cieca umana mente = увы, слепой ум человеческий, — искаженная под влиянием стихов Ger. lib. XII, lviii, 7—8 (Oh nostra folle // Mente = О наш нездравый // Ум)225. Неточность объясняется тем, что Батюшков был вынужден цитировать Ger. lib. IV, xxi по памяти, так как он «потерялъ» тот самый «томъ», в котором находится IV песнь. Видимо, по той же причине он допустил грамматическую ошибку — образовал мнимый женский род *folla от прилагательного folle ʽбезумный, ненормальный’ (оба рода имеют одинаковое окончание)226. Оплошность поэта доставила немало хлопот публикаторам, которые попытались эту конструкцию перевести: «О лживая человеческая толпа» (Зорин, Песков, Проскурин 1986, 332; Зорин 1989, 78). Чтобы мотивировать форму folla ʽтолпа’, им пришлось предположить, что существительное mente — это прилагательное от глагола mentire ʽлгать’ (в итальянском такого прилагательного нет). Эта же формула Тассо приведена по-русски в письме Гнедичу от 7 ноября
- 93 -
1811 г.: «О жалкой умъ человѣческій!» (Ефремов 1883, кн. V: 337; ср. Майков 1886, III: 151). Совпадение русского текста с итальянской контаминацией позволяет думать, что Батюшкову был знако́м источник, к которому восходят оба тассианских контекста, — поэма Лукреция «De rerum naturae» (II, 14): Ō miserās hominum mentēs! ō pectora caeca! = О жалкие человеческие умы! о души слепые! (Пильщиков 1995а, 243).
Цитата из Лукреция была широко известна; ею, в частности, завершается статья «Genèse» («Книга Бытия») из «Философского словаря» Вольтера (Voltaire 1785, XL: 442). Позже Батюшков (как свидетельствует его письмо к Вяземскому от 10 июня 1813 г.) читал «О природе вещей» в переводе, выполненном «славнымъ Маркетти»227, и делал из этой книги выписки в тетрадь «Чужое: мое сокровище!» (под заголовком «Что есть интереснаго въ Tito Lucrezio Caro»)228. Батюшков уверял Вяземского, что труд Алессандро Маркетти «еще лучш<е>», чем «прекрасн<ы>й Переводъ Гомера на Италіанскомъ Языкѣ»229 — то есть чем «Илиада» в переводе Мелькиорре Чезаротти (Cesarotti 1786—1794). Ср. запись в тетради «Чужое: мое сокровище!»: «ЧЕЗАРОТТИ. Умеръ недавно230. Перевелъ Омира, свободно. Перевелъ Оссїана»231. С Оссианом Батюшков, видимо, тоже знакомился по переводу Чезаротти (Майков 1886, III: 606, 705). 25 декабря 1808 г. он просил Гнедича: «Купи <...> мнѣ <...> книгу. Ossian tradotto dall’abate Cesarotti. Я объ ней ночь и день думаю»232. Нетипичный случай: итальянская словесность стала для Батюшкова «посредницей» при знакомстве с греческой, латинской и английской (Пильщиков 1995а, 252 примеч. 83; 2002б, 298—299 примеч. 12).
Новую эдицию «Иерусалима» взамен утерянной Гнедич Батюшкову не прислал, и 24 марта 1809 г. Батюшков пишет письмо А. Н. Оленину, в котором опять просит купить ему Тасса и опять вспоминает любимую поэму: «<...> вы просиживали у меня умирающаго цѣлые вечера, искали случая предупреждать мои желанія, когда оныя могли клониться къ моему благу, и въ то время когда я былъ оставленъ всѣми<,> приняли me peregrino errante <= меня, блуждающего скитальца> подъ свою защиту...»233 Все комментаторы оставили цитату без внимания; между тем это автохарактеристика Тассо из октавы-посвящения герцогу Альфонсу д’Эсте:
O magnanimo Alfonso, il qual ritogli
Al furor di fortuna e guidi in porto
Me peregrino errante <...>
- 94 -
[= О великодушный Альфонс, ты, который спасаешь // От гнева фортуны и приводишь в пристань // Меня, блуждающего скитальца <...> (Ger. lib. I, iv, 1—3)]. Начальное обращение из этой строфы Батюшков процитировал в примечании к «Умирающему Тассу»: «Т. Тассъ приписалъ свой Іерусалимъ Альфонсу, Герцогу Феррарскому: (o magnanimo Alfonso!..); и великодушный Покровитель, безъ вины, безъ суда, заключилъ его въ больницу С. Анны, т. е. въ домъ сумасшедшихъ» (1817а, ч. II: [VI]; Пильщиков 1994, 221, 223 примеч. 37).
Две итальянских вставки находятся в письме Батюшкова к Дашкову («Если великан, который встретился с Вами вчера...», 1811—1817): «Не забывайте насъ, любезный Дмитрій Васильевичь <...> являйтесь намъ изрѣдка <...> мы будемъ привѣтствовать Васъ виномъ и цвѣтами; мы будемъ обѣдать съ мертвецомъ, и упиваться какъ съ живымъ, Questo è saper, questo <sic!> è felice vita! — Жизнь наша <...> преходитъ какъ злакъ на камени; E <sic!> un Eco, un sogno; anzi del sogno un’ombra»234. Письмо к Дашкову, сохранившееся в копии с правкой П. И. Бартенева, печаталось уже́ трижды, но комментаторы не распознали в итальянских фразах два стиха из XIV песни «Gerusalemme liberata» (lxiv, 7; lxiii, 7; см. Пильщиков 1994, 220). Цитируя первый стих, Батюшков калькировал русскую конструкцию (Это... это...) или французскую (C’est... c’est...), если, конечно, мы не имеем здесь дела с ошибкой переписчика, — должно было быть: Questo (м. р.)... questa (ж. р.)... Во втором стихе тоже допущена неточность: союз E ʽи’ вместо копулы È ʽесть’, подобной копулам в первом стихе235. Скорректировать эту неточность понуждают как оригинал, так и контекст письма́: нужно пить и веселиться, «это и есть мудрость, это и есть счастье», ведь наша жизнь — «есть эхо, сон или, скорее, тень сна»236.
В другом письме к Дашкову (25 апреля 1814 г.) Батюшков рассказывает о взятии Парижа и об окончании кампании: «La Messagère indifférante <sic!> <= равнодушная вестница. — И. П.>, молва, извѣстила васъ давно о нашихъ побѣдахъ, чудесныхъ поистинѣ <...>» (Батюшков 1827а, 25; ср. Бартенев 1867, № 11: стб. 1457). Образ Молвы (Fama), равнодушной к тому, что̀ она передает, восходит к Вергилиевой «Энеиде»:
<...> tam fictī prāvīque tenāx quam nūntia vērī.
Haec tum multiplicī populōs sermōne replēbat
gaudēns, et pariter facta atque īnfecta canēbat <...>
- 95 -
[= <...> Вымыслов столь же держась и лжи, как и вестница правды. // Разные речи тогда она рассыпала в народах, // Радуясь и наравне небылицы и быль сообщая <...> (Aen. IV, 188—190)]. Этот мотив получил свое развитие у Овидия (Met. IX, 138—139; XII, 54—57; Bömer 1982, 24—25), а в Новое время стал общим местом эпической поэзии (Austin 1955, 71): мы встречаем его у Боккаччо в «Тесеиде» (la Fama в I, xxi) и у Ариосто в «Неистовом Роланде» (XVIII, xcvi, 3—4; XXII, xciii, 5—8; XL, xxvii, 3—4; см. Vivaldi 1893, 42—43)237. Поздне́е эту тему подхватил Тассо:
Ma percorsa è la fama, apportatrice
De’ veraci romori e de’ bugiardi,
Ch’ unito è il campo vincitor felice,
Che già s’è mosso, e che non è chi l’ tardi[= И пронеслась молва, носительница // Истинных слухов и измышлений, // Что объединен счастливый лагерь-победитель, // Что он уже двинулся, и нет никого, кто его остановил бы (Ger. lib. I, lxxxi, 1—4)]. Наконец, в «Генриаде» Вольтера мы находим: <...> Мais sa <de la Renommée> bouche indiscrète en sa légèreté // Prodigue le mensonge avec la vérité <...> = <...> Но ее <Молвы> нескромные уста легкомысленно // Расточают обман вместе с истиной <...> («La Henriade» I, 368); Du vrai comme du faux la prompte messagère <...> = Проворная вестница как правды, так и лжи <...> [VIII, 477 (Voltaire 1785, X: 61, 170)]. Вергилианский топос представлен у Батюшкова с теми коннотациями, которые он получил у Тассо (в «Иерусалиме» молва приносит весть о выступлении христианского воинства), и в той словесной аранжировке, какую итальянские строки получили в переводе Ш.-Ф. Лебрена: «Mais la messagère indifférente du mensonge et de la vérité, la Renommée, a répandu que les Chrétiens victorieux se sont rassemblés, que déjà ils sont en marche, et que rien ne les arrête» = «Но равнодушная вестница лжи и правды, Молва, разнесла, что христиане-победители объединились, что они уже в походе и их ничто не останавливает» (Lebrun 1803, I: 32; Пильщиков 1994, 221—222)238. Как правило, Батюшков приводил цитаты из итальянских и латинских авторов либо на языке оригинала, либо в собственном переложении на русский. На сей раз он изменил своей привычке.
Для того, чтобы понять, почему он предпочел французскую вариацию loci communi, нужно вновь обратиться к проблеме «посредников» — писателей,
- 96 -
осваивавших наследие Вергилия и Тассо в XVIII и в начале XIX в. Латинское прилагательное tenāx (буквально ʽцепко держащая’) и существительное nūntia (ʽвестница’) Тассо передал одним именем apportatrice (ʽносительница; разносчица; та, кто приносит’). Во французской традиции аналогом этих имен, как правило, выступало существительное messagère ʽвестница’. Как мы помним, работая над собственным переводом «Освобожденного Иерусалима», Батюшков использовал в качестве вспомогательных источников французские версии Лебрена и Лагарпа. Стро́ки Ger. lib. I, lxxxi, 1—2 переложены у Лагарпа так: Cependant cette voix si prompte et si légère, // Du faux comme du vrai bruyante messagère <...> = Между тем молва <буквально: этот голос. — И. П.>, столь проворная и легкомысленная, // Шумная вестница как правды, так и лжи <...> (La Harpe 1806, II: 161). В примечаниях, которыми снабжен перевод, указан вергилиевский источник Тассо и приведен стих из VIII песни «Генриады», который Лагарп инкорпорировал в свою версию «Иерусалима»: «Переводя Тасса, воспользовавшегося этим стихом Вергилия, я, конечно, вспомнил вольтеровскую строку, которая передает его верно и непринужденно (qui en est la traduction fidèle et facile), и не поменял в ней ничего, кроме эпитета» (La Harpe 1806, II: 166—167 n. 9).
Обратим внимание на то, что французские переводчики и подражатели были озабочены поиском подходящего эпитета к существительному messagère. Прилагательное prompte ʽпроворная, быстрая’ Вольтер взял из описания Молвы у Вергилия [vēlōx (Aen. IV, 174, ср. 175, 180)]. Лагарп перенес эпитет prompte в смежную строку, а на его место поставил эпитет bruyante ʽшумная, гремящая’, найденный в том же фрагменте «Энеиды» [strīdēns ʽстрекочущая, шумная’ (IV, 185)]239. Тем не менее Лагарп не был полностью удовлетворен ни вольтеровским вариантом, ни своим собственным: «У этого стиха, — продолжает он, — есть еще более удачная версия (il y en a une meilleure version), но ее достоинство всецело покоится на лирическом ритме <au rhythme lyrique; читай: она возможна только в одическом 8-сложнике. — И. П.>. Это версия Руссо:
Et messagère indifférente
Des vérités et de l’erreur.Messagère indifférente звучит превосходно и гораздо лучше передает Вергилиеву идею tam quàm, но никак не вмещается в александрийский стих (est excellent et rend supérieurement l’idée du tam quàm de Virgile, mais ne
- 97 -
pouvait entrer en aucune manière dans un vers alexandrin)» (La Harpe 1806, II: 167 n. 9)240. Лагарп, высоко ценивший перевод Лебрена (см. La Harpe 1778, VI: 129—131), мог только позавидовать своему предшественнику: Лебрен, не скованный требованиями версификации, присвоил удачное выражение Ж.-Б. Руссо, который подражал Вергилию во II строфе («C’est l’inconstante Renommée...») своей «Оды ... принцу Евгению Савойскому» [«Ode à Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince Eugène de Savoie» (кн. III, ода II); см. Rousseau 1743, 140]. Таким образом, в комментарии к батюшковской цитате должны появиться имена сразу нескольких авторов — латинского, итальянского и трех французских (Пильщиков 1999а, 55—56)241.
Можно усмотреть у Батюшкова имплицитное сравнение осады Парижа с осадой Иерусалима или Трои (ср. Зубков 1987, 287)242. В парижских письмах (Дашкову от 25 апреля и Е. Г. Пушкиной от 3 мая 1814 г.) Батюшков называет свое участие в походе «Одиссеей»243, а возвращаясь, пишет откровенно литературное письмо Д. П. Северину (19 июня 1814 г.), где прямо называет имена «Гомера и Тасса, вѣрныхъ спутниковъ воина», и цитирует по-итальянски «божественные стихи Любовника Елеоноры»244. Но упоминая «равнодушную вестницу», Батюшков снижает эпический образ — он говорит о газетных сообщениях245.
3. Фигура Лудовико Ариосто, первоначально заслоненная Тассо, со временем начинает всё больше привлекать Батюшкова246. Впервые он цитирует Ариосто в письме Гнедичу от 1 ноября 1809 г.:
«Molti consigli delle donne sono
Meglio improviso <sic!>, ch’a pensarvi, usciti;
Che questo è speciale e proprio dono
Fra tanti e tanti lor dal ciel legati.Ariosto
Естьли не поймешь, хотя не трудно понять твоей высокопарной Латынѣ, то бѣды нѣтъ»247. Перевод итальянской цитаты: Многие советы женщин // Лучше, <если они> даны внезапно, чем по размышлении; // Ведь это особый и присущий <им> дар // Среди многих и многих, завещанных им небом. Начальные стихи I строфы XXVII песни «Orlando furioso» (Майков 1886, III: 621), очевидно, приведены по памяти: Батюшков допустил неточность, написав в 4-м стихе legati ʽзавещанные’ вместо largiti
- 98 -
ʽуделенные’ (Благой 1934, 392 примеч. * [к с. 391]; Горохова 1975, 244 примеч. 25; 1983, 463 примеч. 27; Пильщиков 1994, 226—227)248. 29 июля 1810 г. Батюшков рассказывал П. А. Вяземскому: «Я бы перевелъ нѣсколько отрывковъ изъ <...> Аріоста, котораго еще нѣтъ во все на рускомъ. ибо переводъ который сдѣланъ съ Французкаго <sic!>, такъ похожъ на оригиналъ какъ Батонди на честнаго человѣка»249. Характерно, что поэт задумывает перевести что-нибудь из Ариосто летом 1810 г., когда увлечение Тассо временно отошло на задний план250. Симптоматичен и тот факт, что письмо Гнедичу от 30 сентября 1810 г., в котором Батюшков сообщает о своем решении прекратить работу над «Освобожденным Иерусалимом», начинается цитатой из «Неистового Роланда» (Orl. fur. VII, i, 1—4; Майков 1886, III: 645; Пильщиков 2002б, 284—286)251.
В 1811 г. Батюшков много читает Ариосто (ср. письмо к Е. Г. Пушкиной от мая 1811 г.) и пытается его переводить. В письме от 27 ноября — 5 декабря 1811 г. Батюшков просит Гнедича: «<...> дождись моихъ мараній и Аріоста» — а затем цитирует стихи 152—153 из сатиры Ариосто к брату Галассо: «Я въ теченіи <sic!> этихъ шести лѣтъ <оставшихся до 30-летия. — И. П.> прочитаю всего Аріоста, переведу изъ него нѣсколько страницъ, и въ заключеніе, ровно въ тридцать лѣтъ скажу вмѣстѣ съ моимъ поэтомъ:
Se< >a perder s’ ha la libertà, non stimo
Il piú ricco capel, che in Roma sia»(Ефремов 1883, кн. V: 342, 344; ср. Майков 1886, III: 160, 163). Мысль Ариосто (Если утратить нужно свободу, в ничто вменю // Самую богатую шапку, которая есть в Риме) нуждается в более точной интерпретации, чем те, которые существуют в нашей академической традиции: ca(p)pel(lo) — это не ʽчин’ (Горохова 1975, 245 примеч. 35; 1983, 463 примеч. 31) и не ʽкорона’ (Зорин, Песков, Проскурин 1986, 356 примеч. 1; Зорин 1989, 198 примеч. 7), а «красная, то есть кардинальская, шапочка» [«cappello rosso, cardinalizio, da cardinali» (Petrocchi 1902, 369)]. Текст сатиры поможет читателю разобраться, о каких властях — светских или духовных — идет речь в цитате; так, в стихах 178—179 говорится: <...> per fodrar di verde il nero // Cappel <...> = <...> чтобы покрыть зеленым черную // Шапочку <...>, — то есть «per divenir vescovo» ʽчтобы стать епископом’ (Buttura 1836, 478). Недаром позже, в статье «Ариост
- 99 -
и Тасс», Батюшков скажет о сатире к Галассо: «Аріостъ писалъ, что хотѣлъ, противъ Папъ <...> и книга его напечатана въ Римѣ con licenzia de superiori <= с соизволения властей>» (1816а, 110 примеч. *; ср. Горохова 1975, 249 примеч. 47)252.
29 декабря 1811 г. Батюшков сообщал Гнедичу: «Я <...> перевелъ вчерась листа три изъ Аріоста, посягнулъ на него въ первый разъ въ моей жизни, и, признаюсь тебѣ — съ вожделѣннѣйшими чувствами ...... ........... его музу» (Ефремов 1883, кн. V: 337; ср. Майков 1886, III: 169). Автограф письма́ не сохранился. В публикации П. А. Ефремова «пропущены два слова: первое заменено шестью, второе — одиннадцатью точками. Убедительнее прочих кажется конъектура лишилъ невинности (если, конечно, допустить возможность небольшой типографской неточности)» (Шапир 1993, 76 примеч. 34; 2000, 208—209). По контрасту с поэмой Тассо Батюшков ценил в Ариосто антиклерикальный юмор, подчас балансирующий на грани бласфемии, и эротизм, куда более рискованный и фривольный, чем у Торквато. Чтение Ариосто нередко вызывало у русского поклонника авзонийских муз скабрезные ассоциации. Так, обсуждавшийся выше пассаж об Ариосто из письма Гнедичу (27 ноября — 5 декабря 1811 г.) предварен следующим замечанием: «Я, съ моей стороны, не упущу изъ рукъ эти шесть лѣтъ и подобно Александру Македонскому надѣлаю много чудесъ, въ обширномъ полѣ.... нашей словесности» (Ефремов 1883, кн. V: 344; ср. Майков 1886, III: 163). Ироническое многоточие сигнализирует о том, что после сло́ва полѣ вместо словесности должно было бы появиться обсценное отглагольное существительное со значением ʽfututio’. Это прозрачный намек на заглавие барковской (?) оды «Герою победоносному на пространном поле ебли», которое А. Пушкин несколько лет спустя откровенно обыграл в 164-м стихе бурлескно-порнографической баллады «Тень Баркова»: <...> Въ обширномъ ебли полѣ (Пильщиков, Шапир 2002, 37, 298, 335 примеч. 383; ср. Цявловский 1996, 264; Pilshchikov 1997, 262; Шапир 2000, 208).
«Шутки въ сторону, — продолжает Батюшков (29 декабря); — я теперь въ лунѣ съ моимъ поэтомъ, въ лунѣ, и пишу прекрасные стихи. Прочитай 34 пѣснь Орланда и меня тамъ увидишь. Если лѣнь и бездѣйствіе (здѣсь они олицетворены) не вырвутъ пера изъ рукъ моихъ; если я буду въ бодромъ и веселомъ духѣ; если... то ты увидишь цѣлую пѣснь изъ Аріоста, котораго еще никто не переводилъ стихами» (Ефремов 1883, кн. V: 337; ср. Майков 1886, III: 170). Это обещание так и не было
- 100 -
выполнено; единственный стихотворный отрывок из Ариосто находится в том же письме Гнедичу от 29 декабря 1811 г.:
«Увы! мы носимъ всѣ дурачества оковы
И всѣ терять готовы
Разсудокъ, бренный даръ Небеснаго Отца!
Тотъ губитъ умъ въ любви, средь нѣги и забавы,
Тотъ рыская въ поляхъ, за дымомъ ратной славы,
Тотъ ползая въ пыли предъ сильнымъ богачомъ,
Тотъ по морю летя за Тирскимъ багряцомъ,
Тотъ золота искавъ въ алхиміи чудесной,
Тотъ плавая умомъ во области небесной,
Тотъ съ кистію въ рукахъ, тотъ съ млатомъ иль съ рѣзцомъ;
Астро̀номы въ звѣздахъ, Софисты за словами<,>
А жалкіе пѣвцы за жалкими стихами:
Дурачься смертныхъ родъ, въ лунѣ разсудокъ твой!Аріостъ. Пѣснь XXXIV.
Вотъ тебѣ обращикъ и моего дурачества: стихи изъ Аріоста» (Ефремов 1883, кн. V: 338; ср. Майков 1886, III: 170). Батюшков свободно перевел 85-ю октаву из XXXIV песни «Роланда» (рыцарь Астольф с апостолом Иоанном находят на Луне человеческий рассудок, потерянный людьми на Земле). О характере своего подражания недвусмысленно высказался сам поэт: «<...> засмѣйся въ глаза тому кто скажетъ тебѣ, что въ моемъ переводѣ далеко отступлено отъ подлинника. Аріоста одинъ только Шишковъ въ состояніи переводить слово въ слово, строка въ строку, око за око, зубъ за зубъ, какъ говоритъ Евангеліе253» (Ефремов 1883, кн. V: 338; Майков 1886, III: 170—171)254.
Батюшков «конкретизировал и расширил» описание, взятое у Ариосто (Горохова 1975, 246; 1983, 464). Так, в стихах 7—8 введены мотивы, которые отсутствуют в итальянском тексте и восходят к Тибуллу: «тирский багрец», «багрец и золото» (у Ариосто сказано просто: <...> Altri in cercar, scorrendo il mar, richezze <...> Altri dietro in magiche sciocchezze = Иные <теряют ум>, скитаясь по морям в поисках богатства <...> Иные — занимаясь колдовскими глупостями). Ср. у Батюшкова в переводе Tib. III, 3: Къ чему Эритрскія жемчужины безцѣнны, // И волны Тирскія, багрянцемъ напоенны? (1809г, 198—199). Славянизм волны означает ʽшерсть’ (САР, ч. I: 813); позже Батюшков заменил волны на руна255. В латинском оригинале говорится о «шерсти, покрашенной в Сидонский
- 101 -
багрец»: tīnctaque Sīdōniō mūrice lāna (Tib. III, 3, 18; ср. Tyriō в параллельном месте Tib. I, 2, 77). Этот мотив Батюшков перенес в свой перевод элегии Tib. I, 3: <...> Съ Сидонскимъ багрецомъ и съ золотомъ безцѣннымъ // На утломъ кораблѣ скитаться здѣсь и тамъ (1816в, 54)256. Топонимы Тир и Сидон (названия близлежащих финикийских городов) связаны между собою настолько тесно, что легко заменяют друг друга; читатель XIX в. помнил, что в Новом Завете они всегда упоминаются вместе: «страны̃ тѵ̃рскїѧ и̃ сїдω̃нскїѧ» (Мф 15, 21); «предѣ́лы тѵ̃рски и̃ сїдω̃нски» (Мк 7, 24; 7, 31); «помо́рїѧ тѵ́рска и̃ сїдώнска» (Лк 6, 17). Батюшков стремился передать «не букву, а дух» подлинника; поэтому в очерке «Прогулка по Москве» он не обинуясь приписал итальянскому поэту заключительный стих из собственного подражания, не имеющий никаких соответствий в оригинале (см. Горохова 1975, 246 примеч. 37): «Вздохнемъ, любезный другъ, отъ глубины сердца и скажемъ съ Аріостомъ:
Дурач<ь>ся смертныхъ родъ! въ лунѣ разсудокъ твой!»257
Вольность батюшковского переложения не отменяет хорошего знакомства поэта с итальянским подлинником. В своем письме Батюшков пересказывает Гнедичу содержание XXXIV и XXXV песен «Orlando», строго придерживаясь текста поэмы: «А теперь скажу мимоходомъ, что у нашего Аріоста, С. Іоаннъ приводитъ Астольфа къ патріархамъ, которые обѣдаютъ съ нимъ райскими плодами!!! кормятъ лошадь рыцаря овсомъ!!! Астольфъ съ апостоломъ садится въ колесницу, въ ту самую, которая была послана за пророкомъ Ильей!!! С. Іоаннъ апостолъ говоритъ Астольфу, что онъ любитъ писателей, потому что и самъ былъ того же ремесла!!!» (Ефремов 1883, кн. V: 338; ср. Майков 1886, III: 171). Сравним пересказ с оригиналом. «Къ патріархамъ»:
Quivi <Giovanni> fu assunto, e trovò compagnía,
Ché prima Enoch, il Patriarca, v’era <...>[= Сюда <Иоанн> был вознесен и нашел компанию, // Потому что там уже обитал Патриарх Енох <...> (Orl. fur. XXXIV, lix, 1—2)]. «Райскими плодами», «овсомъ»:
Con accoglienza grata il Cavalliero
Fu da i Santi allogiato in una stanza:
- 102 -
Fu provvisto in un’ altra al suo destriero
Di buona biada, che gli fu abbastanza.
De’ frutti a lui del Paradiso diero <...>[= С любезной приветливостью // Святые предоставили Рыцарю один покой, // А в другом покое обеспечили его коня // Отличным овсом, коего ему было вдоволь. // Угостили рыцаря райскими плодами <...> (XXXIV, lx, 1—5). «Въ колесницу», «за пророкомъ Ильей»:
Un carro apparecchiòsi, ch’ era ad uso
D’andar scorrendo per quei cieli intorno:
Quel già ne le montagne di Giudea
Da’ mortali occhi Elía levato avea[= Была снаряжена колесница, пригодная // Для езды по небесам, — // Та, которая некогда с иудейских гор // На глазах смертных вознесла Илию (XXXIV, lxviii, 5—8)]. «Любитъ писателей», «самъ былъ того же ремесла»:
Gli scrittori amo, e fo il debito mio
Ch’ al vostro mondo fui scrittore anch’io[= Люблю писателей, и тем выполняю свой долг, // Ибо в вашем мире я сам был писателем (XXXV, xxviii, 7—8)]. Эпизоды, повествующие о путешествии Астольфа на луну, воспринимались Батюшковым как самые яркие в «Неистовом Роланде». Позже Батюшков упоминал Астольфово путешествие в письме к Н. Ф. Грамматину (январь 1813 г.) и в очерке «Вечер у Кантемира» (Горохова 1975, 248; 1983, 465). При этом он не сомневался, что «игривые вымыслы Ариоста»258 выходят за рамки дозволенного: «Это все мило и весьма забавно <...> но у насъ это вовсе не годится, а если мнѣ не вѣришь, то загляни въ цензурный комитетъ» [Н. И. Гнедичу, 29 декабря 1811 г. (Ефремов 1883, кн. V: 338; Майков 1886, III: 171)].
Батюшковское восприятие поэмы Ариосто во многом предопределила мысль Вольтера о жанровой всеобъемлемости «Orlando furioso» (см. «Dictionnaire philosophique», статья «Épopée», раздел «De l’Arioste»), позже развитая Батюшковым в очерке «Ариост и Тасс». Майков противопоставлял вольтерианскую концепцию, изложенную в очерке 1815 г., «оригинальному сужденію Батюшкова объ Аріостѣ», которое было высказано в письме Гнедичу от 29 декабря 1811 г. (Майков 1885, II: 459; Горохова
- 103 -
1974, 121). Однако Майков не заметил, что и это суждение основано на тезисах Вольтера: Батюшков повторяет положение «Философского словаря» о синтезе возвышенно-эпического и гротескно-комического в «Неистовом Роланде», творец которого «умѣетъ соединять эпической тонъ съ шутливымъ; забавное съ важнымъ; легкое съ глубокомысленнымъ; тѣни съ свѣтомъ» (Ефремов 1883, V: 337; ср. Майков 1886, III: 170). Ср. в той же статье Вольтера: Ариосто — одновременно и «эпический поэт» («le poëte épique»), и «первый из <поэтов> гротескных» («le premier des grotesques»); он «столь же возвышен, сколь забавен» («aussi sublime que plaisant»): в сюжете «Orlando furioso» «важное соединяется с шутливым» [«<...> un sujet mêlé de serieux & de plaisant» (Voltaire 1785, XL: 57—58; Bouvy 1898, 107—108; Keyser 1933, 133—136; Cioranescu 1939, 125—126)]. Далее Батюшков вслед за Вольтером обнаруживает в поэме сразу все достоинства, присущие произведениям других авторов лишь по отдельности: «Возьмите душу Виргилія, воображеніе Тасса, умъ Гомера, остроуміе Вольтера, добродушіе Лафонтена, гибкость Овидія: вотъ Аріостъ!» (Ефремов 1883, кн. V: 337; Майков 1886, III: 170). В письме к Шамфору (16 ноября 1774 г.) Вольтер объясняет предпочтение, которое он оказывает Ариосту перед Лафонтеном: «Mais que L’Arioste est supérieur à lui <Lafontaine> <...>! par la fécondité de son génie inventif, par la profusion de ses images, par la profonde connaissance du cœur humain, sans faire jamais le docteur, par ces railleries si naturelles <...>! J’y trouve toute la grande poësie d’Homère avec plus de variété; toute l’imagination des mille et une nuit; La sensibilité de Tibulle, les plaisanteries de Plaute, toujours le merveilleux et le simple» = «Но насколько Ариост выше Лафонтена <...>! плодотворностью своего изобретательного ума, обилием образов, глубоким знанием сердца человеческого, всегда без педантизма, своими столь естественными насмешками <...>! Я нахожу в этом всю великую поэзию Гомера при большем разнообразии; всё воображение тысячи и одной ночи; чувствительность Тибулла, шутки Плавта, во всем волшебство и простоту» (Besterman 1963, LXXXIX: 103; Bouvy 1898, 108; Plate 1917, 53—55; Naves 1938, 342—343). В характеристике, данной Батюшковым, — те же атрибуты; изменены лишь имена и соответствия между именами и атрибутами. Здесь ощущается влияние Шатобриана («Гений христианства», ч. II, кн. I, гл. II): «Homère semble avoir été particulièrement doué de génie, Virgile de sentiment, le Tasse d’imagination» = «Гомер, кажется, прежде всего был одарен умом, Виргилий — чувством, Тасс —
- 104 -
воображением» (Chateaubriand 1802, 7; Пильщиков 1994, 227—228; Pilshchikov 1994b, 119; Pil’ščikov 1995a, 126)259.
К античным именам Батюшков добавляет имена Тассо, Вольтера и Лафонтена (которого Вольтер сравнивает с Ариосто в письме к Шамфору). «Добродушие» («bonhomie») Лафонтена (равно как и «остроумие» Вольтера) относится к числу общих мест260; в том же письме Гнедичу от 29 декабря 1811 г. Батюшков повторяет: Ариост «говоритъ не тѣмъ тономъ, какимъ говаривалъ Вольтеръ въ своей „Дѣвкѣ“, но съ удивительнымъ, однимъ словомъ съ Лафонтеновымъ добродушіемъ, весьма серіозно, иногда съ жаромъ, иногда улыбаясь однимъ глазомъ» (Ефремов 1883, кн. V: 338; ср. Майков 1886, III: 171). На сей раз Батюшков вступает в противоречие с законодателями европейского вкуса. Лагарп, сравнивая Ариосто и Лафонтена («Лицей», ч. II, кн. I, гл. XI, раздел I), писал: «Но что касается искусства повествования (l’art de narrer) <...> их манера совершенно различна <...> у Ариоста всегда вид человека, который первым насмехается над тем, что̀ сказал; Лафонтен всегда кажется прямодушным (l’Arioste a toujours l’air de se moquer le premier de ce qu’il a dit; Lafontaine semble toujours être dans la bonne foi)» (La Harpe 1799, VI: 329)261. Осознавая преемственность Вольтера по отношению к Лафонтену и Ариосто262, Батюшков тем не менее противополагает Ариосто Вольтеру: «Orlando» представлялся ему менее фривольным произведением, чем «La Pucelle d’Orléans»263.
4. В эпистолярии есть еще одна цитата, косвенно связанная с увлечением Батюшкова «Неистовым Роландом». Находится она в письме Вяземскому из Петербурга (июль 1812 г.): «<...> если онъ <Сѣверинъ> перерветъ матерію <разговоры о Вяземском. — И. П.> или начнетъ мнѣ расказывать о Москвѣ, о Пушкинѣ <Василіи Львовичѣ>, то я, подобно Анжеликѣ, съ глубокимъ вздохомъ<,> съ глазами<,> отуманеными тоскою<,> повторяю ему: Parle moi de Médor ou laisse moi rêver»264. Р. М. Горохова приняла цитату за слова самого автора, якобы демонстрирующие, «насколько постоянно <sic!> образы Ариосто находились в сознании Батюшкова» (1975, 247—248; ср. 1983, 465). В полном недоумении оставляет читателя комментарий А. Л. Зорина: «Анжелика и Медор — идеальные возлюбленные из поэмы Л. Ариосто „Неистовый Орландо“. Фразы, которую приводит Батюшков, в тексте поэмы нет» (Зорин 1989, 620). Честно говоря, нет ничего удивительного в том, что среди
- 105 -
итальянских 11-сложников «Orlando furioso» не оказалось ни одного французского александрена. Между тем герои Ариосто неоднократно становились персонажами в сочинениях других авторов. К началу XIX в. во Франции было создано более двадцати произведений по мотивам эпизодов поэмы Ариосто, посвященных любви Анжелики и Медора и безумию Роланда265 [см. Keyser 1933, 43 и далее; Cioranescu 1939, 270 и др. (по указателю)]. В этой связи можно вспомнить поэму Депорта «Неистовый Роланд», трагедию Мере, трагикомедии Гильома Ле Риша (Le Riche) и Габриэля Жильбера (обе озаглавлены «Любовь Анжелики и Медора»), комедию Данкура «Анжелика и Медор», «лирические трагедии» (оперные либретто) Кино и Сегре, а также многочисленные пародии.
Цитата, приведенная Батюшковым, взята из оперы Филиппа Кино (Quinault) и Ж.-Б. Люлли (Lully или Lulli) «Роланд» («Roland», акт II, сцена 3, стих [320]):
Temire
Votre Cœur pour Roland devoit se reserver....
Angelique
Parle-moy de Medor, ou laisse-moy resver.
[= Темира. Ваше сердце должно было сохранить себя для Роланда... Анжелика. Говорите со мной о Медоре или оставьте меня мечтать (Quinault 1685, 19; Pilshchikov 1995b).] «Роланд» — это одна из последних совместных работ Кино и Люлли (премьера состоялась 8 января 1685 г.). Творчество Кино было отвергнуто и осмеяно в сатирах Буало (см. Sat. X, 131 слл.; III, 191 слл.; ср. II, 20; IX, 288); честь его полной и безоговорочной «реабилитации» принадлежит Вольтеру266. Имя Кино встало в один ряд с именами Корнеля, Расина и Мольера. Во второй половине XVIII в. уже́ трудно найти писателя, который не разделял бы этого мнения: поклонниками Кино были Дидро и д’Аламбер; в оценке его опер с Вольтером соглашался даже Ж.-Ж. Руссо (Gros 1926, 750). 27 января 1778 г. была поставлена новая версия «лирической трагедии Роланд» — на музыку Никколо́ Пиччинни; пьеса Кино была сокращена и «подретуширована» («mise en trois actes avec quelques changements») Ж.-Ф. Мармонтелем, однако литературного успеха новое либретто не имело267. К началу XIX в. музыкальные (или лирические) трагедии Ф. Кино превратились из явления театральной жизни в разновидность
- 106 -
Lesedramen. Лагарп («Лицей», ч. II, кн. I, гл. V, раздел III) вслед за Вольтером («Век Людовика XIV», гл. XXXII) относил их к «совершенно новому роду драматической поэзии» (см. Voltaire 1785, XXI: 266; La Harpe 1799, V: 332)268.
Творческий путь драматурга завершился оперой «Армида», написанной по мотивам «Освобожденного Иерусалима» Тассо (Quinault 1686). Вольтер в «Философском словаре» писал о «Роланде» и «Армиде»: «Ce fut pour l’Arioste & pour le Tasse, dont ces deux opéra sont tirés, le plus bel hommage qu’on leur ait jamais rendu» = «Это высочайшая дань уважения, которую когда-либо оказывали Ариосту и Тассу, из которых взяты <сюжеты> этих двух опер» [«Art dramatique...», раздел «De l’opéra» (Voltaire 1785, XXXVIII: 49)]. Трудно представить себе, чтобы Батюшков при своем увлечении Тассо и Ариосто не обратил бы внимания на их французского интерпретатора; совершенно невероятно, чтобы он мог проигнорировать положения «Философского словаря» и «Лицея»: в 1800-е годы его взгляды на итальянскую литературу полностью определялись воззрениями Вольтера и Лагарпа. Подобно Лагарпу (Todd 1972, 80), он отошел от позиции Буало и занял сторону Вольтера в разногласиях по поводу Кино. В примечании к своему первому опубликованному стихотворению Батюшков писал:
«C’est un méchant métier que celui de médire,
сказалъ Боало <= Дурное это занятие — браниться (Буало, сатира VII, стих 2). — И. П.>, и, не смотря на то, продолжалъ браниться съ несчастнымъ Котеномъ и съ гармоническимъ Кинольтомъ» (Батюшков 1805а, 61 примеч. *; Пильщиков 1995а, 227—229).
5. Говоря об итальянских интересах русского поэта, нельзя обойти вниманием оперу (на сей раз речь пойдет не об особом драматическом жанре, а о реальных театрально-музыкальных произведениях, по поводу которых высказывался в своих письмах Батюшков). До сих пор эта тема затрагивалась только мимоходом — в связи с влиянием гиатуса (зияния) как характерного акустического элемента итальянского bel canto на фонику батюшковских стихов (Кац 1985)269.
Июль и начало августа 1818 г. Батюшков провел «въ Одессѣ, или въ руской Италїи»270. «Здѣсь было очень жарко и Италіянская Опера прекрасная,
- 107 -
слѣдственно мнѣ было не худо», — писал он А. И. Тургеневу 30 июля 1818 г. (Батюшков 1827б, 111)271. Сведения об одесских оперных постановках крайне скудны (Скальковский 1858; 1894, 200—205; Горновский 1905, 27—29; Алексеев 1928, 322—323; Эйгес 1937, 160—164; Глумов 1950, 82—83) — тем важнее для нас свидетельства, оставленные Батюшковым. В письме А. Н. Оленину от 17 июля 1818 г. мы читаем: С. И. Муравьеву «прошу поклониться[.] и сказать Papataci при первомъ свиданїи. Это шуточка изъ Италїанской оперы, которая здѣсь процвѣтаетъ вмѣстѣ съ пшеницею, Ришельевскимъ Лицеемъ и торговлею»272. Батюшковская отсылка не только не получила необходимого комментария, но даже не была правильно воспроизведена. Впервые это письмо опубликовал Бартенев, который скопировал батюшковскую орфограмму — Papataci (Бартенев 1867, № 11: стб. 1527). Майков, перепечатывая текст письма́, ввел искажающую смысл конъектуру: «Papa, taci!» (Майков 1886, III: 521). В современных изданиях фраза, изобретенная Майковым, повторена и снабжена переводом: «Папа, молчи!» (Паламарчук 1987, 420; Зорин 1989, 507, 508 примеч. 1). Однако итальянская «шуточка» имеет совсем другое значение — Батюшков подразумевает комическую кульминацию оперы-буфф «L’Italiana in Algeri» («Итальянка в Алжире», 1813) на музыку Джоакино Россини по либретто А́нджело Анелли (Пильщиков 1995а, 243—244)273. В 3-й сцене II действия героиня по имени Изабелла, желая избежать любовных притязаний алжирского бея Мустафы, предлагает ему титул Pappataci [то есть Жри-и-молчи (от pappare и tacere)]. Мустафа рад — и вскоре окончательно околпачен (трио Мустафы, Линдоро и Таддео):
Mustafà
Pappataci! Che mai sento?
La ringrazio, son contento,
son contento, son contento.
Ma di grazia, Pappataci
che vuol poi significar?(= Мустафа. Паппатачи! Что я слышу? // Благодарю ее, я счастлив, // я счастлив, я счастлив. // Но, пожалуйста, скажите: Паппатачи — // что же это значит?) Линдоро и Таддео объясняют, что быть Паппатачи — значит всё время есть, пить, спать и не вмешиваться в дела жены (Pappataci dee mangiar, // Pappataci dee dormir, // dee dormire, mangiare,
- 108 -
bere, // ber, dormire, ber, dormir, // e poi mangiar). Современники Россини находили это трио превосходным в музыкальном отношении (Stendhal 1824, 101; ср. также Синявер 1964, 57—58).
О внимании Батюшкова ко всё более популярному Россини свидетельствует и то, что в Вене поэт посетил спектакль «Tancredi». 30 (18) декабря 1818 г. он писал Е. Ф. Муравьевой: «Былъ въ оперѣ Танкредѣ; о<рк>естръ удивительной, поютъ хорошо, но не такъ какъ Итальянцы»274. «Танкред», впервые поставленный 6 февраля 1813 г. (либретто Гаэтано Росси по «Gerusalemme liberata» Тассо и «Tancrède» Вольтера), принес Россини мировую известность и стал первой его оперой, переведенной на другие языки (Loewenberg 1955, col. 629—630)275. 22 мая 1813 г. успех этой героической мелодрамы (melodramma eroico) был подкреплен скандальной премьерой «Итальянки в Алжире» (Бронфин 1973, 37—43; Osborne 1992, 834). В письме к А. И. Тургеневу из Неаполя (24 марта 1819 г.) Батюшков описывает «народъ», который «каждый день <...> волнами притекаетъ въ обширный театръ — восхищаться музыкой Россини и усладительнымъ пѣніемъ своихъ Сиренъ» (Батюшков 1827б, 112). Речь здесь, по всей вероятности, идет о главном спектакле сезона: 7 марта 1819 г. в неаполитанском театре Сан-Карло возобновилась опера «Моисей в Египте» («Mosè in Egitto», 1818); она была исполнена «с музыкальными добавлениями и новым финалом, специально написанным синьором маэстро Россини». В тот день впервые прозвучала покорившая публику ария-молитва Моисея «Dal tuo stellato soglio...» = «С твоего звездного престола...» (Loewenberg 1955, col. 657). О том, что̀ происходило в театре, поведал Стендаль, оказавшийся, как и Батюшков, свидетелем премьеры («Жизнь Россини», гл. XXVI): «On ne peut se figurer le coup de tonnere qui retentit dans toute la salle; on eût dit qu’elle croulait. Les spectateurs des loges, debout et le corps penché en dehors pour applaudire, criaient à tue tête: bello! bello! o che bello! Jamais je n’ai vu une telle fureur, ni un tel succès <...>» = «Невозможно представить себе, каким раскатом грома грянул весь зал; казалось, что театр рушится. Зрители в ложах, встав на ноги и высунувишись наружу, чтобы аплодировать, кричали во весь голос: прекрасно, прекрасно, о, как прекрасно! Никогда еще я не видел ни такого неистовства, ни такого успеха <...>» (Stendhal 1824, 409—410; ср. Бронфин 1973, 88)276.
В Одессе Батюшков также слушал оперу Валентино Фиораванти на либретто Джованни Паломбы (Palomba) — «Cantatrici villane» («Сельские
- 109 -
певицы», 1799), «которыхъ музыка прелестна»277. Он хвалил местный оперный театр («Театръ лучше Москов<скаго> и едва ли не лучше Петербургскаго»278), а двумя годами раньше в Каменце скучал: «Все играютъ трагедіи dans le grand style, рѣдко оперы»279. Через несколько лет после Батюшкова в Одессе пришлось жить А. Пушкину, который по приезде в этот город писал брату (25 августа 1823 г.): «<...> Ресторація и Италіанская Опера напомнили мнѣ старину и ей богу обновили мнѣ душу <...> я нигдѣ не бываю кромѣ въ Театрѣ» (Пушкин 1926, 53; Розанов 1928, 15; Biolato Mioni 1937, 252; Эйгес 1937, 151—152). Последним одесским впечатлением Пушкина было посещение (30 июля 1824 г.) оперы Россини «Il Turco in Italia» («Турок в Италии»), написанной в 1814 г. pendant знаменитой «Итальянке в Алжире» (Якубович 1941, 33—34). Об операх этого композитора поэт рассказывает в «Путешествии Онегина»:
Но ужъ темнѣетъ вечеръ синій,
Пора намъ въ Оперу скорѣй:
Тамъ упоительный Россини,
Европы баловенъ — Орфей <...>Финалъ гремитъ; пустѣетъ зала;
Шумя, торопится разъѣздъ;
Толпа на площадь побѣжала
При блескѣ фонарей и звѣздъ,
Сыны Авзоніи счастливой
Слегка поютъ мотивъ игривой,
Его невольно затвердивъ,
А мы ревемъ речитативъ(Пушкин 1837, 308—309; Эйгес 1937, 154—155). Нужно добавить, что «итальянская» атмосфера Одессы — не художественный вымысел Пушкина, а точная историческая подробность (Бродский 1932, 188; Пильщиков 1999б, 13). 12 июля 1818 г. Батюшков делился впечатлениями с А. И. Тургеневым и с Е. Ф. Муравьевой: «Одесса прїятный городъ <...> Здѣсь найдете всѣ Нацїи, и всего болѣе соотечественниковъ Тасса и Серакапрїола»280; «Одесса чудесный городъ <...> наводнен<ны>й Итальянцами. Итальянцы пилятъ камни и мостятъ улицы: такъ ихъ много»281.
Ясно, что театральный и музыкальный опыт Батюшкова не исчерпывался одесскими впечатлениями. Еще одно свидетельство тому́ — оперная цитата, которая находится в письме Гнедичу (март 1817 г.). Батюшков
- 110 -
жалуется на плохое самочувствие и печально иронизирует: «Осталось только попѣвать: Nel cuor più non mi sento...» (Ефремов 1883, кн. VII: 39; ср. Майков 1886, III: 422). Итальянская фраза может быть переведена двояко: «В сердце больше не чувствую...» или «Больше не чувствую, как в сердце...» — в зависимости от того, что следует далее: субстантив или инфинитив282. Чтобы понять, о чём идет речь, нужно мысленно закончить предложение: Nel c(u)or più non mi sento brillar la gioventù = Больше не чувствую, как в сердце искрится молодость. Это начало арии Ракелины из оперы Джованни Грегорио Катальдо Паизиелло (Paisiello или Paesiello) «Мельничиха» («La molinara» II, 2)283:
Nel cor piú non mi sento
Brillar la gioventú.
Cagion del mio tormento,
Amor ci colpi tu.
Mi stuzzichi, mi mastichi,
Mi pungichi, mi pizzichi,
Che cosa è questa oimè!
Pietà, pietà, pietà!
Amor è un certo che,
Che disperar mi fà!(= Больше не чувствую, как в сердце // Искрится молодость. // Причина моего страдания, // Любовь, ты нас поражаешь. // Ты меня дразнишь, ты меня кусаешь, // Ты меня жалишь, ты меня щиплешь, // Ну что же это такое, увы! // Как жаль, как жаль, как жаль! // Любовь — вот это кое-что, // Что приводит меня в отчаяние!) Впервые опера Паизьелло на либретто Дж. Паломбы была поставлена в 1788 г. под названием «L’amor contrastato» [премьера в Петербурге состоялась в 1795 г. (Mooser 1945, 8)]. Имелись и русские версии — на либретто в переводе Н. С. Краснопольского (1812) и А. Ф. Мерзлякова [1816 (Стасов 1898, 24; Loewenberg 1955, col. 460)]. Ария Ракелины принадлежала к числу самых известных у Паизьелло (Mondolfi 1962, 646); в 1795—1799 гг. вариации на нее написал Бетховен [«Mich fliehen alle Freuden...» (WoO, 70)]. В России с конца XVIII и вплоть до второй половины XIX в. на мотив арии Ракелины исполняли арию «На толь, чтобы печали...» (Гардзонио 1996, 229—230). Нужно заметить, что выбор авторов, которым отдавал предпочтение Батюшков, полностью согласуется с тогдашней модой: в России первой трети XIX в. Паизьелло, Фиораванти и Россини
- 111 -
были самыми популярными итальянскими оперными композиторами [Seaman 1994, 146; Гардзонио 1996, 226—229; Додолев 2000, 166, 171—173; ср. Ливанова 1960, № 660, 968, 987, 1105, 1295 (Паизьелло); 709—753 (Россини); 901, 914, 921, 991, 995, 1141 (Фиораванти)].
В одесском письме к А. И. Тургеневу от 12 июля 1818 г. содержится еще одна итальянская цитата; к сожалению, какова природа ее — «поэтическая» или «музыкально-поэтическая», — выяснить не удалось: «Но жара здѣсь, говорятъ, несносная отъ полудни до самаго вечера. Я не могу пожаловаться, и часто, какъ Горацїй, гуляю по солнцу284, особенно люблю sulla placida marina la fresc’aura a respirar <= на спокойном побережье свежим воздухом дышать>»285. Итальянское выражение взято из кантаты Метастазио «La Pesca» («Рыбалка»):
Già la notte s’avvicina:
vieni, o Nice, amato bene,
della placida marina
le fresch’ aure a respirar.
Non sa dir che sia diletto
chi non posa in queste arene,
or che un lento zefiretto
dolcemente increspa il mar[= Уже приближается ночь; // Приди, о Ниче, мое любимое сокровище, // Спокойного побережья // Свежим воздухом дышать. // Не может сказать, что такое наслаждение, // Кто не отдыхает на этих песках // В час, когда ленивый ветерок // Ласково покрывает рябью море (Brunelli 1965, II: 716; Пильщиков 2002б, 294)]. В обширном наследии Метастазио эта кантата занимает далеко не последнее место. На слова «Già la notte s’avvicina...» музыку писали Иоганн Кристиан Бах («Sei canzonette a due», op. 4), Доменико Чимароза («Canzoncine per voce e strumenti a tastiera», № 7), Бетховен (WoO, 99, № 4), а позже — Россини, включивший «ноктюрн на два голоса» «La Pesca» в свой сборник ариетт и дуэтов «Музыкальные вечера» («Les Soirées musicales», 1835)286. Творчеством Метастазио Батюшков живо интересовался еще в 1810—1811 гг. (см. наст. изд., c. 80—83), и не исключено, что цитату из «Рыбалки» он неточно помнил еще с тех времен.
6. 19 ноября 1818 г. Батюшков, получив назначение в дипломатическую службу, выехал из Петербурга в Неаполь; путь лежал через Венецию
- 112 -
и Рим287. В феврале 1819 г. он отправил из Рима свои первые пи́сьма — А. И. Тургеневу (не сохранилось) и А. Н. Оленину: «Не требуйте отъ меня описанїя моего путешествїя, еще менѣе описанїя Рима. Около двухъ недѣль какъ я здѣсь<,> почтеннѣйшїй Алексѣй Николаевичь; но насилу могу собраться написать къ вамъ нѣсколько строкъ. Сперва бродилъ какъ угорѣлой: спѣшилъ все увидѣть, все проглотить, ибо, полагалъ что пробуду [нѣсколько] не много дней. Но, лихорадкѣ угодно-было остановить меня, и я остался, еще на недѣлю»288. Италия предстала перед Батюшковым «живой историей», музеем под открытым небом (ср. Фридман 1971, 238): «Скажу только, что одна прогулка въ Римѣ, одинъ взглядъ на Форумъ (въ который я по уши влюбился) заплатятъ съ избытковъ <sic!> за всѣ безпокойства долгаго пути. Я всегда чувствовалъ мое невѣжество, всегда имѣлъ внутреннее сознанїе моихъ малыхъ способностей, дурнаго воспитанїя, слабыхъ познанїй: но здѣсь ужаснулся. Одинъ Римъ можетъ вылечить на вѣки отъ суетности самолюбїя. Римъ книга; кто прочитаетъ ее! Римъ похожъ на сїи героглифы <sic!> которыми исписаны его обелиски. Можно угадать нѣчто; всего не прочитаешь»; «<...> здѣсь Колисей, который мнѣ и во снѣ снится. Это лучшїй коментарїй <sic!> на Римскую исторїю»289. Условный образ Вечного города, выкристаллизовавшийся в неолатинской, итальянской, французской и русской поэзии (см. Rehm 1960; Mortier 1974; Potthoff 1978; Автухович 2001), оживает в письмах Батюшкова как высшая реальность, переживаемая эстетически: «<...> не спрашивай у меня описанія Италіи. Это библіотека, музей древностей, земля, исполненная протекшаго, земля удивительная, загадка непонятная. Никакой писатель <...> не объяснитъ впечатлѣній Рима. Чудесный, единственный городъ въ мірѣ, онъ есть кладбище вселенной» [Н. И. Гнедичу, май 1819 г. (Ефремов 1883, кн. VIII: 245; Майков 1886, III: 553)].
Обыденной, бытовой Италии Батюшков поначалу не видел, вернее, не хотел видеть. Неаполь показался ему слишком скучным: этот город, писал он А. И. Тургеневу (24 марта 1819 г.) «длиненъ и неопрятенъ». «О Неаполѣ говоритъ Тассъ, въ письмѣ къ какому-то Кардиналу, что Неаполь ничего, кромѣ любезнаго и веселаго, не производитъ290. Не всегда весело!» (Батюшков 1827б, 112, 115)291. Зато окрестности — Везувий, Помпея, Кумы, Байя — вызывают у поэта прежний восторг: «<...> два раза лазилъ на Везувій и всѣ камни знаю наизусть въ Помпеи. Чудесное, неизъяснимое зрѣлище, краснорѣчивый прахъ!» [Н. И. Гнедичу, май
- 113 -
1819 г. (Ефремов 1883, кн. VIII: 245; Майков 1886, III: 553)]292. «Четыре недѣли сряду посвятилъ на обозрѣніе окрестностей Неаполя, любопытныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, единственныхъ, несравненныхъ. Четыре раза былъ въ Помпеѣ и два раза на Везувіѣ: два мѣста, которыя заслуживаютъ вниманія самаго нелюбопытнаго человѣка <...> это живой комментарій на исторію и на поэтовъ римскихъ. Каждый шагъ открываетъ вамъ что-нибудь новое или повѣряетъ старое: я, какъ невѣжда, но полный чувствъ, наслаждаюсь зрѣлищемъ сего кладбища цѣлаго города <...> Кругомъ виды живописные, море и повсюду воспоминанія; здѣсь можно читать Плинія, Тацита и Виргилія и ощупью повѣрять музу исторіи и поэзіи» [Н. М. Карамзину, 24 мая 1819 г. (Майков 1886, III: 556)]. «Какая земля! Вѣрьте, она выше всѣхъ описаній, для того, кто любитъ Исторію, Природу и Поэзію; для того даже кто жаденъ къ грубымъ, чувственнымъ наслажденіямъ, земля сія — рай земной» [С. С. Уварову, май 1819 (Батюшков 1827а, 37); Varese 1970, 17; Pil’ščikov 1995a, 130—131]. В этих отзывах проявилось характерное отношение Батюшкова к «землѣ классической»: Италию он живописует в тех же выражениях, что и «древнюю Ольвїю» в письмах 1818 г.293
Итальянские пи́сьма Батюшкова обнаруживают несомненное сходство с его прозаическими произведениями периода заграничного похода против Наполеона. С 1814 г. Батюшкова всё больше привлекает проза: критические эссе и путевые очерки. В его творчестве оба жанра сохраняют тесную связь с дружеским письмом. Связь эта отмечалась самим Батюшковым: так, очерк «Путешествие в замок Сирей» (датированный 26 февраля 1814 г.) снабжен подзаголовком «Письмо изъ Франціи къ Г<осподину> Д<ашкову>», а очерк «Прогулка в Академию Художеств» (1814) имеет подзаголовок «Письмо <...> къ пріятелю <...>» (ср. Благой 1934, 42; Varese 1970, 41; Пильщиков 1999г, 19—20; Кузичева 2001, 35—36). В свою очередь, многие пи́сьма этого времени носят открыто литературный характер — таковы письмо Дашкову из Парижа от 25 апреля 1814 г. и письмо Северину из Готенбурга от 19 июня 1814 г., подготовленное к печати самим автором294. Художественно-критическая проза Батюшкова «вырастает» из эпистолярного жанра и в 1819 г. к нему же возвращается. Пи́сьма Уварову от мая 1819 г. и Жуковскому от 1 августа 1819 г. были напечатаны в «Памятнике Отечественных Муз» на 1827 год вместе с парижским письмом к Дашкову (Батюшков 1827а, 36—46): художественное единство писем-очерков 1814 и 1819 гг. у ближайшего окружения
- 114 -
Батюшкова сомнений не вызывало. При этом итальянские пи́сьма, безусловно, воспринимались адресатами как «литературные» (Семевский 1887, 544; Фридман 1965, 145—146). 6 мая 1819 г. А. И. Тургенев рассказывал И. И. Дмитриеву: «<...> я получилъ недавно прелестное письмо отъ нашего Батюшкова изъ Неаполя <...> Наблюденія и замѣчанія его описаны въ прекрасномъ слогѣ. Онъ точно имѣетъ умъ наблюдательный, который возвышается его воображеніемъ» (Тургенев 1867, стб. 649; разрядка моя. — И. П.). На следующий день (7 мая) Тургенев писал Вяземскому: «Кстати объ Италіи: на дняхъ получилъ отъ Батюшкова письмо изъ Неаполя, прелестное по описанію и слогу» (ОА, I: 229; разрядка моя. — И. П.). Неаполитанское письмо к Тургеневу (24 марта 1819 г.) было опубликовано всё в том же «Памятнике Отечественных Муз» (см. Батюшков 1827б, 111—116). Рецензируя этот альманах, О. Сомов благодарил «Г. Собирателя за то, что онъ сохранилъ для потомства нѣкоторыя изъ твореній прежнихъ писателей, истинно заслуживающія вниманія», и в числе таких творений называл пи́сьма Батюшкова (Сомов 1827, 30).
Перед отъездом в Италию Батюшков писал Тургеневу (10 сентября 1818 г.): «Я знаю Италїю не побывавъ въ ней»295. Неудивительно, что картина «прекрасной Авзонии», созданная им в письмах на родину, в целом соответствует тому́ образу Италии, который сложился в русской культуре конца XVIII — начала XIX в. (ср. Lo Gatto 1931, 158 далее; Топоров 1990; Крюкова 2002, 52 и далее). 5 марта 1819 г. Тургенев сообщал Вяземскому: «Я получилъ отъ Батюшкова письмо изъ Рима. Онъ счастливъ Италіей и горюетъ по Россіи, смотря на карту ея» (ОА, I: 199). Подробностей Тургенев пересказывать не стал, но и по одной этой фразе Вяземский понял, о чём мог говорить его далекий друг: «Счастливецъ Батюшковъ! Мнѣ точно брюхомъ захотѣлось итальянскаго солнца. Вижу отсюда, какъ тамъ свѣтло <...> Тамъ такъ должно быть хорошо, что можно и счастья обойтись. Знаешь, бываютъ такія минуты, что <...> забываешься; ни сердцемъ, ни умомъ ничего не осязаешь, а только просто блаженствуешь! Вотъ, мнѣ кажется, каково должно быть бытіе въ Италіи. Такъ живутъ на небесахъ; такъ живетъ Василій Львовичъ, когда пишетъ стихи» (ОА, I: 202—203). Вяземский, конечно, иронизирует, но ироничен у него только «модус» изложения, а не само отношение к предмету. Сомнения в аутентичности традиционного образа Италии придут позже, и полвека спустя на вопрос, которым задавались
- 115 -
герои батюшковского очерка «Прогулка в Академию Художеств»: «нуженъ» ли «непремѣнно воздухъ Римскій для Артиста, для любителя древностей» (Батюшков 1817а, ч. I: 149; Pil’ščikov 1995a, 129), — Репин ответит: «Но что Вам сказать о пресловутом Риме? Ведь он мне совсем не нравится: отживший, мертвый город <...> а о рае-то земном, как его прославляли некоторые, и помину нету <...> Я чувствую, во мне происходит реакция против симпатий моих предков: как они презирали Россию и любили Италию, так мне противна теперь Италия, с ее условной до рвоты красотой» (Репин, Стасов 1948, 60—61; Андреев 1998, 320—321).
- 116 -
Глава пятая
«АРИОСТ И ТАСС», «ПЕТРАРКА»,
«ПАНТЕОН ИТАЛЬЯНСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»
(1815—1817)1. Вторую половину 1815 г. Батюшков провел на службе в Каменце-Подольском в Бессарабии [см. Майков 1887а, 194—208 (1-й пагинации); Кошелев 1987, 220—232]. 11 августа 1815 г. он писал Гнедичу: «Я по горло въ италіанскомъ языкѣ» (Ефремов 1883, кн. VII: 25; ср. Майков 1886, III: 339). Тогда же, в августе, он сообщал Жуковскому: «Теперь я по горло въ прозѣ», — а в декабре обязывался выдать в свет плоды своего вынужденного уединения: «Ахиллъ пришлетъ вамъ свои маранья въ прозѣ, для изданія, изъ Москвы. Вотъ имъ реестръ <...>». Под 2-м номером в реестре значатся «Итал. стихотворцы: Аріостъ, Тассъ и Петрарка» (Бартенев 1875, 354, 357). Очерки «Ариост и Тасс» и «Петрарка», объединенные общим (?) заглавием «Италиянские стихотворцы», появились в мартовском и апрельском выпусках «Вестника Европы» за 1816 г. «Это все было намарано мною здѣсь отъ скуки, безъ книгъ и пособій, — извинялся Батюшков; — но, можетъ быть, отъ того и мысли покажутся вамъ свѣжѣе» (Бартенев 1875, 357). Он, конечно, лукавил: из текста статей ясно, что в его распоряжении были сочинения Петрарки и Тассо (Горохова 1975, 248) и «Литературная история Италии» («Histoire littéraire d’Italie») П.-Л. Женгене (Майков 1885: II, 451). Это была первая история итальянской словесности, написанная компетентным специалистом для широкой публики — «aux gens du monde» (Ginguené 1811, I: 5; Grossi 1998, 47—49; ср. Régaldo 1973), и неудивительно, что именно по ней читатели 1810—1820-х годов знакомились с биографией и творчеством Данте, Петрарки, Боккаччо, Ариосто и Тассо.
- 117 -
В отличие от «Петрарки», статья «Ариост и Тасс» в основном не зависит от влияния Женгене. Нужно добавить, что в обоих очерках нет никаких следов воздействия книги Симонда де Сисмонди́ «De la littérature du midi de l’Europe» (Пильщиков 2000а, 14—16). Тем не менее категорическое утверждение И. З. Сермана, что «в своих итальянских симпатиях Батюшков был независим от западных образцов» (1939, 250), не выдерживает критики. Однако сочинения, на которые Батюшков ориентировался в своих оценках и симпатиях, до сих пор в научной литературе не были установлены. Точка зрения комментатора «Опытов», согласно которой тремя основными источниками «Ариоста и Тасса» якобы стали работы Женгене и Сисмонди, а также статья «А» из «Dictionnaire philosophique» Вольтера (Семенко 1977, 524), нуждается в корректировке: двумя из этих «трех источников» Батюшков не воспользовался. Нет также оснований считать, что его статья «Петрарка» была написана под влиянием немецких романтиков — Августа Шлегеля и Тика (Полуяхтова 1984, 9; Гиривенко 2002, 142—143). Мнение о том, будто с романтиками Батюшкова сближает интерес к «Неистовому Роланду» (Верховский 1941, 404; Семенко 1977, 471; и др.), тоже несостоятельно: высказывания Батюшкова об Ариосто находятся в непосредственной зависимости от Вольтера и eo ipso нимало не противоречат эстетическим нормам французского классицизма (Пильщиков 1994, 227—228; 2002б, 289—290). Таким образом, вопрос о генезисе батюшковских статей 1815 г. и их месте в истории эстетической мысли требует кардинального пересмотра.
«Ариост и Тасс» открываются пространной характеристикой автора «Orlando furioso», о котором Батюшков писал, что «поема его заключаетъ въ себѣ все видимое творенїе, и всѣ страсти человѣческїя; ето Илїада и Одиссея <...>» (Батюшков 1816а, 110). То же самое говорил о «Роланде» Вольтер в «Философском словаре» (статья «Эпопея. Героическая поэма», раздел «Об Ариосте»): «C’est à la fois l’Iliade, l’Odyssée, & dom Quichotte» = «Это одновременно „Илиада“, „Одиссея“ и „Дон Кихот“» (Voltaire 1785, XL: 49; Carducci 1898, 143—147; Bouvy 1898, 107, 113; Plate 1917, 55—57). На статью «Épopée» указывал в данной связи еще Майков (1885, II: 459); именно к ней, а вовсе не к первой статье «Философского словаря», озаглавленной «А» (Семенко 1977, 524; ср. Горохова 1975, 250 примеч. 49), восходят представления Батюшкова об Ариосто. Подтверждение мыслям Вольтера Батюшков нашел у Женгене («Histoire littéraire d’Italie», ч. II, гл. VII и IX): «Son <de l’Arioste> génie
- 118 -
embrasse <...> tout ce qui est dans la nature des choses <...>»; «La nature entière est à la disposition du poète romancier <...>» = «Ум Ариоста обнимает <...> всё, что есть в природе вещей <...>»; «Вся природа в распоряжении романического поэта <...>» (Ginguené 1812, IV: 404, 517; Zini 1930b, 4). Эти формулировки близки к батюшковским: «Арїостъ <...> описываетъ вѣрно все, что ни видитъ (а взоръ сего чудеснаго Протея обнимаетъ все мїрозданїе) <...>»; «<...> ибо (еще повторю) поема его заключаетъ въ себѣ все видимое творенїе <...> однимъ словомъ: природа, порабощенная жезлу волшебника Арїоста» (Батюшков 1816а, 108, 110). Здесь же Батюшков пишет: «Онъ <Арїостъ> разсказываетъ, и разсказъ его имѣетъ живость необыкновенную <...> Онъ шутитъ, и шутки его, легкїя, веселыя, игривыя и часто незлобныя, растворены Аттическимъ остроумїемъ» (1816а, 108—109). О веселых шутках Ариоста и его аттическом остроумии («cet atticisme, cette bonne plaisanterie») Батюшков прочел у Вольтера (Voltaire 1785, XL: 52), о живости Ариостовых рассказов («la beauté de ses récits, la vivacité de ses peintures») — опять-таки у Женгене (Ginguené 1812, IV: 476)296.
В очерке «Ариост и Тасс» Батюшков выводит основополагающие характеристики итальянской классики из особенностей национального языка (ср. Varese 1970, 91). Об Ариосто он говорит: «<...> вы удивляетесь Поету и въ сладостномъ восторгѣ восклицаете: какой умъ! какое дарованїе! а я прибавлю: какой языкъ!» «Такъ, одинъ языкъ Италїянской (изъ новѣйшихъ разумѣется) столь обильной, столь живой и гибкой, столь свободной въ словосочинен<ї>и, въ выговорѣ, въ ходѣ своемъ, одинъ онъ въ состоянїи былъ выражать всѣ игривыя мечты и вымыслы Арїоста» (Батюшков 1816а, 109). В этой связи особый интерес представляет суждение Батюшкова об октаве «Chiama gli abitator...»: «Но счастливому языку Италїи <...> упрекаютъ въ излишней изнѣженности. Етотъ упрекъ совершенно несправедливъ, и доказываетъ одно невѣжество; знатоки могутъ указать на множество мѣстъ въ Тассѣ, въ Арїостѣ, въ самомъ нѣжномъ поетѣ Валлакїузскомъ, и въ другихъ писателяхъ <...> множество стиховъ, въ которыхъ сильныя и величественныя мысли выражены въ звукахъ сильныхъ и совершенно сообразныхъ съ оными <...> Не одно chiama gli abitator н<а>йдете въ Тассѣ; множество другихъ мѣстъ доказываютъ силу поета и языка» (Батюшков 1816а, 111).
О звуковом богатстве прославленной октавы писали виднейшие критики. В своем «Письме о французской музыке» («Lettre sur la musique
- 119 -
françoise», 1753) Ж.-Ж. Руссо выдвинул тезис об особой гармонии (l’harmonie), позволяющей итальянскому языку выражать всё разнообразие тонов — «от сладостного до сильного (la distance qu’il y a du doux au fort)». Тем, «кто считает итальянский лишь языком сладости и нежности (le langage de la douceur et de la tendresse)», Руссо предлагал прислушаться к аллитерациям на r, создающим ощущение «суровости» («dureté») в III строфе IV песни Тассова «Иерусалима» — «Chiama gli abitator...» (Rousseau 1792, 358—360)297. Пример из «Письма» Руссо повторил Скоппа («Traité de la poésie italienne», гл. IV, §§ 260—261) — с той оговоркой, что речь, как полагал Скоппа, должна идти не о свойствах конкретного языка, а о звукописи как о форме поэтического «подражания природе (imitation de la nature)» (Scoppa 1803, 246—248)298. Женгене в «Истории итальянской литературы» констатировал, что октаву «Chiama gli abitator...» справедливо считают «образцом (звуко)подражательной гармонии (un chef d’œuvre d’harmonie imitative)», и подчеркнул роль, которую играет в создании ономатопоэтического эффекта «глухое и одновременно грохочущее звучание слов la tartarea tromba», подхватываемое рифменной цепочкой tromba : rimbomba : piomba (Ginguené 1811, III: 523—524; 1812, V: 408—409)299. Учитывая текстуальную близость в изложении аргументов у Батюшкова и Руссо, можно предположить, что русский критик знал «Письмо о музыке» не только по пересказу Скоппы. А знакомство Батюшкова с соответствующей частью «Трактата» Скоппы зафиксировано документально. Окончание IV главы «Трактата» (§§ 262—263) посвящено имитативности (les vers et les mots imitatifs) в ее отношении к живописности изображения (descriptions pittoresques). За исключением одной цитаты из Ариосто и одной из Петрарки, все примеры взяты из «Освобожденного Иерусалима» (см. Scoppa 1803, 248—255); в батюшковском экземпляре «Трактата» на этих страницах имеются пометы (Янушкевич 1990, 15). Строфы Ger. lib. XX, l—lii, особо выделенные Скоппой (Scoppa 1803, 250—252 n. 1), Батюшков приводит в своей статье: «Въ сихъ трехъ октавахъ безсмертный Тассъ превзошелъ себя» (1816а, 115 примеч. *, ср. 114—116; Пильщиков 1997, 37—38, 54 примеч. 92).
Октаву «Chiama gli abitator...» Руссо сопоставляет с октавой «Teneri sdegni, e placide e tranquille...» (Ger. lib. XVI, xxv), которую отличает «нежная гармония» («la douce harmonie»), контрастирующая с «суровостью» III октавы IV песни (Rousseau 1792, 359—360; ср. Scoppa 1803, 247). Так же рассуждает Батюшков: «Самый языкъ его <Тасса> измѣняется»;
- 120 -
в эротических эпизодах «онъ сладостенъ, нѣженъ, изобиленъ», в героических — «мужественъ, величественъ и даже суровъ» (1816а, 120). Надо думать, что речь в этом пассаже идет не только об «изменении стиля в соответствии с предметом повествования» (Эткинд 1973, 151, ср. 152), но также о гибкости итальянского языка, который «сдѣлался способнымъ принимать всѣ виды и всѣ формы» (Батюшков 1816а, 107; Пильщиков 2002б, 279—280). В таком взгляде на вещи Батюшков мог найти поддержку не только у Руссо, но и у Вольтера, писавшего о языке и стиле Тассо в VII главе «Опыта об эпической поэзии»: «Son <du Tasse> style est presque par-tout claire & élégant; & lorsque son sujet demande de l’élévation, on est étonné comment la molesse de la langue italienne prend un nouveau caractère sous ses mains, & se change en majesté & en force» (Voltaire 1785, X: 385). Остолопов перевел это место так: «Слогъ его <Тасса> почти повсюду ясенъ и краснорѣчивъ, и когда предмѣтъ <sic!> требуетъ важности, то удивительно, какимъ образомъ мягкость языка Италїанскаго принимаетъ у него особое свойство и премѣняется въ высокость и твердость» (1802, 89). Слова́ en majesté & en force точнее было бы перевести как величественность и силу [ср. у Батюшкова: «сильныя и величественныя мысли»; «<...> въ звукахъ сильныхъ»; «<...> силу поета и языка» (1816а, 111)].
Не подлежит сомнению тот факт, что Батюшкову были известны замечания Женгене, не нашедшие непосредственного отражения в «Ариосте и Тассе». На своем экземпляре «Gerusalemme liberata» возле октавы «Chiama gli abitator...» Батюшков записывает: «C’est ainsi que les grands g<é>nies savent manier leur langue!» = «Вот как великие умы (= гении) умеют обращаться с языком своим!» К стиху E l’aer cieco a quel romor rimbomba сделана сноска: «Cet endroit si fameux, doit avoir <é>té immité <sic!> du Dante, pour l’harmonie immitative» = «Это столь знаменитое место, должно быть, сымитировано у Данте, судя по (звуко)подражательной гармонии». Далее (с указанием: «Inf. C. VI.») процитированы стихи 94—99 из VI песни «Inferno», связанные рифмой tromba : tomba : rimbomba300. Батюшковские маргиналии были напечатаны Н. А. Бессоновым в издании Майкова, однако интересующее нас место публикатор прочел и перевел неверно: «pour l’harmonie inimmitative <sic! контаминация imitative и inimitable. — И. П.>» = «ради неподражаемой его гармоніи» (Бессонов 1885, 462). Поэтому Майков, обративший внимание на «замѣчаніе о звукоподражательности въ III-й строфѣ IV-й пѣсни „Gerusalemme
- 121 -
liberata“», «сдѣланное Женгене» (1885, II: 565), не смог подкрепить свое многообещающее наблюдение убедительными сопоставлениями положений «Histoire littéraire» с батюшковскими текстами301. Следуя Женгене, Батюшков употребляет термин «harmonie imitative» и применяет его к фонике рифм. Параллель из «Inferno» Батюшков подыскал самостоятельно; Женгене указывает только ближайший прецедент — тройчатку piomba : rimbomba : [la tartarea] tromba у Анджело Полициано [«Stanze per la Giostra» I, xxviii (Ginguené 1811, III: 524)]. При всём том само понятие «harmonie imitative» впервые вводится в «Histoire littéraire» (ч. I, гл. VIII, раздел II) именно в связи с Данте. В пространном примечании о заключительном стихе V песни «Inferno» (E caddi, come corpo morto cadde = И я упал, как падает мертвое тело) Женгене пишет: «Ce soin de l’harmonie imitative qui manque dans presque toutes les traductions de vers en prose, donnerait beaucoup de peine au traducteur, et il faut l’avouer, ne serait apprécié que par un petit nombre de lecteurs; mais c’est ce petit nombre qu’il faut toujours s’efforcer de satisfaire» = «Эта забота о звукоподражательной гармонии, пропадающей почти во всех прозаических переложениях стихов, доставляет немало хлопот переводчику, и следует признаться, что ее могут оценить лишь немногие читатели; однако именно этим немногим и сто́ит стараться угодить» [Ginguené 1811, II: 51 n. 1 (ad p. 50)]302.
После Майкова генезисом батюшковского очерка занялся И. З. Серман, чьи выводы во многом предопределили нынешний исследовательский консенсус: «Батюшков в статье „Ариост и Тасс“ возражает <...> Сталь и Сисмонди» (Серман 1939, 251). Наблюдения Сермана были изложены как свои собственные в статье Р. М. Гороховой, где и получили окончательное концептуальное оформление: Батюшков «прямо полемизирует» «с бытовавшим <...> в начале XIX в., особенно во Франции, взглядом на <итальянский> <...> как на язык чрезмерно мелодичный <...> Эти взгляды нашли свое отчетливое выражение в трудах <...> Ж. де Сталь и, отчасти — у Сисмонди» (Горохова 1975, 250). Среди отзывов об октаве «Chiama gli abitator...» мнение мадам де Сталь стои́т особняком. Она утверждала, что не найдется такого читателя, которого строки Тассо «не привели бы в восхищение (admiration). Однако если вдуматься в смысл слов, то в них нет ничего величественного (rien de sublime)»: итальянский язык слишком мелодичен («une langue d’une mélodie si extraordinaire») и не способен выражать «мысли» («les idées») (Staël-Holstein 1800, 200—201;
- 122 -
Cordié 1977a, 41—43). Вполне вероятно, что повторяя доводы Руссо в защиту итальянского языка, Батюшков метил и в «славную сочинительницу Корины и Дельфины», которая «дурна какъ чортъ и умна какъ ангелъ»303, но об открытой полемике говорить не приходится. Вряд ли начинающий эссеист всерьез намеревался уверить публику, что суждения известной писательницы, пусть даже и ошибочные, доказывают «одно невѣжество». Впрочем, в своей позднейшей монографии Серман предложил более осторожную формулировку: «Батюшков пишет как будто в ответ (as if in answer to) мадам де Сталь» (Serman 1974, 29; ср. Семенко 1977, 524; Scholz 1984, 516; Строганов 1999, 92—93). Что касается Сисмонди, то его имя встало рядом с именем де Сталь по чистому недоразумению (недаром из сермановской монографии 1974 г. ссылка на Сисмонди была исключена). В статье 1939 г. исследователь дал выписку из II то́ма «De la littérature du midi de l’Europe» в собственном переводе: «Эта строфа <„Chiama gli abitator...“> знаменита своей неподражаемой гармонией, более чем красотою образов» (Серман 1939, 251). Из-за погрешностей в переводе (см. ниже) можно подумать, что Сисмонди был солидарен с мадам де Сталь, однако открыв нужную страницу оригинала, мы обнаружим, что в действительности автор «De la littérature du midi...» резюмировал диаметрально противоположные по смыслу тезисы Женгене: «Cette strophe est célèbre par l’harmonie imitative, autant que par la beauté des images» = «Эта строфа так же знаменита своей звукоподражательной гармонией, как и красотою образов» (Sismondi 1813, II: 114 n. 1).
2. В статье «Петрарка» Батюшков возвращается к своим размышлениям начала 1810-х годов, и в частности к наблюдению о зависимости Тассо от Петрарки: «Я сдѣлалъ открытіе въ Италіянской словесности, къ которому меня не< >руководствовали иностранные писатели, по крайней мѣрѣ тѣ, кои мнѣ болѣе извѣстны. Я нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Петрарки въ Освобожденномъ Іерусалимѣ. Такого рода похищенія доказываютъ уваженіе и любовь Тасса къ Петраркѣ. Мудрено ли? Петрарка былъ его предшественникомъ <...>» (1816б, 189—190 примеч. *). Из тетради «Разные замечания» Батюшков переносит полюбившийся ему пример (ср. наст. изд., с. 70): «Кто не знаетъ прелестной Оды: Chiare, fresche e dolci acque <...> и неподражаемаго Епизода Ерминіи въ 7й пѣсни Осв<обожденнаго> Іерус<алима>? Нѣтъ сомнѣнія, что Тассъ имѣлъ въ памяти стихи Петрарки, которые можно назвать сокровищемъ Италіянской
- 123 -
Поезіи. Любовникъ Лауры обращается къ Тріадѣ, источнику окрестностей Авиньона <...> На благовонныхъ берегахъ его <...> онъ желаетъ, чтобы покоились его остатки. Можетъ быть, говоритъ онъ, можетъ быть тамъ, гдѣ она увидѣла меня въ благословенный день перваго свиданія, тамъ любопытный взоръ ея будетъ меня искать снова, и увы! прахъ одинъ найдетъ, прахъ между камней разсѣянный, и пр. <...> Но перейдемъ къ Тассу. — У него Ерминія <...> начертываетъ имя Танкреда на корѣ древнихъ дубовъ и вязовъ <...> и проливая слезы, обращается къ рощамъ, нѣмымъ свидѣтелямъ ея тоски: „Сокройте, сокройте въ себѣ мою тайну, дружественныя рощи! Можетъ быть вѣрный любовникъ, когда нибудь привлеченный прохладою тѣней вашихъ, съ сожалѣніемъ прочитаетъ мои печальныя приключенія, и тронутый до глубины сердца, скажетъ: счастіе и любовь неблагодарностію воздали за толикія страданія и за примѣрную вѣрность! Можетъ быть — если небо внимаетъ благосклонно усерднѣйшимъ моленіямъ смертныхъ — можетъ быть въ сіи пустыни зайдетъ случайно и тотъ, который ко мнѣ столько равнодушенъ, и обращая взоры на то мѣсто, гдѣ будутъ покоиться мои бренные остатки, позднія слезы прольетъ въ награду за мои страданія и вѣрность“» (Батюшков 1816б, с. 190—191 примеч. * [к с. 189]; Пильщиков 2000а, 10—12).
Как и в ранних записях, в очерке 1815 г. заходит речь о Петрарке и Тибулле304. Однако если в 1810 г., говоря об отношении этих поэтов к любви и смерти, Батюшков отмечал между ними сходство, то сейчас он предпочитает отыскивать различия: «Тибуллъ <...> любилъ напоминать о смерти своей Деліи и Немезидѣ <...> Но послѣ смерти всему конецъ для Поета; самый Елизій не есть вѣрное жилище. Каждый Поетъ передѣлывалъ его по своему и переносилъ туда грубыя, земныя наслажденія305. Петрарка напротивъ того: онъ надѣется увидѣть Лауру въ лонѣ божества, посреди Ангеловъ и Святыхъ <...>» (1816б, 174). Лирика Петрарки по своему характеру противоположна эротической поэзии древних (Анакреона, Проперция, Тибулла и др.): «Петрарка, подобно имъ, испыталъ всѣ мученія любви <...> но наслажденія его были духовныя. Для него Лаура была нѣчто невещественное, чистѣйшій духъ, излившійся изъ нѣдръ божества и облеченный природою въ прелести земныя» (Батюшков 1816б, 173; Contieri 1959, 176—177; Титаренко 1985, 85; Вацуро 1994, 106, 197). Всё это было близко самому́ Батюшкову, который признавался: «Я вѣрю одной вздыхательной <любви>, петраркизму, т. е. живущей въ душѣ поэтовъ, и болѣе никакой»306.
- 124 -
По стихам из «каменецкого цикла» 1815 г. можно догадаться, что Батюшков проводил параллели между своим неразделенным чувством к Анне Фурман и неутоленной страстью Петрарки к Лауре (Некрасов 1911, 205—210; Семенко 1977, 542; Зубков 1987, 295; 1999б, 99, 104; Вацуро 1985, 77—79; 1994, 198—199; Проскурин 1996, 96). В рукописной тетради, принадлежавшей Жуковскому, три элегии Батюшкова снабжены эпиграфами из Петрарки. Эпиграфом к «Тавриде» служит 8-й стих из сонета «Or che ’l ciel e la terra e ’l vento tace...»: Е sol di lei pensando ho qualche расе (= Только думая о ней, я обретаю какой-то покой)307. «Пробуждению» предпослана 9-я строка из сонета «Il cantar novo e ’l pianger delli augelli...»: Cosi mi sveglio а salutar l’Aurora (= Так пробуждаюсь я, чтобы приветствовать зарю)308. Стро́ки Spirto beato<,> quale // Se’ quando altrui fai tale? (= Блаженный дух, каков // Ты есть, когда другого делаешь таким же?), вынесенные в эпиграф к элегии «Мой Гений»309, взяты из канцоны Петрарки «Se ’l pensier che mi strugge...» (стихи 77—78), которая во всех изданиях предшествует канцоне «Chiare, fresche e dolci acque...» (Пильщиков 2000а, 12 примеч. 13). Более того, Батюшков отдает Петрарке психологическое предпочтение перед Тибуллом, с которым раньше был склонен себя отождествлять. Смена привязанностей произошла чуть ли не в мгновение ока. Ведь еще 25 апреля 1814 г. Батюшков писал Дашкову из Парижа: «<...> я, вашъ маленькій Тибуллъ, или проще — Капитанъ Русской службы, что въ нынѣшнее время важнѣе нежели бывшій Кавалеръ или всадникъ Римскій <...>» (Батюшков 1827а, 29; ср. Бартенев 1867, № 11: стб. 1459). И даже в письме к Вяземскому от января 1815 г. (в момент окончательного разрыва с Фурман) у поэта проскальзывает, казалось бы, неожиданная ассоциация с эротическим опытом Тибулла: «О Москвѣ я и думать не могу. Ни когда такъ головой<,> умомъ, сердцемъ и карманомъ не былъ разстроенъ. Бѣдный Тибуллъ! — Какіе стихи тебѣ надобно? <...> Что въ нихъ? Какую пользу принесли они?»310
Противопоставление Петрарки античным поэтам в очерке 1815 г. восходит к Женгене («Histoire littéraire d’Italie», ч. I, гл. XIV; Zini 1930a, 238—239; Picchio 1986, 243). Отсюда же (гл. XII, разделы I—II) Батюшков почерпнул сведения о политической и научной деятельности Петрарки, о неаполитанском короле Роберте, о заметке Петрарки «на заглавномъ листѣ Виргилія» и др. (см. Ginguené 1811, II: 336 и далее, 357—360, 440—443, 487 и далее; ср. Майков 1885, II: 467; Пильщиков
- 125 -
1997, 54 примеч. 88; 2000а, 13). Недаром в письме к Вяземскому (4 марта 1817 г.) Батюшков признавался: «<...> Жингене умеръ, пишутъ въ Газетахъ. <В>ѣришь ли? ето меня очень опечалило. Я ему много обязанъ, и на томъ свѣтѣ конечно благодарить буду»311. В оценке «Histoire littéraire» с Батюшковым сходился его всегдашний оппонент — Катенин. В катенинских «Размышлениях и разборах» глава, посвященная Италии, начинается следующей преамбулой: «Приступая къ Итальянской Поэзіи, невольный страхъ на меня нападаетъ: такъ обширно поле, передо мною открывающееся <...> Часто придется мнѣ повторять сужденія знаменитаго Женгене, написавшаго одну изъ лучшихъ критическихъ книгъ, мнѣ извѣстныхъ; но къ сожалѣнію, умершаго прежде чѣмъ кончилъ ее <...> книга его у всѣхъ любителей въ рукахъ и въ памяти» (Катенин 1830, № 40: 28; Джулиани 1987, 99; Асоян 1989, 40—41).
Помимо Женгене, еще одним источником батюшковского очерка стала рецензия Лагарпа на избранные сонеты и канцоны Петрарки в переводе П.-Ш. Левека (Lévesque или L’Évêque). Эта статья была написана в 1774 г. для «Mercure de France» (Todd 1979, 244) и перепечатана в последнем томе парижского собрания под заглавием «Sur une traduction de quelques poésies de Pétrarque» (La Harpe 1778, VI: 1—16). Иногда — как, например, в своем суждении о канцоне «Spirto gentil» и ее адресате — Батюшков ориентируется одновременно на Лагарпа и Женгене: «Ода, въ которой Поетъ обращается къ Ріензи (такъ полагаетъ Вольтеръ, а другіе критики утверждаютъ, что сія ода писана не къ Ріензи, а къ Колоннѣ), сія ода, въ которой онъ умоляетъ народнаго Трибуна священными именами Сципіоновъ и Брутовъ, расторгнуть оковы Рима, и поставить его на древнюю степень сіянія и славы <...> исполнена древняго вкуса и сего величія, которое Италіянцы <...> называютъ grandioso <...>» (1816б, 184—185). Майков (1885, II: 472) указывал, что Батюшков «отчасти» повторяет здесь «замѣчанія Женгене»: «Такова канцона, которую Вольтер, вслед за многими авторами, считал обращенной (adressée) к знаменитому трибуну Кола Риенци, но которая, очевидно <...> <обращена> к молодому Этьену <= Стефано> Колонне, по случаю объявления его сенатором Рима. Петрарка <...> заставляет в ней звучать великое имя народа Марсова: он вспоминает имена Брутов, Сципионов и Фабрициев <...>» (Ginguené 1811, II: 549). Но вот что пишет Лагарп: «Взгляните на вторую из его Од, обращенную (adressée), согласно Г-ну де Вольтеру, к Николаю Риенци, а согласно Переводчику — к Этьену Колонне. Она
- 126 -
исполнена благородства, силы и величавых образов (Elle est pleine de noblesse, d’énergie et de grandes images). Поэт призывает своего героя вернуть к жизни умирающий Рим. Картина его слабости <...> противопоставлена его древнему величию (son ancienne grandeur)» (La Harpe 1778, VI: 9; Pilshchikov 1994b, 119 n. **).
В других случаях высказывания Батюшкова, полемические по внешней форме, на деле тоже являются лишь отзвуками споров XVIII столетия. Так, в пассаже о канцоне «Chiare, fresche e dolci acque..» к словам: «Любовникъ Лауры обращается къ Тріадѣ, источнику окрестностей Авиньона» — сделано примечание: «А не къ Воклюзѣ, какъ полагали нѣкоторые писатели» (Батюшков 1816б, 190). Вряд ли Батюшков помнил имена писателей, связывавших это стихотворение с Валькьюзой (ит. Valchiusa, фр. Vaucluse) — его примечание попросту переведено из Лагарпа: «<Cette Ode> est adressée а la fontaine nommé Triada, & non pas а la fontaine de Vaucluse, comme on le croit communément» (La Harpe 1778, VI: 6). Отзыв Батюшкова о вольтеровском подражании этой канцоне (ср. Contieri 1959, 178) также сходен с отзывом Лагарпа: «Кто не знаетъ прелестной Оды: Chiare, fresche e dolci acque, которой Вольтеръ подражалъ столь удачно <...>» (Батюшков 1816б, 190); «M. de Voltaire a bien heureusement rendu cette espèce de beauté <...> dans une imitation qu’il a faite de ce morceau <„Chiare, fresche e dolci acque“. — И. П.> <...>» = «Г-н де Вольтер весьма удачно передал сей род красоты <...> в своем подражании этому отрывку <...>» (La Harpe 1778, VI: 7)312.
Однако из критической литературы Батюшков брал лишь то, что было близко ему самому, и при случае не боялся высказать несогласие с авторитетами. В своей статье он оспаривает оценки Лагарпа, который считал, что главными достоинствами («le principal mérite») «гармоничной и легкой» поэзии Петрарки («la poésie harmonieuse & facile») являются стиль («le style») и слог («la diction poétique»). Напротив, по части «изобретения» («invention») величайшему из итальянских лириков, как считал Лагарп, недоставало мастерства (La Harpe 1778, VI: 3, 6, 11). Батюшков возражает: «Но я желаю оправдать Поета, котораго часто критика (отдавая впрочемъ похвалу гармоніи стиховъ его) ставитъ на равнѣ съ обыкновенными писателями по части изобрѣтенія и мыслей. Въ прозѣ остаются однѣ мысли» (Батюшков 1816б, 175). Правомерность этого утверждения наглядно продемонстрирована с помощью прозаических переводов из канцон и «Триумфов».
- 127 -
Через пятнадцать лет аналогичным приемом воспользовался Катенин, ставивший перед собой прямо противоположные цели. В стихах Петрарки, заявляет автор «Размышлений и разборов», «все изыскано, переслащено, натянуто и запутано. Мнѣ должно доказать такое несогласное съ общимъ сужденіе, и лучшій способъ: привесть нѣсколько изъ его сонетовъ въ переводѣ сколько можно близкомъ и почти буквальномъ». Выводы неутешительны: поэты «не переставали <...> подражать сему жеманному, бездушному слогу <...> всѣ Критики сговорились превозносить Петрарку непомѣрными похвалами <...> и забыли только изслѣдовать настоящую степень достоинства Стихотворца и произведеній его» (Катенин 1830, № 41: 37—38). В своем неприятии Петрарки и петраркизма Катенин не был одинок, ни даже оригинален: в данном случае он продолжал линию Сисмонди (Пильщиков 2000а, 14, 16; 2000б, 8; ср. наст. изд., с. 142, 156). Правда, Сисмонди не подкреплял своих аргументов против Петрарки примерами собственных переводов; напротив, он старался подавать переводы по возможности беспристрастно: «Оставляя, насколько возможно, в стороне свое предубеждение против Петрарки, которое вгоняет меня в краску, поскольку идет наперекор всеобщему вкусу (une prévention contre Pétrarque, dont je rougis, puisqu’elle est en opposition avec le goût universel), я переведу несколько его сонетов — не для того, чтобы их критиковать, но <...> чтобы те, кто не владеет итальянским в достаточной степени <...> составили собственное суждение» (Sismondi 1813, I: 410; Zini 1930b, 33). Что же касается Батюшкова, то он был настоящим «энтузиастом» итальянской культуры (Розанов 1928, 19): «плохих» итальянских поэтов для него просто не существовало, и он, конечно, никогда не смог бы принять точку зрения Сисмонди на поэзию Петрарки.
3. В 1817 г. эссе Батюшкова об итальянских стихотворцах были перепечатаны в I части «Опытов в Стихах и Прозе». Первоначальный план издания, посланный Гнедичу в сентябре 1816 г., включал очерки: «О Данте, Петраркѣ, Тассѣ, Аріостѣ» (Ефремов 1883, кн. VII: 30; ср. Майков 1886, III: 395). Такая композиция отражает представления Батюшкова о главной линии в итальянской поэзии эпохи «возрожденія Музъ» (Батюшков 1817а, ч. I: 5; Верховский 1941, 404; Pil’ščikov 1995, 128—129; Пильщиков 2000а, 18—19). К 1816—1817 гг. Батюшков неплохо знал «Комедию» Данте, о чём, среди прочего, свидетельствует пересказ эпизода Purg. XXI, 130—132 в письме Гнедичу от конца июля 1817 г.: «Я ему
- 128 -
<В. И. Козлову> могу то же сказать, что Виргилій Стассу въ Чистилищѣ Дантовомъ: Стассъ, увидя Виргилія, брякнулся ему въ ноги, а стыдливый Виргилій, въ отвѣтъ на такое привѣтствіе: „ахъ, братецъ! не дѣлай этого, ты тѣнь и тѣнь передъ собою видишь!“» [Ефремов 1883, кн. VIII: 243; ср. Майков 1886, III: 459 (см. Горохова 1975, 259—260 примеч. 88; Пильщиков 2000а, 24)]313. Ср. в итальянском оригинале:
Già s’inchinava ad abbracciar li piedi
Al mio dottor, ma el li disse: «Frate,
Non far, ché tu se’ ombra, ed ombra vedi»[= Уже́ склонился он, чтоб обнять ноги // Моему учителю, но он ему рек: «Брате, // Не делай так, ведь ты тень, и тень ты видишь»]. Модифицированную цитату из «Чистилища» по-итальянски (Purg. VIII, 2—3), вероятно, приведенную по памяти, находим в очерке «Путешествие в замок Сирей», напечатанном в «Вестнике Европы» в 1816 г. (Майков 1885, II: 407).
Ценный материал для исследователей русско-итальянских литературных связей представляют сделанные в середине 1810-х годов заметки поэта на полях «Gerusalemme liberata». Маргиналии, имеющие отношение к Данте, немногочисленны, но весьма любопытны. Пожалуй, лишь одна из них не требует подробных пояснений: в строке Ger. lib. I, lxxxii, 6 подчеркнуто словосочетание citta dolente ʽскорбный град’, известное Батюшкову по «надписи на вратахъ Ада» (Inf. III, 1; ср. IX, 32); на полях помета: «D.» (то есть «Dantesque»)314. В стихах Ger. lib. I, viii, 7—8 (E pien di fè, di zelo, ogni mortale // Gloria, impero, tesor mette in non cale = И полон веры, рвения, каждый смертный // Славу, власть, богатство ни во что не ставит) Батюшков подчеркивает оборот mette in non cale и комментирует: «expression Dantesque»315. На самом деле выражение mettere (porre, avere ecc.) qc in (a) non cale(re) ʽни во что не ставить, не ценить что-л.; не заботиться о чём-л.; пренебрегать чем-л.’ не несет в себе ничего специфично дантовского (ср. Battaglia 1962, II: 542); более того, в отмеченной Батюшковым форме (mettere in non cale) оно у Данте не встречается. В трактате «Пир» (там, где говорится, что «превосходные философы» «ни о чём другом не заботились, кроме мудрости», и Платон, презиравший всё земное, «ни во что не ставил свое царское достоинство») дважды употреблена конструкция mettere a non calere («Convivio» III, 14; Sheldon, White 1905, 85). В 15 стихе канцоны «Tre donne
- 129 -
intorno al cor mi son venute...», где автор сетует, что люди пренебрегают Добродетелями, обстоятельству in non cale предшествует глагол essere: <...> Or sono a tutti in ira ed in non cale = <...> Ныне они у всех в немилости и в небрежении. В «Комедии» этот фразеологизм не использован ни разу (ближайшая к нему параллель — метафора parete // Di non caler = стена // Безразличия в Purg. XXXII, 4—5). Однако выдвигать предположение о знакомстве Батюшкова с философской прозой и канцонами Данте на основании единственной пометы рискованно. Не исключено, что поэта просто подвела память, и он принял за «дантовское выражение» оборот, найденный у другого автора — например, у Петрарки в канцоне «Quel’ antiquo mio dolce empio signore...»: <...> Per una donna ho messo // Egualmente in non cale ogni pensero = <...> Ради женщины ставил // Точно так же ни во что все мысли (стихи 33—34).
О заметках, связанных с октавой «Chiama gli abitator...» (Ger. lib. IV, iii) речь ужй заходила выше (с. 120—121): Батюшков сравнивает строфу Тассо со стихами Inf. VI, 94—99. Словосочетание l’aer cieco из III строфы IV песни «Gerusalemme liberata» повторено в этой же кантике в 7-й строке LIII октавы; у Батюшкова оно тоже помечено как «Dantesque»316. Н. А. Бессонов пояснял, что выражение l’aer cieco («слѣпой воздухъ») употребляется «часто у Данте въ „Аду“» и означает «безъ свѣта» (Бессонов 1885, 462). Это не совсем верно: воздух Ада в поэме Данте наделен эпитетами nero ʽчерный’ (Inf. V, 51; IX, 6), tenebroso ʽмрачный, темный’ (VI, 11), perso ʽбагровый, пурпурно-черный’ (V, 89; ср. Blanc 1852, 376; Scartazzini 1899, 1488), grasso ʽжирный’ (IX, 82), grosso e scuro ʽтяжелый и темный’ (XVI, 130; XXXI, 37), а также maligno ʽзловредный’ (Inf. V, 86)317 и morto ʽмертвый’ (Purg. I, 17). Эпитет cieco Данте использует только с двумя существительными, обозначающими загробное царство: mondo ʽмир’ (Inf. IV, 13; XXVII, 25) и carcere ʽтюрьма’ (X, 58—59) [см. Castrogiovanni 1858; Fay 1888; Lovera et al. 1975 (s. v. aer, aere, aura, cieco)]318. Но неточность Батюшкова по-своему красноречива: в его сознании эпизод «адского совета» у Тассо прочно связался с Дантовым Адом.
В течение всей осени 1816 г. Батюшков не оставлял идею написать для «Опытов» очерк о Данте. 25 сентября он сообщал своему издателю — Гнедичу: «Высылаю томъ прозы. Все обѣщанное мною исполнено, кромѣ статьи о Дантѣ. Право нѣкогда, боленъ и у меня нѣтъ вспомогательныхъ книгъ». Спустя месяц (28—29 октября) он еще готов был
- 130 -
взяться за перо: «Если могу сладить съ Данте, и если нужно будетъ, вышлю» (Ефремов 1883, кн. VII: 31, 34; Майков 1886, III: 399, 407). Через неделю (7 ноября), отправляя Гнедичу «Вечер у Кантемира», Батюшков замечает: «Теперь надѣюсь довольно. Если мало будетъ, то увѣдомь; что нибудь въ концѣ можно припечатать о Дантѣ»319. Статья так и не была начата, а когда оказалось, что прозаический том недостаточно «увѣсистъ» (Н. И. Гнедичу, март 1817), он был пополнен переводом «Гризельда. Повесть из Боккачьо» (см. Ефремов 1883, кн. VII: 37; Майков 1886, III: 420). Хотя поначалу Батюшков настаивал: «Мнѣ же не хочется имѣть переводовъ; замѣть: это не малое достоинство» (25 сентября 1816 г.), — в последний момент он переменил решение: «Гризельда придастъ интересу: будетъ что нибудь и для дамъ. Это не шутка. Все одна словесность инымъ суха покажется» (Ефремов 1883, кн. VII: 31, 38; ср. Майков 1886, III: 399, 420).
Вполне закономерно, что изучая Петрарку и Данте, Батюшков заинтересовался автором «Декамерона»: в первые десятилетия XIX в. концепция «трех флорентийских венцов» пользовалась непререкаемым авторитетом (Алексеев 1970, 43; Cordié 1971; и др.). Женгене, рассказав о роли Данте и Петрарки в культуре Треченто, так заканчивает второй том «Histoire littéraire»: «<...> c’est lui <Boccace> qui vint compléter le Triumvirat littéraire dont ce grand siècle s’enorgueillit» = «<...> именно Боккаччо предстояло войти в литературный Триумвират, которым гордится этот великий век» (Ginguené 1811, II: 568). Уже́ в статье 1815 г. Батюшков ставит в один ряд с именем Петрарки имена «важнаго и мрачнаго Данте, остроумнаго и веселаго Бакачіо <sic!>» (Батюшков 1816а, 181). К марту 1817 г. Батюшков подготовил к печати по крайней мере два перевода из «Декамерона» — «Гризельду» и «Описание моровой язвы» (заключительную новеллу и зачин книги); «<...> посылаю тебѣ милую Гризельду и милую Моровую Заразу изъ Боккачіо, — писал он Гнедичу. — Сказка интересна, она и отрывокъ о заразѣ — capo d’opera италіанской литературы» (Ефремов 1883, кн. VII: 37—38; ср. Майков 1886, III: 420). Выбирая места для перевода, Батюшков следовал рекомендациям Женгене («Histoire littéraire», ч. I, гл. XVI). Французский критик отмечал высокие художественные достоинства этих фрагментов и ту роль, которую они играют в композиции «Декамерона»: «Всё произведение разворачивается между превосходным описанием чумы, его открывающим, и Новеллой о Гризельде, его завершающей» («L’ouvrage entier <est> placé entre la belle
- 131 -
description de la peste qui le commence, et la Nouvelle de Griseldis320 qui le finit»). Описание чумы — «это одно из лучших произведений итальян ской литературы» («C’est un des plus beaux morceaux de la littérature italienne»)321. «Гризельда» — «последняя и самая интересная из всех Новелл „Декамерона“» [«la dernière et la plus intéressante de toutes les Nouvelles du Décaméron» (Ginguené 1811, III: 117, 86, 108)]. В свою очередь, Женгене, оценивая две новеллы «Декамерона», опирался на авторитетнейшую традицию, восходящую к старшему другу Боккаччо — Петрарке (Epist. seniles, XVII, 3): «<...> я внимательней остального оглядел начало и конец книги. В начале ее ты, по-моему, точно описал, и великолепно оплакал состояние нашего отечества времени страшной чумы <...> А в конце ты поместил заключительную историю, очень непохожую на многие из предыдущих, которая так мне понравилась и так захватила меня, что <...> мне захотелось закрепить ее в памяти, чтобы и самому всякий раз, как захочу, не без удовольствия повторять ее наизусть, и в разговорах с друзьями пересказывать, если случится» (Петрарка 1982, 307—308). Далее в этом же письме Петрарка перелагает историю Гризельды на латинский (ср. Хлодовский 1982, 340—342; и др.).
Переводы из Боккаччо предназначались для «Пантеона итальянской словесности» — сборника, в котором Батюшков хотел развернуть картину литературной истории Италии (ср. Горохова 1975, 256 и далее). Посылая своему издателю «Гризельду» и «Моровую заразу», Батюшков предупреждал: «Если же напечатать не согласишься, то пришли назадъ, не держа ни минуты: я выдралъ изъ книги» (Ефремов 1883, кн. VII: 38; Майков 1886, III: 420). Первый план «Пантеона» был отправлен Гнедичу 7 февраля 1817 г.: «Кажется я писалъ къ тебѣ, что желаю еще напечатать книжонку. Что дадутъ книгопродавцы за книгу слѣдующаго содержанїя
всё прозою
Пантеонъ Итальянс<ко>й Словесности.
Жизнь и поэма Данте: Адъ. (отрывками.)
отрывокъ из Іерусалима: Олиндъ и Софронїя.
Отрывокъ изъ Роланда: Его бѣшенство.
всё прозою отрывокъ изъ Роланда: Альцина.
отрывокъ изъ Макїавеля.
описанїе Моровой Язвы изъ Бокачїо.
Гризельда. Лучшая сказка изъ Боккачїо.
взглядъ на словесность итальянскую [лучшаго времени]
въ лучш<е>е ея время и нѣчто тому подобное.
- 132 -
Я етотъ трудъ довольно скучный и для воображенїя безплодный принялъ бы на себя ради денегъ. И, еслибъ зналъ на вѣрное что дадутъ за книжку въ 300 страницъ 1500. рублей или около того, то взялся бы представить ее къ 1818 году. Поговори съ книгопродавцами и сводниками Парнасса»322.
В письме Гнедичу от начала марта 1817 г. мы находим расширенный «проспектусъ переводовъ», которые составили бы два то́ма «Пантеона», художественный и литературно-критический (см. Ефремов 1883, кн. VII: 40; Майков 1886, III: 423). Общим введением должна была послужить «Похвала Италіи изъ M-me de Stael» [«Коринна», кн. II, гл. III (Staël 1807, 73—88; ср. Заборов 1972, 178)]. Маккиавели из корпуса переводов был исключен, а разделы, посвященные Ариосто и Тассо, дополнены. К «Бѣшенству Орланда» Батюшков собирался добавить «Путешествіе въ луну»: «Это составитъ нѣчто цѣлое». Pendant эпизоду Олинда и Софронии из Торквато Тассо (II, xiii—liv)323 было переведено «Письмо Бернарда Тасса о воспитаніи дѣтей»324. Помимо «Гризельды» и «Заразы» («Моровой Язвы»), в число отрывков из «Декамерона» вошел «Примѣръ дружества, изъ Боккачіо, сказка». В конце тума Батюшков предполагал поместить «что нибудь изъ Петрарка». Для второго тома планировались переводные очерки-компиляции, посвященные Данте, Петрарке, Боккаччо, Ариосто, Тассо и «другимъ стихотворцамъ перваго періода»325. Кроме того, в план включены работы общего характера — «Объ италіанскомъ языкѣ» и «Взглядъ на словесность италіанскую», для которого в 1817 г. делался конспект Сисмонди (см. далее, с. 179 наст. изд.). О готовящемся издании Батюшков писал Вяземскому 4 марта 1817 г.: «Собираю Италїан<скїе> переводы въ прозѣ: отборныя мѣста — и хочу выдать двѣ книжки. Может быть продамъ ихъ за двѣ тысячи <...> Взялъ контрибуцїю съ Данте, съ Арїоста, съ Тасса, съ Маккїавеля, и бѣднаго Боккачїо прижалъ къ стѣнѣ. <В>сѣмъ досталось! доберусь и до новѣйшихъ»326.
Проследить дальнейшие изменения и уточнения, которые Батюшков внес в свой проект «Пантеона итальянской словесности», позволяет еще один, третий план книги, сохранившийся среди бумаг Жуковского:
«Программа для книги моей.
Обозрѣнїе Итал. Словесности. Главныя Эпохи.+ Гризельда.
+ Олиндъ и Софронїя.
- 133 -
+ Моровая язва.
Два друга.
+ Письмо Бернарда Тасса.
+ Бѣшенство Орланда.
+ Слава Италїи.
Данте. Жизнь его. <В>зглядъ на поэму.
Пѣснь I.
Уголинъ<.>
Франческа да Римини.
Петрарка.
Аретинъ.
Маккїавелли.
Альфїери.
+ Картина Италїи по возрожденїи Наукъ»327.
А. С. Янушкевич, обнаруживший этот документ (1990, 12), не указал, что в «Программе» часть позиций отмечена крестиками — Батюшков выделил произведения, подготовленные к публикации или же отданные в печать. Еще 4 марта 1817 г. Батюшков вопрошал Вяземского: «<...> могу ли разсѣять мою работу въ перїодическомъ изданїи? У меня книга готова»328, — но ужй 23 июня тому же адресату он сообщал: «Я посылаю къ Каченовс<ком>у кучу переводовъ. Увидишь ихъ въ вѣстникѣ. C’est le< >chant du cygne <= это лебединая песнь>»329. В августовском выпуске «Вестника Европы» появились «Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей» и «Слава и блаженство Италии, из г-жи Сталь», в сентябрьском — «Олинд и Софрония: (Отрывок из II песни Освобожденного Иерусалима)» и «Исступление Орланда. Конец песни XXIII, и начало XXIV: [Из Ариоста]» (Батюшков 1817б; 1817в; 1817г; 1817д). Перевод из «Коринны» убедительно атрибуировала Батюшкову Р. М. Горохова (1975, 260—263; ср. Заборов 1972, 179), три других перевода включил в батюшковское собрание сочинений еще Майков330. «Гризельда» вошла в состав «Опытов» (Батюшков 1817а, ч. I: 276—296); «Моровая зараза во Флоренции» по стечению обстоятельств (см. пи́сьма Батюшкова Гнедичу от начала марта и от 17 июня 1817 г.) увидела свет два года спустя (Батюшков 1819). Очерк «Картина Италии по возрождении наук» не найден.
Осуществить замысел «Пантеона» Батюшкову не пришлось — не оказалось издателя (ср. Благой 1934, 18); рукописи не сохранились, и нам остается лишь догадываться, на какой стадии прервалась работа. Судя по
- 134 -
исключению «Альцины» и «Путешествия в луну», эти отрывки из «Orlando furioso» либо не удались переводчику, либо даже не были начаты. Неясно, успел ли Батюшков перевести что-либо из Маккиавели (и если да, то в каком объеме)331. Третий перевод из «Декамерона» («Пример дружества» или «Два друга») был сделан по крайней мере вчерне — очевидно, именно о нём Батюшков сообщал Гнедичу 17 июня 1817 г.: «У меня еще есть переводы изъ Боккачїо»332. Комментаторы обходили молчанием вопрос о том, какой текст скрывается за батюшковским заглавием. Между тем найти ответ не составляет труда: это VIII новелла Десятого дня. Как и в других случаях, Батюшков руководствовался указаниями Женгене, выделявшего у Боккаччо (помимо описания чумы и «Гризельды») «Новеллу о Тите и Гисиппе, которая в Десятом дне предшествует Новелле о Гризельде и которая, в совершенно ином роде, еще, быть может, ее интереснее (qui, dans un genre tout-а-fait différent, est peut-être plus intéressante encore)». Женгене пишет: «Toute cette Nouvelle <...> cette controverse si forte et si neuve entre les deux amis <...> et enfin le sublime éloge de l’amitié, par où la Nouvelle est terminée, sont peut-être ce qu’il y a de plus éloquent dans le Décaméron entier, et par conséquent dans toute la littérature italienne» = «Вся эта Новелла <...> это разногласие между двумя друзьями, столь яркое и новое <...> и наконец величественная похвала дружбе, завершающая Новеллу, суть, может быть, самые красноречивые места в целом „Декамероне“ и, следовательно, во всей итальянской литературе» (Ginguené 1811, III: 113, 116).
В письме Вяземскому от 4 марта 1817 г. Батюшков упоминал, что взялся «переводить <...> мрачный Адъ»333. Кроме вводной песни «Inferno», вошедшей во все пособия по итальянской литературе, внимание Батюшкова, как видно из «Программы», привлекли эпизоды Франчески (Inf. V, 70—142) и графа Уголино (XXXII, 124 — XXXIII, 90). Эти эпизоды первыми преодолели барьеры, поставленные французской эстетикой: в храм позднеклассического вкуса они были допущены еще в эпоху зрелого Вольтера, Лагарпа и Ривароля334. Данту — певцу Уголина посвящен пассаж из IV песни «L’Imagination» Делиля: O toi qui d’Ugolin traça l’affreux tableux // Terrible Dante <...> (Delille 1806, I: 238) = Ты, описавшій гладъ и ярость Уголина, // Ужасный Дантъ! <...> (Воейков 1821б, 229). В примечаниях к этому месту ученый редактор Делилевой поэмы Ж. Эсменар писал: «Это один из самых прекрасных отрывков в итальянской поэзии (un des plus beaux morceaux de la poésie italienne), и, может
- 135 -
быть, благодаря ему утвердилось высокое положение этого великого поэта (le rang de ce grand poète); по крайней мере правдоподобно предположить, что Данта, хотя он и стал создателем <итальянского> языка, читали бы гораздо меньше, не будь его поэма освящена двумя или тремя эпизодами (consacré par deux ou trois épisodes), такими, как эпизоды графа Уголина и Франчески да Римини» (Delille 1806, I: 270; Counson 1905, 362; 1906, 107—109)335. Позже Сисмонди говорил об истории Франчески: «Cet épisode est un de ceux dont la réputation a passé dans toutes les langues; aucune cependant ne peut rendre le charme et la parfaite harmonie de l’original» = «Этот эпизод относится к числу тех, о коих слава прошла по всем языкам; но ни один язык не может передать очарования и безукоризненной гармонии оригинала» (Sismondi 1813, I: 356—357). Заключительные страницы раздела, посвященного Данте, Сисмонди отвел эпизоду Уголино, который перевел на французский терцинами (Sismondi 1813, I: 381—385; ср. Counson 1905, 363 n. 3; 1906, 120—122; Friederich 1950, 212; Cordié 1985, 251; Вацуро 1995, 384). Наконец, именно эти фрагменты приводил в пример Женгене («Histoire littéraire d’Italie», ч. I, гл. X), раскрывая тезис о широте стилистического диапазона Данте: «Le peintre terrible d’Ugolin est aussi le peintre touchant de Françoise de Rimini» = «Ужасный живописец Уголина умеет быть и трогательным художником Франчески да Римини» (Ginguené 1811, III: 263). Характерно, что Женгене наделяет эпизоды Уголино и Франчески теми же качествами («суровость» и «нежность»), которые Руссо приписывал октавам Тассо «Chiama gli abitator...» и «Teneri sdegni...» (см. выше, с. 118—119)336. Такими же стилистическими характеристиками пользовался сам Батюшков, говоривший, что язык Тассо бывает то суровъ, то нѣженъ (1816а, 120). Скорее всего, под этим же углом зрения он рассматривал поэму Данте337.
4. Ранние опыты прозаических переводов Батюшкова с итальянского берут начало еще в 1809 г. (Горохова 1975, 256): «Я весь италіянецъ<,> т. е. перевожу Тасса впрозу <sic!>. Хочу учиться и дѣлаю исполинскіе успѣхи»; «Я теперь перевожу отъ скуки Тибулла въ стихи, Тасса въ прозу и перемарываю старые грѣхи»338. Какие именно переложения были тогда сделаны, мы не знаем — первые опубликованные прозаические переводы итальянских классиков появились в составе критических очерков 1815 г. Кроме того, полторы октавы «Иерусалима» по-русски включены в примечание к искусствоведческому очерку «Прогулка в Академию Художеств»
- 136 -
(1814). С этим заделом Батюшков приступил к работе над книгой об итальянской словесности. Более всего создателя «Пантеона» заботил вопрос о художественных возможностях прозаических переложений. В письме Гнедичу от 27 февраля 1817 г. разговор «о переводахъ италіянскихъ» завершается пессимистическим замечанием: «Славы отъ этой прозы не будетъ» (Майков 1886, III: 419; ср. Ефремов 1883, кн. VII: 37). Те же сомнения Батюшков выражал в письме к Вяземскому (4 марта 1817 г.): «Чѣмъ болѣе вникаю въ Италїан<скую> словесность, тѣмъ болѣе открываю сокровищь истинно классическихъ, испытанныхъ вѣками. Не знаю только, хорошо-ли ето будетъ въ русской прозѣ? вотъ отъ чего не рѣдко у меня руки опускаются»339. Отказавшись от стихотворных подражаний, которыми он был увлечен в начале десятилетия, Батюшков выбирает новую переводческую стратегию. О том, какой она ему представлялась, можно судить по следующим примерам.
Батюшков пишет: «Стихи Петрарки, сіи гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой языкъ; ибо ни< >одинъ языкъ не можетъ выразить постоянной сладости Тосканскаго, и особенной сладости Музы Петрарковой» (Батюшков 1816б, 175, ср. 187; Эткинд 1968, 41; 1973, 148; Lauer 1975, 317). Тем не менее в статье об итальянском поэте он перелагает отрывки из «Канцоньере» и «Триумфов» русской прозой в доказательство того, что стихи Петрарки полноценны с точки зрения содержания. Тезис о том, что «въ прозѣ остаются однѣ мысли» (ср. выше, с. 126), иллюстрирован отрывком из канцоны «Che debb’io far? che mi consigli, Amore?..» (см. Батюшков 1816б, 175—177). Перевод в основном «лишен сентиментально-романтических штампов» (Солонович 1979, 168), характерных для ранних стихотворных переложений Батюшкова из Петрарки. Иногда переводчик «допускает стяжение некоторых строк» (Семенко 1977, 526) и в то же время изредка позволяет себе риторические амплификации. В первых двух предложениях: «Исчезла твоя слава, міръ неблагодарный! и ты сего не< >видишь, не чувствуешь. Ты не< >достойна была знать ее, земля неблагодарная! ты не достойна быть попираема ея священными стопами!» — Батюшков дополняет синонимом не чувствуешь восходящий к подлиннику глагол не видишь (ср.: <...> et tu nol vedi <...>) и вводит отсутствующие в оригинале повторы (ты не достойна... ты не достойна...; міръ неблагодарный!.. земля неблагодарная!; это приемы, распространенные во французских прозаических переводах стихов). Рядом Батюшков пропускает целую фразу: <...> Né degno
- 137 -
eri, mentr’ ella // Visse qua giú, d’aver sua conoscenza <...> (= <...> Ты была недостойна, пока она // Жила здесь, ее знать <...>). В некоторых местах Батюшков намеренно снижает торжественный тон Петрарки: «Прекрасная душа ея прес<е>лилась на небо»; ср.: <...> Perché cosa sí bella // Devea ’l ciel adornar di sua presenza = <...> Ибо столь прекрасная вещь // Должна была своим присутствием украсить небо. Хотя непривычные черты подлинника иногда ретушируются: «Увы! въ землю превратились ея прелести <...>» [вместо: Oïmè, terra è fatto il suo bel viso <...> = Увы, в землю превратилось ее прекрасное лицо <...> (Семенко 1977, 526)], — переводчик в то же время счел необходимым сохранить оксюморон vita mortal (смертная жизнь). Женгене в прозаическом переводе той же канцоны не решился воспроизвести это словосочетание, при том что в большинстве случаев он передает текст Петрарки точнее, чем Батюшков (см. Ginguené 1812, II: 535—537).
Итак, Батюшков позволяет себе дополнять или модифицировать подлинник, но не всякие изменения оказываются для него приемлемыми. В отличие от переводческих вольностей предшествующего периода, нынешние носят интерпретирующий, а не корректирующий характер: понимая, что пользуется заведомо неадекватными языковыми средствами, Батюшков хочет донести до читателя наиболее значимые черты оригинала и не ставит своей целью «улучшить» или «исправить» его в соответствии с той или иной эстетической концепцией; деформации текста, входящие в явное смысловое или стилистическое противоречие с подлинником, теперь представляются недопустимыми. 10 сентября 1818 г. Батюшков пишет А. И. Тургеневу о прозаическом переводе Шишкова из «Освобожденного Иерусалима»: «Ни слова не скажу о переводѣ напечатанн<омъ> въ Сынѣ Отечества, я согласенъ съ мнѣнїемъ Грѣча <sic!> изложеннымъ въ точкахъ340. Поздравляю Академїю! Преузорочно. „Часть открытыхъ пухлыхъ грудей!.. Но хотя взору преграждаетъ путь, однако не можетъ остановить страстной мысли... (страстн<ая> мысль, хорошо, но далѣе:) мысль дерзаетъ сквозь густоту одежды прокрадываться въ укутанныя части...<“> Харчевенной слогъ. Лапотникъ!»341 Понять претензии, предъявляемые Шишкову, поможет сопоставление перевода с оригиналом Тассо (Ger. lib. IV, xxxi, 3, 5—6; xxxii, 3—4). Батюшкову не нравятся выражения: пухлыя[, упругія] груди вместо le mamme acerbe e crude ʽкрепкие и незрелые сосцы’; густота одежды вместо il chiuso manto ʽнепроницаемая одежда; непроницаемый покров’; укутанныя части вместо la vietata
- 138 -
parte ʽзапретная часть’. Шишков заслужил только одну положительную оценку: по мнению Батюшкова, словосочетание страстная мысль удачно передает итальянское l’amoroso pensier ʽлюбовная мысль’342.
Здесь необходимо сделать отступление. В 1789 г. Женгене напечатал в «Mercure de France» очерк «О Тассе», где, в частности, разобрал замечания Буало об излишествах и недостатках Тассовой поэмы. По ходу дела Женгене дословно переводит XXXI и XXXII октавы из IV песни «Иерусалима» (см. Ginguené 1789, № 19: 76). Вот как он передает сочетания, которые Батюшков подчеркнул у Шишкова: l’amoureux penser ʽлюбовная мысль’ (= l’amoroso pensier); le voile fermé ʽнепроницаемый покров’ (= il chiuso manto)343; la partie défendue ʽзапретная часть’ (= la vietata parte). Сочетание le mamme acerbe e crude Женгене перевести не отважился и только пояснил: «Acerbe e crude, métaphore tirée des fruits qui ne sont pas encore mûrs» = «Acerbe e crude, метафора, <подразумевающая сравнение с> несозревшими плодами» (Ginguené 1789, № 19: 76 n. 2). «Честное слово, — восклицает Женгене, — если Буало, шокированный всеми более чем излишними украшениями этого описания (choqué de tous les ornemens plus que superflus de cette description), отшвырнул книгу и уже не захотел вновь ее взять, то можно ли ставить это ему в вину?» (Ginguené 1789, № 19: 76). Четверть века спустя главный итальянист Франции скорректировал свое мнение: «Более продолжительные занятия итальянскими поэтами, наверное, меня немного развратили (m’a peut-être un peu corrompu); я и сейчас прекрасно вижу те же самые изъяны в этом описании, которое оскорбляет достоинство эпопеи и, более того, оскорбляет приличие (les mêmes vices dans cette description qui blesse la dignité de l’épopée, et même la décence); но я чувствую, что, если бы у меня на глазах новый Депрео отшвырнул книгу, я бы тут же поднял ее и настоял бы, чтоб он ее взял» (Ginguené 1812, V: 434—435; Grossi 2001, 263—265). На этот раз Женгене дал перевод смущавшего его стиха (On voit une partie de deux globes fermes et rebelles <...>) и расширил соответствующее примечание: «Ариосто также говорит, рисуя портрет Альцины:
Due pome acerbe e d’avorio fatte.
<= Два крепких яблока, сделанных из слоновой кости.> Итальянцы очень любят, говоря о сем предмете, эту метафору, <подразумевающую сравнение с> несозревшими плодами, которые еще крепки, <пока> незрелы;
- 139 -
она была бы недопустима по-французски, и само название этого предмета недопустимо в благородной поэзии (elle serait insupportable en française, et le nom même de l’objet le serait dans la poésie noble)» (Ginguené 1812, V: 433).
Вернемся к Батюшкову. Он отмечает у Шишкова все отступления от подлинника и дает оригинальную («стилистическую») апологию одного из самых спорных эпизодов поэмы: «И какое мѣсто въ Тассѣ! чудесное! — Здѣсь то — Тассъ именно великъ слогомъ, ибо Армида его недостойна Эпопеи <...> но слогъ ее укутавшїй, ей даетъ прелесть неизъяснимую. Что же она въ рускомъ переводѣ? Молчу, молчу, но право иногда своимъ голосомъ скажешся <sic!>. Воейковъ пишетъ Гекзаметры безъ мѣры, Жуковской (!?!?!?!) пятистопные стихи безъ рифмъ <sic!> <...>344 ...Послѣ того, мудрено ли что въ Академїи такъ переводятъ?»345 Еще в 1811 г. Батюшков с издевкой отзывался о чрезмерной, как ему тогда казалось, точности переводов Шишкова (см. выше, с. 100) и сам передавал итальянских поэтов «вольно» и стихами. Теперь он перешел на прозаические переводы и стал критиковать соперника с позиций буквализма.
По-видимому, именно к Батюшкову следует возводить русскую традицию полноценых («неадаптированных») литературных переводов Боккаччо на русский (ср. Молчанова 1990, 48; Хлодовский 1982, 345). Посылая Гнедичу две новеллы из «Декамерона», Батюшков предупреждал, что «переводилъ не очень рабски и не очень вольно», стараясь «угадать манеру Боккачіо»; он просил друга-издателя «перечитать ихъ съ кѣмъ нибудь знающимъ языкъ италіанскій» и печатать только в том случае, «если выдерж<а>тъ ученый критическій карантинъ» (Ефремов 1883, кн. VII: 38; Майков 1886, III: 420). В «Ариосте и Тассе» стремление к «ученой» точности подчеркнуто само́й композицией очерка: отрывки из «Иерусалима» по-русски помещены pendant итальянским цитатам. В этом отношении характерна единственная замена, которую Батюшков произвел в переводных сегментах «Ариоста и Тасса», когда готовил к печати первый том «Опытов в Стихах и Прозе». Автор статьи цитирует XXX октаву XIX песни «Gerusalemme liberata»:
«<...> Fuggian premendo i pargoletti al seno,
Le meste madr<i>, co<’> capegli sciolti:
E ’l predator di spoglie e di rapine
Carco, stringea le vergine nel crine.
- 140 -
„<...> прижавъ къ персямъ младенцевъ, убѣгаютъ отчаянныя матери съ раскиданными власами; и хищникъ, отягченный ограбленными сокровищами, хватаетъ дѣвъ устрашенныхъ“» (Батюшков 1816а, 112). Заключительная фраза расходится с подлинником (где сказано: <...> хватает дев за волосы) и соответствует тексту Лебрена: «Le soldat <...> saisit les filles tremblantes» (Lebrun 1774, II: 249; 1803, II: 267; разрядка моя. — И. П.). Лебрен элиминировал дополнение nel crine, чтобы избежать вынужденного повтора: итальянские синонимы capegli и crine ʽволосы’, употребленные через стих, могут быть переведены на французский только однокоренными словами cheveux и chevelure; определение tremblantes было, очевидно, добавлено для ритмического каданса. В издании 1817 г. Батюшков восстановил «итальянское» дополнение (сохранив, правда, и «французское» определение): «<...> хватаетъ за власы дѣвъ устрашенныхъ» (Батюшков 1817а, ч. I: 239)346. Методом совмещения подстрочника с элементами лебреновской версии пользовался Ш. Панкук — не удивительно, что батюшковский текст совпал с текстом Панкука: «<...> traînant les filles tremblantes par leurs cheveux» (Panckoucke 1785, V: 241; Пильщиков 1997, 36—37). Так мы лишний раз убеждаемся в том, что наличие отдельных конвергенций между текстами не может служить надежным доказательством «литературного влияния». Отмеченное совпадение симптоматично и в другом отношении: переводческая манера позднего Батюшкова отчасти ориентирована на поэтику версий à côté du texte (изящество и точность, élégance et fidélité)347.
- 141 -
Глава шестая
МОТИВЫ ПЕТРАРКИ
У БАТЮШКОВА И ПУШКИНА
(1815—1817 и 1821—1831)1. Батюшков первым из русских писателей пришел к «целостному восприятию поэзии итальянского Ренессанса» (Верховский 1941, 404). Он сумел обнаружить и осмыслить исторические связи между литературой Треченто и Чинквеченто и предвосхитил представление о раннем и высоком Возрождении как о едином эстетическом феномене.
То, что сегодня может показаться трюизмом, когда-то поражало и восхищало. Читатель, вероятно, не забыл, что в специальном примечании к «Петрарке» Батюшков писал, почти не скрывая удивления и радости: «Я сдѣлалъ открытіе въ Италіянской словесности» — «нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Петрарки въ Освобожденномъ Іерусалимѣ» (1816б, 189—190 примеч. *). С этой статьи, которая «впервые, повидимому, знакомила русскую публику с деятельностью итальянского поэта» (Розанов 1930, 123), началась «рецепция непетраркистского Петрарки» в России (Lachmann 1968, 473 Anm. 68). Батюшков говорит о певце Лауры и в других своих произведениях, основные темы которых оказали мощное воздействие на младших современников, и в частности на Пушкина, став отправным пунктом в его суждениях об итальянской словесности. Именно благодаря Батюшкову итальянский язык на какое-то время стал для автора «Евгения Онегина» языком Петрарки (а не Данте или, скажем, Альфьери)348.
С историей жизни и творчеством Петрарки читатели первой трети XIX в. знакомились прежде всего по II то́му «Литературной истории Италии» Женгене (ср. Cordié 1977b, 432—440), следы изучения которой
- 142 -
носят очерки Батюшкова. Похвалой в адрес Женгене открывается итальянская глава «Размышлений и разборов» Катенина — извечного противника Батюшкова по вопросам перевода и истолкования произведений Петрарки, Ариосто и Тассо. Неясно, был ли Пушкин знако́м с теми главами «Histoire littéraire», где речь идет о Петрарке (ср. Розанов 1928, 17; Shapiro M. and M. 1993, 155). Вопреки убеждению М. Н. Розанова (1930, 124), II том книги Женгене в пушкинской библиотеке отсутствует (Модзалевский 1910, № 944), но делать из этого факта далеко идущих выводов не следует (Реморова 1971, 103; Асоян 1989, 43)349. Доподлинно известно лишь то, что поэт делал выписки из IV то́ма «Histoire littéraire d’Italie», касающиеся романа «Buovo d’Antona» (РП, 486—490); М. А. Цявловский предположительно датировал их июнем 1822 г. (РП, 489; Томашевский 1956, 473 примеч. 123), С. А. Фомичев (1986, 241) и В. А. Кошелев (1993, 26) — 1824 или 1825 годом350.
Еще одним авторитетным исследованием по истории итальянской словесности был труд Ж.-Ш.-Л. Симонда де Сисмонди́ «О литературе юга Европы» («De la littérature du midi de l’Europe»). Сисмонди, которого Пушкин относил к числу виднейших европейских критиков (см. Пушкин 1949, 11: 26; Томашевский 1937а, 2), зачастую развивает и дополняет положения Женгене, но в случае с Петраркой дело обстоит иначе: «наперекор всеобщему вкусу (en opposition avec le goût universel)» автор «De la littérature...» не принимал поэзии Петрарки и печатно заявлял о своем «предубеждении» против него (Sismondi 1813, 410; Zini 1930b, 28—34; Cordié 1977b, 441—458). В России демарш Сисмонди поддержал Катенин, который в своих «Размышлениях и разборах» доказывал «несогласное съ общимъ сужденіе», что в стихах Петрарки «все изыскано, переслащено, натянуто и запутано», а сам он не достоин «званія Поэта» (Катенин 1830, № 41: 36—37; Джулиани 1987, 101—102; ср. наст. изд., с. 127). Неприязнь Катенина к великому итальянскому лирику была вполне искренней; 17 февраля (1 марта) 1825 г. он писал Н. И. Бахтину о сонетах Петрарки: «<...> что тутъ находятъ? чѣмъ восхищаются? за что хотятъ человѣка въ боги посвятить? <...> я <...> не могу никакъ запутанныхъ, темныхъ, каламбурныхъ четвертаковъ и алтыновъ увѣнчаннаго въ Капитоліи педанта351 принять за чистую звонкую монету» (Чебышев 1911, 78—79). Пушкин избежал влияния катенинского «нигилизма»: его воззрения на Петрарку если не во всём, то во многом сходны с батюшковскими.
- 143 -
2. В письме к А. Бестужеву от конца мая или начала июня 1825 г. Пушкин замечает: «Въ Италіи Dante и Petrarca предшедствовали Тассу и Аріосту, сіи предшедствовали Alfieri и Foscolo» (Пушкин 1926, 135; Берков 1970, 39—40; Густова 1996, 35—36). Первым русским критиком, заговорившим о преемственности Ариосто и Тассо по отношению к Данте и Петрарке, был Батюшков: «Петрарка, — разъяснял он публике, — былъ его <Тасса> предшественникомъ; онъ и Данте открыли новое поле словесности своимъ соотечественникамъ» (Батюшков 1816б, 190 примеч. *). Данте и Петрарка здесь трактуются как родоначальники национального языка и национальной литературы — к этой теме Батюшков возвращается в «Речи о влиянии легкой Поэзии на язык»: «По возрожденіи Музъ, Петрарка <...> одинъ изъ первыхъ создателей славы возрождающейся Италіи изъ развалинъ классическаго Рима, — Петрарка, немедленно шествуя за суровымъ Дантомъ, довершилъ образованіе великолѣпнаго нарѣчія Тосканскаго <...>» (Батюшков 1816г, 48—49; ср. 1817а, ч. I: 5; Некрасов 1911, 210—211; Верховский 1941, 404; Фридман 1965, 159; Благой 1973, 13). Словоупотребление Батюшкова отозвалось в пушкинском «Сонете» (1830): Суровый Дантъ не презиралъ сонета; // Въ немъ жаръ любви Петрарка изливалъ (Пушкин 1830, 315; Розанов 1930, 127; Семенко 1977, 467; Титаренко 1985, 95; и др.)352. Для Батюшкова Данте и Петрарка — фигуры равного масштаба, и в этом их русский популяризатор противоречит современной ему французской критике. Сисмонди прямо говорил, что «на его взгляд» «Петрарка гораздо менее поэт, чем Данте (Pétrarque est beaucoup moins poète que le Dante)» (Sismondi 1813, I: 409). Предпочтение Данту перед Петраркой отдавал не только Сисмонди, но и Женгене: «Dans la poésie <...> Dante s’élève <...> comme un géant parmi des pygmées <...> Pétrarque lui-même, le tendre, l’élégant, le divin Pétrarque, ne le surpasse point dans le genre gracieux, et n’a rien qui en approche dans le grand ni dans le terrible» = «В поэзии <...> Данте возвышается <...> как гигант среди пигмеев <...> Даже Петрарка, нежный, изысканный, божественный Петрарка, не превосходит его в изящном роде и никогда не приближается к нему в картинах величественных и ужасных» (Ginguené 1811, 262—263; Counson 1906, 101—103, 120—122; Hazard 1910, 441—442; 1921, 370—371; Zini 1930a, 231—232; Cordié 1985, 216—217). Этой характеристики Батюшков не принимает и приписывает Петрарке как раз те достоинства, в которых отказал ему Женгене. Защищая язык Авзонии от упреков «въ излишней изнѣженности»
- 144 -
(очерк «Ариост и Тасс»), Батюшков приводит в качестве примера «трехъ Поэтовъ: Альфьери — душею Римлянина, Данта — зиждителя языка Италіянскаго, и Петрарка, который нѣжность, сладость и постоянное согласіе умѣлъ сочетать съ силою и краткостію» (Батюшков 1817а, ч. I: 249)353.
С точки зрения Батюшкова, значение Данте и Петрарки для итальянской культуры сопоставимо со значением Ломоносова для культуры русской: «Ломоносовъ <...> преобразовалъ языкъ нашъ <...> Онъ то же учинилъ на трудномъ поприщѣ Словесности, что Петръ Великій на поприщѣ гражданскомъ» (Батюшков 1816г, 47). Пушкин в набросках рецензии на альманах «Северная лира» (1827) также сравнивал Петрарку с Ломоносовым: «<...> сии два великие мужа имеют между собою сходство. Оба основали словесность своего отечества <вариант: „Оба сотворили язык и словесность своего отечества“. — И. П.>» (Пушкин 1949, 11: 48, 320; Щеголев 1916, 6—8; Тынянов 1926а, 112—113; Реморова 1971, 104—105; Хлодовский 1976, 204). Развивая сравнение, Пушкин пишет: «<...> оба <Петрарка и Ломоносов> думали основать свою славу важнейшими занятиями, но вопреки им самим более известны как народные стихотворцы» (Пушкин 1949, 11: 48). О позднем признании «народных» стихов Петрарки говорил Батюшков: «Онъ <Петрарка> заслужилъ славу трудами постоянными и пользою, которую принесъ всему человѣчеству какъ Ученый прилѣжный <sic!>, неутомимый; онъ первый возстановилъ ученіе Латинскаго языка; онъ занимался критическимъ разборомъ древнихъ рукописей», но «сдѣлался безсмертенъ стихами, которыхъ онъ самъ не уважалъ, — стихами, писанными на языкѣ Италіянскомъ, или народномъ нарѣчіи» (Батюшков 1816б, 171—172).
До Батюшкова Петрарку-ученого и Петрарку-лирика противопоставляли французские критики. Женгене утверждал: «Чтобы справедливо оценить стихи Петрарки, нужно полностью отмежеваться от того мнения, какое он сам о них имел (qu’il en avait lui-même). Он никогда не думал, что они могут споспешествовать его репутации, которую он основал (qu’il fondait) на философских трудах и латинских стихотворениях. Его народные стихотворения (ses poésies vulgaires) были предназначены для того, чтобы без труда выражать разнообразные движения сердца, а также нравиться женщинам и светским людям (à plaire aux femmes et aux hommes du monde), которым латинский язык был менее знако́м, чем итальянский». «В его письмах часто повторяется это суждение о творениях его
- 145 -
молодости, которые он называл своими безделками (ces productions de sa jeunesse, qu’il appelait ses bagatelles); но потомство рассудило о них иначе (mais la postérité en a jugé différemment)» (Ginguené 1811, II: 560—561). Этот пассаж почти дословно повторил Сисмонди: «Многочисленные труды Петрарки по древней литературе должны были дать ему более всего прав на славу (être son plus beau titre de gloire); так их оценивали в то время, так он сам судил о них (c’est ainsi qu’il en jugeait lui-même): тем не менее сегодня его известность в гораздо большей степени основывается (est bien plus fondée) на итальянских лирических стихах, чем на объемистых латинских сочинениях» (Sismondi 1813, I: 398). Позже размышлениями Женгене на свой страх и риск распорядился Катенин, раздраженно отозвавшийся о сонетах Петрарки: «<...> и не справедливѣе ли потомства судилъ онъ самъ, считая ихъ за пустячки<?>» (Чебышев 1911, 78).
По мнению Батюшкова, «въ етомъ неуваженіи къ стихамъ своимъ» «съ Петраркомъ» «много сходствовалъ» не столько Ломоносов, сколько Богданович, который «часто говаривалъ М<уравьев>у: „Стихи мои, которые вамъ такъ нравятся, умрутъ со мною; но моя Русская Исторія переживетъ меня. Стихи мнѣ немного стоили труда; надъ Исторіей я много пролилъ поту: на ней-то основана моя слава....“» (Батюшков 1816а, 172 примеч. *). С другой стороны, в «Речи о влиянии легкой Поэзии» Батюшков подчеркивал роль «эротической Музы» в деле «усовершенствованія» поэтического языка и соотносил собственные литературные «занятія» с творчеством Петрарки (Батюшков 1816г, 48, 45). Отсюда пушкинская аналогия между Петраркой и Батюшковым (предполагающая сравнение Ломоносова с Данте): «Батюшков, счастл.<ивый> сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского» (Пушкин 1949, 11: 21; Розанов 1930, 120; Фридман 1964б, 31; 1971, 297, 320; Хлодовский 1976, 205; 1999, 310, ср. 315 примеч. 9; Picchio 1989, 240—241; Пильщиков 2000а, 20; 2000б, 10—11).
«Подобно Батюшкову <...> Пушкин воспринимал и ценил Петрарку не как основателя гуманизма <то есть культурно-идеологической программы, придававшей первостепенное значение углубленному изучению греко-римской античности. — И. П.> <...> а как великого мастера любовной лирики» — «поэта любви par excellence» (Розанов 1930, 124, 127). Отсюда пушкинское: <...> Языкъ Петрарки и любви («Евгений Онегин» 1, XLIX, 14); <...> Въ немъ <сонетѣ> жаръ любви Петрарка изливалъ <...> («Сонет»)354. «Гордый и пламенный Альфіери называетъ Петрарку
- 146 -
учителемъ любви и Поезіи. Maestro in amare ed in Poesia», — напоминал Батюшков (1816б, 181 примеч. *)355. У Петрарки «каждый стихъ, каждое слово носитъ неизгладимую печать любви»; но хотя он «испыталъ всѣ мученія любви», «наслажденія его были духовныя. Для него Лаура была нѣчто невещественное, чистѣйшій духъ, излившійся изъ нѣдръ божества и облеченный природою въ прелести земныя» (Батюшков 1816б, 173; ср. наст. изд., с. 123). Знавшие Батюшкова легко могли увидеть в этом описании его психологический автопортрет.
Здесь проходит черта, разобщающая Батюшкова и Пушкина, который вовсе не был склонен отождествлять себя с Петраркой:
Тебѣ не страшенъ лиры звукъ,
Ни элегическія рѣчи <...>Твоя красавица не дура;
Я вижу все и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я въ Петрарки не гожусь.(Пушкин 1826, 118)
Это из стихотворения «Приятелю» (1821). А 25 августа 1823 г. Пушкин пишет брату: «<...> я прочелъ ему <В. Туманскому> отрывки изъ Бахчисарайскаго Фонтана (новой моей поэмы) сказавъ что я не желалъ бы ее напечатать потому что многія мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ, и что роль Петрарки мнѣ не по нутру» (Пушкин 1926, 53; Яковлев 1926, 132; Розанов 1930, 149; Томашевский 1956, 497—498; 1961, 75; Реморова 1971, 106; Picchio 1989, 238—240). 22 октября 1823 г. была завершена первая глава «Евгения Онегина». Заведя в конце этой главы разговор о любви и поэзии [Замѣчу кстати: всѣ поэты — // Любви мечтательной друзья (1, LVII, 1—2)], Пушкин снова противопоставляет себя Петрарке (1, LVIII, 6—14):
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испыталъ.
Блаженъ, кто съ нею сочеталъ
Горячку риѳмъ: онъ тѣмъ удвоилъ
Поэзіи священный бредъ,
Петраркѣ шествуя вослѣдъ,
А муки сердца успокоилъ,
- 147 -
Поймалъ и славу между тѣмъ;
Но я, любя, былъ глупъ и нѣмъ.(Пушкин 1825, 46—47)356
«Петрарка (и в письме Пушкина к брату, и в „Евгении Онегине“) — точный поэтический термин: это поэт любви платонической» (Тынянов 1939, 172; ср. Хлодовский 1999, 310). Здесь Пушкин опять близок к Батюшкову (с той оговоркой, что в отношении Петрарки младший поэт мог позволить себе иронию, не представимую в устах старшего). Факт подобного единомыслия не столь банален, как может показаться на первый взгляд: «<...> славы никто не оспориваетъ у Петрарки; но многіе сомнѣвалися въ любви его къ Лаурѣ» (Батюшков 1816б, 172). Сторону скептиков принял (разумеется!) Катенин: «заказная любовь» Петрарки «отзыва<е>тся мѣлкимъ тщеславіемъ и въ привычку обращеннымъ жеманствомъ»; критики «вздумали <...> изъ педантическаго полиграфа357 сдѣлать поэтическое лице, страстнаго любовника», а на деле он всего лишь «хотѣлъ <...> быть любимымъ Поэтомъ для дамъ»358, которые «всему предпочитали любовно-метафизическую галиматью, и Петрарка вмѣнилъ себѣ въ обязанность ихъ оною потчивать» (Катенин 1830, № 41: 36—38). «Пушкин несомненно <...> ценил в Катенине критика» (Тынянов 1926б, 259)359, испытывал к нему уважение и симпатию, но сознавал, что их «связь основана не на одинаковомъ образѣ мыслей» [Пушкин 1926, 160 (из письма П. А. Катенину от первой половины сентября 1825 г.)]. «Учась у Катенина», резюмировал Ю. Н. Тынянов, Пушкин «никогда не теряет самостоятельности» (1926б, 258).
3. В «Евгении Онегине» упоминание Петрарки (1, LVIII, 11) дало Пушкину повод связать мотив любви с мотивом славы, которого, кстати, не было в первоначальном наброске LVIII строфы, где предпоследний стих (Поймалъ и славу между тѣмъ) читался: Но я любил — а между тем <...> (Пушкин 1937, 6: 257). Ассоциативный ряд «Петрарка, любовь и слава» вполне уместен и оправдан: как утверждал Батюшков, «неумѣренная любовь къ славѣ равнялась, или спорила съ любовію къ Лаурѣ въ пламенной душѣ Петрарки». «Любовь къ Лаурѣ и любовь къ славѣ подъ конецъ жизни его слились въ одно» (Батюшков 1816б, 183, 179—180)360. Обе темы заданы уже́ в первых строках батюшковского очерка о Петрарке:
- 148 -
«S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?
Что же я чувствую, если и это не любовь?Вотъ что говоритъ Петрарка, котораго одно имя напоминаетъ Лауру, любовь и славу» (Батюшков 1817а, ч. I: 250; ср. 1816б, 171).
Итальянскую фразу, с которой начинается статья Батюшкова, Пушкин повторил в повести «Метель»: «Нельзя было сказать, чтобъ она <Марья Гавриловна> съ нимъ <Бурминымъ> кокетничала; но Поэтъ, замѣтя ея поведеніе, сказалъ бы:
Se amor non è, che dunche?... <sic!>
<= Что же это, если не любовь?>»(Пушкин 1831, 62—63; 1834, 63)
Ф. Е. Корш, отыскавший первоисточник пушкинской цитаты — сонет Петрарки «S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?..», — обратил внимание на орфографическую ошибку в слове dunque (напечатано dunche) и усомнился, «зналъ-ли Пушкинъ по итальянски». Исследователь пришел к заключению, что Пушкин «никогда не учился» итальянскому языку, «на которомъ ему приходилось разбирать только случайно попавшіяся ему фразы и цитаты». «Вѣроятно, Пушкинъ нашелъ свою цитату за-долго до того, какъ написалъ „Метель“ <...> нашелъ ее въ какой-нибудь французской книжкѣ, гдѣ стихъ Петрарки могъ быть обрѣзанъ» (Корш 1908, 54—56).
Корш полагал, что написание dunche явилось результатом «обратной» итальянской транскрипции сло́ва dunque, прочитанного Пушкиным в молодые годы на французский лад: dunque [´du·ŋku̯e] → dunque *[´dœ̃:kə] → dunche [´du·ŋke] (ср. Picchio 1989, 241 n. 13). Это мало похоже на правду: судя по рукописи, которая была недоступна Коршу, автор «Метели» просто не помнил, какая из двух форм верна (ср. Букалов 1988, 110). Поначалу он твердой рукой вывел dunque, и лишь позже, вернувшись к этому месту, поменял -que на -che361. Ученого смущало также то обстоятельство, что «Пушкинъ не называетъ поэта, слова котораго приводитъ, хотя не видно причины, почему онъ умолчалъ его имя, если зналъ его» (Корш 1908, 55). Однако в автографе повести Поэтъ назван прямо: «Петрарка»362.
В. Я. Брюсов (1908) и Ю. Н. Верховский (1909) доказали, что Пушкин владел итальянским хотя и не безупречно, но всё же гораздо лучше,
- 149 -
чем представлялось Коршу (ср. Certo 1926; Яковлев 1926, 130; РП, 21—22, 555—557; Biolato Mioni 1937, 263—267; Благой 1967, 238 примеч. 4; 1973, 36—37; Shapiro M. and M. 1993, 168 n. 18). При всём том участники дискуссии допускали, что с выводом Корша «о незнакомствѣ Пушкина съ Итальянской словесностью въ подлинникѣ» «можно <...> болѣе или менѣе согласиться», хотя, конечно, «нельзя утверждать и того, что никого изъ Итальянскихъ Писателей Пушкинъ въ подлинникѣ не читалъ» (Брюсов 1908, 584—585; ср. также Biolato Mioni 1937, 268—269; Shapiro M. and M. 1993, 167 n. 8; Хлодовский 1993, 96—98).
На сонет «S’amor non è...» брюсовская оговорка не распространялась: «<...> намъ не зачѣмъ гадать, откуда именно Пушкинъ почерпнулъ свою цитату. Почти несомнѣнно, онъ взялъ ее изъ статьи Батюшкова „Петрарка“» (Брюсов 1908, 589). Ю. Г. Оксман (1917, 84—85 примеч. 2), не оспаривая слов Брюсова, указал другой возможный источник-посредник — стихотворение А.-В. Арно «Imitation de Pétrarque» («Si ce n’est pas l’amour, quel feu brûle en mes veines...»). Оно имеет эпиграф «S’amor non è, che dunque sento?» и снабжено сопроводительным примечанием, где помещен полный текст итальянского сонета (см. Arnault 1825, 421—424). Том «басен и разных стихотворений» из парижского собрания сочинений Арно 1824—1827 гг., содержащий «Подражание Петрарке», был в распоряжении Пушкина; нужные страницы разрезаны (Модзалевский 1910, № 556). Вполне возможно, что французское «Подражание» действительно напомнило Пушкину об итальянском стихе, давно известном ему по статье Батюшкова, которую автор «Метели», без сомнения, читал очень внимательно (Вацуро 1981, 355; ср. 1995, 376).
Полемику о генезисе пушкинской цитаты резюмировал Н. В. Яковлев: «Весьма вероятно, что это так и было первоначально, как указывают В. Брюсов и Ю. Оксман. Но позднее Пушкин мог познакомиться и непосредственно с оригиналом» (1926, 131; ср. Biolato Mioni 1937, 270 n. 4)363. Последнее уточнение показательно: если до середины 1920-х годов превалировало необоснованное мнение, что Пушкин знал итальянскую литературу плохо, то в дальнейшем всё чаще стали раздаваться столь же голословные утверждения, что он знал ее чуть ли не в совершенстве. М. Н. Розанов писал в связи с цитатой в «Метели»: «Не даром выбрал Пушкин этот сонет: вполне подходя к положению его героини, он, вместе с тем, представляет собою как бы резюме обычных любовных
- 150 -
переживаний Петрарки, хорошо подчеркивая господствующее у него настроение колебания, нерешительности, двойственности, меланхолии, страдания» (1930, 127). Н. О. Лернер также считал, что «Пушкин мог знать сонет Петрарки и непосредственно <...> а не по чьей-нибудь цитате. Если же это цитата, — неожиданно добавляет Лернер, — то, может быть, из Аретино: данный стих Петрарки цитирован в <...> третьем дне <I части> „Ragionamenti“; его грациозно напевают молодые куртизаны, „держа в руке карманного Петрарку“» (Лернер 1935, 125). Возражая Брюсову, Лернер выдвигает контраргументы, не имеющие доказательной силы: никаких намеков на малопристойное сочинение Пьетро Аретино «Ragionamenti» («Разговоры») в тексте «Метели» не содержится364.
В то же время догадка Брюсова подтверждается многочисленными перекличками между батюшковскими и пушкинскими высказываниями о Петрарке (см. выше, с. 143—147). Но есть и другой довод в пользу того, что итальянская фраза запомнилась Пушкину по цитате у Батюшкова. Речь идет о второй ошибке или описке, допущенной Пушкиным в рукописи (no ʽнет’ вместо non ʽне’): «Sé amor no è, che [dy] [dunque] dunche?.....»365 Вопреки чтению Б. В. Томашевского (см. Пушкин 1940, 8, кн. 2: 618), эта погрешность не была устранена в автографе, и мы даже не можем сказать, кому принадлежит поправка: самомý Пушкину или его издателю Плетневу366. Но в данном случае важно не это. Та же самая ошибка была допущена при первой публикации статьи Батюшкова в «Вестнике Европы», где стих Петрарки набран так: «S’ amor no <sic!> è che dunque è quel ch’ io sento?» (Батюшков 1816б, 171; Пильщиков 2000б, 15). Оплошность была исправлена в «Опытах», которые Пушкин ко времени работы над «Повестями Белкина», конечно, перечел не раз; но, по-видимому, первое впечатление, как это нередко бывает, оказалось сильнее последующих367.
4. Совпадение в выборе цитат у Пушкина и у Батюшкова симптоматично: скорее всего, знакомство Пушкина с наследием Петрарки ограничилось отдельными стихотворениями и фрагментами, найденными в критических и историко-литературных работах. У нас нет данных, удостоверяющих, что поэт пытался самостоятельно штудировать Петрарку в подлиннике (как это делали, например, Батюшков и Катенин или как сам Пушкин изучал Данте). Наоборот, все цитаты из Петрарки, которые встречаются в сочинениях Пушкина, могли быть ему известны по статье
- 151 -
Батюшкова и по книге Сисмонди. Выдержки из Петрарки у Сисмонди немногочисленны: он разбирает отрывки из канцоны «O aspettata in ciel, beata e bella...» и пять сонетов, один из которых — «Erano i capei d’oro a l’aura sparsi...» — переводит стихами (см. Sismondi 1813, I: 410—420). Именно эти два произведения нашли отклик в «Евгении Онегине» (Пильщиков 2000а, 16—17; 2000б, 16 и далее; ср. Picchio 1989, 243)368.
Канцона к Джа́комо Колонне («O aspettata in ciel...») представлена у Сисмонди двумя строфами — третьей (31—45) и четвертой (46—60):
Una parte del mondo è che si giace
Mai sempre in ghiaccio ed in gelate nevi,
Tutta lontana dal cammin del sole.
Là sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nemica naturalmente di pace,
Nasce una gente a cui ’l morir non dole <...>(= Есть часть света, всегда лежащая
Во льдах и в холодных снегах,
Вдали от пути солнца.
Там, где дни пасмурны и кратки,
Исконный враг мирной жизни,
Родится народ, которому умирать не больно...)369Кроме того, в книге приведена по-французски заключительная часть стихотворения (91 слл.). Отзыв Сисмонди об этом произведении выделяется на фоне других сдержанно неодобрительных характеристик: «Это, на мой взгляд, самое блистательное и самое вдохновенное из стихотворений Петрарки; оно также более всего приближается к античной оде» (Sismondi 1813, I: 418)370.
Стихи 49 и 51 из канцоны «O aspettata in ciel...» вынесены в эпиграф к 6-й главе «Евгения Онегина»: La <sic!> sotto giorni <sic!> nubilosi e brevi // Nasce una gente a cui l’morir <sic!> non dole (Пушкин 1828, 6; 1833, 161; 1837, 171). Орфография и грамматика пушкинской цитаты требуют пояснений. Если отсутствие тяжелого ударения в указательном местоимении là ʽтам’ и написание элидированного l’ вместо ’l в позиции перед согласным можно отнести за счет пушкинской небрежности, то пропуск артикля i перед существительным giorni ʽдни’ — это важная «улика»: дело в том, что Пушкин воспроизвел канцону Петрарки, как ее процитировал Сисмонди (Sismondi 1813, I: 420 n. 1). Точно так же интересующее
- 152 -
нас место читается во втором издании «De la littérature...», с просьбой о приобретении которого Пушкин обращался к брату 14 марта 1825 г., и в третьем издании этой книги, которое позже заняло свое место в пушкинской библиотеке (Sismondi 1819, 426 n. 1; 1829, 424 n. 1; Модзалевский 1910, № 1391)371. Это не единственный случай, когда Пушкин цитирует итальянских авторов по книге швейцарского историка, не сверяясь с первоисточниками (Томашевский 1931, 280; 1934, 317 примеч. 17; 1957, 528; Алексеев 1967, 155—156; Хлодовский 1993, 98 примеч. 7; Кибальник 1998, 109, 171, 176)372.
Очень немногие исследователи пытались разобраться, какой именно смысл вкладывал создатель «Онегина» в эпиграф к 6-й главе. М. Н. Розанов ограничился замечанием о том, что «эпиграф этот как нельзя более уместен перед печальным рассказом о дуэли Онегина с Ленским» (1930, 126). Такой же скороговоркой отделывается новейший комментатор: «Эпиграф из канцоны Петрарки выступает в качестве емкой формулы всей дуэльной главы романа» (Шанский 1999, 125).
Тезис Розанова попробовали аргументировать Марианна и Майкл Шапиро: «Уместность стихов Петрарки в контексте данной главы (the appropriateness of these lines to the subject matter of the chapter), где идет речь о дуэли между Онегиным и Ленским, становится очевидной, <когда мы доходим> до четвертой строфы канцоны, в которой описан Крестовый поход 1333 г.» (Shapiro M. and M. 1993, 166 n. 4). Однако еще А. П. Налимов, первый исследователь итальянских литературных связей Пушкина, проницательно заметил, что стро́ки Петрарки в «Евгении Онегине» плохо увязываются с их исходным контекстом: «Читатель согласится, разумѣется, что у Пушкина очень удачно подобрано благозвучное, художественное предисловіе, годное для любого <...> „психологическаго“ романа, и... подыскивая у самого Петрарки цитированное мѣсто — не безъ удивленія и даже не безъ нѣкотораго разочарованія, увидитъ, что поэтъ нашъ позаимствовался изъ „Canzone“, въ которой воспѣвается походъ короля французскаго противу невѣрныхъ». У Петрарки говорится, что «эти дикіе германцы — воинственный, смѣлый народъ <...> теперь тоже вооружились вмѣстѣ съ другими на защиту святой земли <ср. „O aspettata in ciel...“, стихи 52—57. — И. П.>». «Нѣтъ сомнѣнія, и Ленскій, и Онѣгинъ <...> были далеки отъ подобныхъ интересовъ и затѣй». Оказывается, Пушкин «воспользова<лся> словами старика Петрарки для совсѣмъ новыхъ поэтическихъ темъ» (Налимов 1899, 56—57)373.
- 153 -
В са́мом деле, слова́ Петрарки о северной стране (Германии) Пушкин применил к России (Čiževsky 1953, 265). Одновременно с этим была внесена поправка в эпиграф ко 2-й главе: к хрестоматийной цитате из Горация («O rus!..») Пушкин добавил пародическое восклицание «О Русь!» — оно присутствовало в беловых рукописях 2-й главы374, но впервые было напечатано в списке исправлений, приложенном к отдельному изданию главы 6-й (Пушкин 1828, 47; ср. 1937, 6: 640, 645; Nabokov 1964, 301 n. ‡; Алексеев 1977, 107—108 примеч. 32). Тема России в эпиграфах к роману стала сквозной. В полном согласии с наметившейся тенденцией следующая, 7-я глава, повествующая об отъезде Татьяны в Москву, была снабжена тремя эпиграфами, посвященными Москве (ср. Надеждин 1830, 222).
Не вполне убеждает интерпретация эпиграфа из Петрарки, которую предложил Ю. М. Лотман: «П<ушкин>, цитируя, опустил средний стих <50-й>, отчего смысл цитаты изменился <...> возникла возможность истолковать причину небоязни смерти <...> как следствие разочарованности и „преждевременной старости души“» (1980б, 286). Комментатор не разъяснил, почему пропуск стиха в итальянской цитате дает ключ к истолкованию психологии персонажей в духе байронического разочарования375. Несколько более правдоподобно звучит предположение И. К. Полуяхтовой, посвятившей специальную работу эпиграфу к 6-й главе «Евгения Онегина»: в отличие от Петрарки, Пушкин не считал, что «воинственность» северных народов «есть исконное их качество, данное самой природой им в удел», и потому «изъял из петрарковских строк среднюю» (Полуяхтова 1987, 73).
По всей вероятности, нам не найти однозначного и убедительного ответа на вопрос, почему Пушкин выпустил один из трех идущих подряд стихов. Не исключено, что купюра вообще не была преднамеренной. Стих мог выпасть просто потому, что Пушкин его забыл (в пользу того, что поэт приводил цитату по памяти, говорит пропуск accento grave и смещение апострофа). Выброшенная строка (Nemica naturalmente di pace) образует распространенное приложение, которое легко элиминируется без ущерба для синтаксической связности фразы. Версификационная форма тоже не препятствует его сокращению: стихи, вычлененные из 15-стишия с прихотливой рифмовкой ABCBACCDEEDEFDF, друг с другом не рифмуются376, а строфические контуры оригинала, которые могли бы поддержать целостность цитаты, в эпиграфе полностью стерты.
- 154 -
5. Еще одна цитата из Петрарки должна была появиться в автокомментариях к лирическому отступлению о женщинах из 3-й главы «Онегина». Это отступление начинается словами о «недоступных красавицах»: <...> Читалъ // Надъ ихъ бровями надпись ада: // Оставь надежду навсегда [3, XXII, 8—10 (Пушкин 1827, 28)]. 10-й стих в рукописи подчеркнут, а в полных изданиях романа помечен курсивом: выделением означено заимствование из Данте («Inferno» III, 9). «Шутливая пародийность этого места усугубляется примечанием явно фривольного характера, которым Пушкин сопровождает <...> цитату» (Благой 1967, 241; 1973, 17; ср. Илюшин 1968, 159—160; Гаспаров 1983, 324, 328): «Lasciate ogni speranza voi ch’ntrate <sic!>. Скромный Авторъ нашъ перевелъ только первую половину славнаго стиха» (Пушкин 1833, 268; 1837, 286—287). По наблюдению Лернера (1935, 121), шутку о неприступных женщинах Пушкин позаимствовал у Шамфора: «Je n’aime point, disoit M..., ces femmes impeccables, au-dessus de toute foiblesse. Il me semble que je vois sur leur porte le vers du Dante sur la porte de l’enfer:
Voi che intrate, lasciate ogni speranza.
Vous qui entrez ici, laissez toute espérance.C’est la devise des damnés» [= «Терпеть не могу, — говорил М..., — этих непогрешимых женщин, чуждых всякой слабости. Мне кажется, что я вижу у них на дверях стих Данта на вратах ада377:
Voi che intrate, lasciate ogni speranza.
Вы, те, что входите, оставьте всю надежду.Это девиз проклятых» (Chamfort 1812, 235)]378. «Пушкин несколько распространил и расцветил заметку Шамфора и прибавил к столь остроумно примененному французским писателем дантовскому стиху не лишенное пикантности примечание» (Лернер 1935, 121; ср. Виноградов 1941, 386—387; Громбах 1974, 229; и др.). «Пикантность» или «фривольность» шуток Шамфора и Пушкина заключается в том, что итальянский глагол intrare (entrare) и соответствующий ему французский глагол entrer ʽвходить’ имеют также значение ʽовладевать телесно; совокупляться’ (Battaglia 1968, V: 171; Trésor, 1248; ср. Delvau 1864, 154—155). В результате, по выражению А. А. Илюшина (1968, 159), «грозный трагизм Данте» принимает у Пушкина «форму эротической символики в духе Боккаччо»379.
- 155 -
Следующая строфа «романа в стихах» (3, XXIII) построена на парафразах из Петрарки:
Среди поклонниковъ послушныхъ
Другихъ причудницъ я видалъ,
Самолюбиво равнодушныхъ
Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ <...>Онѣ суровымъ поведеньемъ
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умѣли вновь,
По крайней мѣрѣ, сожалѣньемъ,
По крайней мѣрѣ, звукъ рѣчей
Казался иногда нѣжнѣй <...>(Пушкин 1827, 28—29)
К слову сожалѣнье в беловой рукописи сделана сноска, аналогичная примечанию к цитате из Данте и содержащая стро́ки 5—6 из сонета «Erano i capei d’oro...»:
E’l viso di pietosi color farsi
Non so se vero o falso, mi parea. Petr.380(= «И ее лицо покрылось краской сострадания, // Казалось мне, — не знаю, правда или нет. Петрарка»). В том же сонете Петрарка говорит: <...> et le parole // Sonavan altro, che pur voce humana = <...> и ее речи // Звучали не так, как обычный человеческий голос (стихи 10—11). В переложении Сисмонди звук голоса Лауры (son accent) наделен эпитетами tendre et doux (оба имеют значение ʽнежный, мягкий’; ср.: <...> звукъ рѣчей // Казался иногда нѣжнѣй). Эти эпитеты повторены у Сисмонди дважды: Je ne sais quoi de tendre et de compâtissant <sic!> // Paraissait me promettre un plus doux esclavage (стихи 5—6); Son accent tendre et doux me semblait cadencé (стих 11). Иначе говоря, фрагменты, перефразированные Пушкиным, образуют лейтмотив не у Петрарки, а в тексте Сисмонди (см. Sismondi 1813, I: 413).
Сисмонди рассказывает, что сонет «Erano i capei d’oro...» «был написан в то время, когда красота Лауры уже́ начала увядать, и все удивлялись неизменности чувств Петрарки к женщине, не вызывавшей более восхищения у тех, кто ее видел» (Sismondi 1813, I: 412)381. Таким образом, пушкинские причудницы, уподобленные стареющей Лауре, — это
- 156 -
дамы в возрасте, которые тешат свое самолюбие, вселяя тщетную надежду в сердца неопытных поклонников: <...> По крайней мѣрѣ, звукъ рѣчей // Казался иногда нѣжнѣй, // И съ легковѣрнымъ ослѣпленьемъ // Опять любовникъ молодой // Бѣжалъ за милой суетой [3, XXIII, 10—14 (Пушкин 1827, 29)]. В дефинитивной редакции романа от примечания с цитатой из Петрарки, проясняющей контекст XXIII строфы, Пушкин почему-то отказался. Надеюсь, что дальнейшие исследования помогут разрешить эту загадку.
6. Итак, факты позволяют говорить о решающем воздействии Батюшкова и Сисмонди на формирование представлений Пушкина о Петрарке. От Батюшкова Пушкин унаследовал уважительное признание заслуг Петрарки перед итальянской и мировой культурой382, от Сисмонди — несколько отстраненное отношение к личности и творчеству капитолийского лауреата, подчас выражавшееся у Пушкина в легкой и вполне беззлобной иронии383.
Ключевые роли в истории русской рецепции Петрарки сыграли старшие друзья Пушкина — Батюшков и Катенин. Если Батюшков, восторгавшийся Петраркой и видевший в нём одного из величайших лириков христианской эпохи, перенес на русскую почву идеи Женгене, то Катенин, напротив, довершил развенчание «классика» Петрарки, начатое «полуромантиком» Сисмонди384. Пушкин занял умеренную позицию — в его отзывах о Петрарке крайности нивелированы.
Из обширного корпуса лирики Петрарки (317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллат и 4 мадригала) предшественники и современники Пушкина выделяли ограниченное количество произведений, которые становились предметом цитирования и обсуждения. По томý, какие произведения цитируются и какие оценки им даются, можно проследить линии влияния — своеобразные «изоглоссы», ведущие от одного автора к другому. Дело не исчерпывается регистрацией отдельных совпадений и расхождений; у нас появляется возможность с достаточной полнотой реконструировать весь комплекс отношений, связывающих Батюшкова с Лагарпом и Женгене, Катенина — с Женгене и Сисмонди, Пушкина — с Сисмонди и Батюшковым, и т. д.
В пушкинских текстах заимствования из Петрарки всегда сопровождаются ссылками на его имя (только в окончательной редакции «Метели» оно заменено апеллятивом Поэтъ). Эта показная осведомленность не
- 157 -
должна вводить в заблуждение: постоянно читаемых авторов, наоборот, чаще цитируют без упоминания первоисточника. Совокупность признаков, подтверждающих опосредованный характер знакомства Пушкина с поэзией Петрарки, пополняется текстологическими данными. Отступления от орфографических и грамматических норм в итальянских цитатах (воспринимавшиеся многими редакторами Пушкина как досадная помеха, которую надо устранить) оказываются значимыми — сто́ит лишь найти верную историко-литературную перспективу. Значимость эта — не телеологическая, а генетическая: особенности текста не столько выражают творческую волю их создателя, сколько служат косвенным указанием на реальный источник цитаты, который автор постарался скрыть. Конечно, обращение к тому или иному непосредственному источнику до некоторой степени случайно, однако в генезисе художественного произведения случайное (как мы уже́ неоднократно убеждались в ходе этого исследования) тесно переплетается с закономерным.
- 158 -
Глава седьмая
ЭЛЕГИЯ «УМИРАЮЩИЙ ТАСС»:
DICHTUNG UND WAHRHEIT
(1817)1. В те же месяцы, когда шла работа над «Пантеоном Итальянской Словесности», создавалось самое известное произведение батюшковской тассианы — элегия «Умирающий Тасс», о которой поэт мог бы повторить сказанное им по другому поводу в письме Гнедичу (июль 1817 г.): «Я желалъ бы соорудить памятникъ моему полуденному человѣку; моему Тассу» (Ефремов 1883, кн. VIII: 242; ср. Майков 1886, III: 457). Элегия предназначалась для второго то́ма «Опытов в Стихах и Прозе». В январе 1817 г., незадолго до отправки письма́ с первоначальным планом «Пантеона», Батюшков писал Гнедичу об оформлении «Опытов»: «Портрета никакъ! На мѣсто его виньетку; на мѣсто его умирающаго Тасса, если кончить успѣю. Сюжетъ прекрасный!» (Ефремов 1883, кн. VII: 33; ср. Майков 1886, III: 417). 27 февраля поэт просит своего издателя: «Дай отвѣтъ на мою просьбу о переводахъ итальянскихъ» — и тут же сообщает: «Я началъ Смерть Тасса. Элегія. Стиховъ до 150 написано. Постараюсь кончить до своей смерти. И сюжетъ, и все мое. Собственная простота. Когда начнешь печатать, я и это могу выслать» (Ефремов 1883, кн. VII: 37; ср. Майков 1886, III: 419). Через неделю (4 марта) Батюшков информирует о проекте «Пантеона» Вяземского, а затем заговаривает о своем новом стихотворении: «Недавно началъ Елегїю Умирающій Тассъ. Кажется мнѣ лучшее мое Произведенїе. Стиховъ полтораста готово. Теперь перо выпало изъ рукъ и я ни съ мѣста. — Ети переводы меня утомляютъ <...> Все врѣдитъ <sic!> стихамъ и груди моей. Богъ съ нею, только бы хорошо писалось...» Далее следует неоднократно цитировавшаяся
- 159 -
программа элегии: «Но Тассъ.... а вотъ что Тассъ. Онъ умираетъ въ Римѣ. Кругомъ его друзья и монахи. Изъ окна видѣнъ <sic!> весь Римъ и Тибръ и Капитолїй куда Папы и Кардиналы несутъ вѣнецъ Стихотворцу. Но онъ умираетъ, и, въ послѣднїй желаетъ еще взглянуть на Римъ на древнее квиритовъ пепелище<.> Солнце въ сїянїи потухаетъ за Римомъ: и жизнь Поэта! вотъ сюжетъ. Пожелай чтобы хорошо кончилъ»385. Примерно в это же время, посылая Гнедичу «проспектусъ переводовъ», Батюшков обещает: «<...> я пришлю черезъ недѣли три Умирающаго Тасса, элегія, стиховъ въ 200; ее помѣстить можно будетъ въ концѣ, и такъ она печатаніе не задержитъ» (Ефремов 1883, кн. VII: 38; ср. Майков 1886, III: 421).
В течение марта было написано прозаическое примечание к элегии (о котором нам еще придется говорить особо). 22—23 марта 1817 г. Батюшков обещает своему издателю: «Элегїю Умирающій Тассъ пришлю. Она имѣетъ предисловїе на страничкѣ и стиховъ около 200, почти Александрїйскихъ»386. Наконец, к маю стихотворение было завершено и отправлено: «Я послалъ тебѣ умирающаго Тасса, а сестрица послала тебѣ чулки; не знаю, что болѣе тебѣ понравится и что прочнѣе, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдутъ: я въ этомъ увѣренъ»; «Что скажешь о Тассѣ? Утѣшь меня: похвали его, и, если хочешь, прочитай Уварову, ему одному. Желалъ бы знать его впечатлѣніе на умъ, столь образованный. А мнѣ эта бездѣлка разстроила было нервы, такъ ее писалъ усердно» (Ефремов 1883, кн. VIII: 237, 238; ср. Майков 1886, III: 437, 439). Последнюю поправку к «Умирающему Тассу» Батюшков прислал Гнедичу вместе с элегией «Беседка Муз» в мае или июне 1817 г. (Благой 1934, 526—527). Эти стихотворения напечатаны вне жанровых отделов в конце «Опытов» (Батюшков 1817а, ч. II: 243—253, 254—256).
«Элегія собственно есть пѣсня грустнаго содержанія; но въ нашей литературѣ, по преданію отъ Батюшкова, написавшаго „Умирающаго Тасса“, возникъ особый родъ исторической, или эпической элегіи», — заметил Белинский [1841а, 51; ср. Майков 1887а, I: 222—228 (1-й пагинации); Розанов 1914, 278; Фридман 1971, 272—275; и мн. др.]. Соединение исторического персонажа с повествованием от первого лица было для русской элегии еще внове: «По нашему мнѣнію, самая смѣлая родилась мысль у Автора при составленіи сего сочиненія, когда онъ въ Лирическомъ стихотвореніи заставилъ вмѣсто себя говорить самаго Тасса» (Плетнев 1823, 215). Монолог предварен введением и дополнен авторским
- 160 -
отступлением и заключением, описывающим ситуацию «со стороны» (Гаспаров 1989а, 61—62); этот прием Батюшков позаимствовал у Шарля Мильвуа, «одного изъ лучшихъ Французскихъ Стихотворцевъ нашего времени» (Батюшков 1817а, ч. II: [V]). Впервые прием обрамленного монолога русский поэт использовал в элегии «Последняя весна» (1815—1816); это подражание самой популярной элегии Мильвуа «La Chute des feuilles» («Падение листьев»), которая также содержит предсмертную речь главного героя. Из «Падения листьев» в обе элегии Батюшкова перешел мотив pour la dernière fois = въ послѣдній разъ, причем у Батюшкова он оба раза редуплицирован:
Fatal oracle d’Epidaure,
Tu m’as dit: «Les feuilles des bois
»A tes yeux jauniront encore;
»Mais c’est pour la dernière fois<»>.(Millevoye 1812, 58)387
<...> Ты бродишь слабыми стопами
Въ послѣдній разъ среди полей,
Прощаясь съ ними и съ лѣсами
Пустынной родины твоей:
«Простите рощи и долины,
«Родныя рѣки и поля!
«Весна пришла, и часъ кончины
«Неотразимый вижу я! —
«Такъ! Епидавра прорицанье
«Вѣщало мнѣ: въ послѣдній разъ
«Услышишь горлицъ воркованье
«И Гальционы тихій гласъ<»>.(Батюшков 1816д, 181—182)
Полуразрушенный, онъ видитъ грозный часъ,
Съ веселіемъ его благословляетъ,
И, лебедь сладостный, еще въ послѣдній разъ
Онъ съ жизнію прощаясь, восклицаетъ <...><...> Часъ смерти близился... и мрачное чело
Въ послѣдній разъ страдальца просіяло388.Другим образцом для «Умирающего Тасса» послужила элегия Мильвуа «Le Poète mourant» — «Умирающий поэт» (ср. Вацуро 1994, 203—229).
- 161 -
Еще одно, третье, стихотворение Мильвуа, построенное в форме обрамленного монолога, — «Les Derniers moments de Virgile», — вопреки догадкам исследователей, вряд ли могло «внушить Батюшкову идею и некоторые детали его знаменитой элегии „Умирающий Тасс“» [Савченко 1926, 77; ср. Майков 1887а, I: 409—410 (2-й пагинации)]: дело в том, что «Последние мгновения Вергилия» (написанные, разумеется, раньше «Тасса») были опубликованы только в 1822 г. (Вацуро, Мильчина 1989, 646)389.
Я не знаю, осознавали ли современники Батюшкова параллелизм «Умирающего Тасса» и стихотворений Мильвуа, но французскую «подоснову» батюшковской элегии они так или иначе ощущали. 28 апреля 1834 г. Кюхельбекер записал в своем дневнике: «Умирающій Тассъ переводъ съ французскаго; подлинникъ охотники могутъ отыскать въ французскомъ Альманахѣ музъ 90-хъ годовъ; авторъ — женщина» (Кюхельбекер 1883, 262)390. Майков и его сотрудники просмотрели французские альманахи за 1790—1801 гг., однако не нашли в них «никакого стихотворенія, которое напоминало бы по содержанію „Умирающаго Тасса“» [Майков 1887а, I: 409 (2-й пагинации)]. Лишь относительно недавно выяснилось, что искомое стихотворение всё же было напечатано в «Almanach des Muses», но не в 1790-х годах, а в 1812-м (Горохова 1979, 38—39); оно называется «Смерть Тасса» («La Mort du Tasse») и принадлежит мадам Дюфренуа (Dufrénoy 1812). Трудно сказать, был ли Батюшков знако́м с этим произведением. Лексико-фразеологических перекличек между стихотворениями Батюшкова и Дюфренуа мне обнаружить не удалось. Сходство в архитектонике едва ли не перевешивается различиями. У мадам Дюфренуа экспозиция усложнена вводным текстом — песней пламенной молодости (une ardente jeunesse), зато речь Торквато не прерывается вставкой, как у Батюшкова. Оба монолога начинаются жалобами на несправедливости судьбы (locus communis) и заканчиваются упоминанием Элеоноры, но на этом список параллелей исчерпывается: так, во французском монологе отсутствует обращение к друзьям (оно, кстати, есть в «Le Poète mourant»). Эпилог, сочиненный мадам Дюфренуа, содержит еще один вводный текст — речь ангела Славы (l’ange de la Gloire), завершающую всё стихотворение; в батюшковском эпилоге ничего подобного нет.
Еще одно важное отличие элегии Батюшкова от ее французских предшественниц заключается в стихотворном размере. Элегия «La Chute des
- 162 -
feuilles» написана 8-сложниками свободной рифмовки (в подражании Батюшкова — 4-стопный ямб с перекрестными рифмами; в заключительном строфоиде «Последней весны» рифмовка опоясывающая). «Le Poète mourant» и «La Mort du Tasse» — это вольный стих свободной рифмовки, состоящий из 12- и 8-сложников391 (русским аналогом этого размера был бы вольный ямб с чередованием 6- и 4-стопных строк). Наконец, в элегии «Les Derniers moments de Virgile» находим классические александрены с парными рифмами. На этом фоне «Умирающий Тасс» обнаруживает неоспоримую оригинальность. Для своей элегии Батюшков подобрал особый размер, который считается его изобретением: мужские шестистопники и женские пятистопники следуют в «Умирающем Тассе» через один (Томашевский 1948, XLVII; Гаспаров 1984, 120). Называя такие ямбы «стихами <...> почти Александрїйскими», поэт, видимо, намекал, что четные строки элегии должны восприниматься как «укороченные» шестистопники, в которых «отброшенная» стопа компенсируется удлинением окончания. Именно так Овидий описывал элегический дистих, в котором четные стро́ки на одну стопу короче нечетных: Pār erat īnferior versus: rīsisse Cupīdō // dīcitur atque ūnum surripuisse pedem = С первым стихом был равен второй. Купидон рассмеялся // И, говорят, у стиха тайно похитил стопу (Amor. I, 1, 3—4; перевод С. Шервинского). Возможно, Батюшков использовал разностопный ямб в качестве условного эквивалента этого размера392.
Стихотворение Батюшкова было новаторским не только по форме, но и по содержанию: первых читателей «Умирающего Тасса» поразил трагический образ гения, гонимого безжалостной судьбой. Итальянский колорит стихотворения восхитил Уварова, чье мнение так высоко ставил Батюшков: «On croirait, en lisant ce morceau, sentir quelques-unes des émanations de l’Italie» = «Читая это произведение, почти что чувствуешь дыхание Италии» (Ouvaroff 1817, 414). Однако ориентация автора на «итальянское поэтическое словоупотребление» (Вацуро 1994, 227) вызвала непонимание у Вяземского и Гнедича — Батюшкову даже пришлось отстаивать свои позиции в письме к издателю «Опытов».
2. Разъяснения по поводу «Умирающего Тасса», которые Батюшков давал Гнедичу в начале июля 1817 г., — ценнейший материал для того, кто исследует итальянский «антураж» этого стихотворения; сложность лишь в том, что батюшковское письмо само нуждается в комментариях.
- 163 -
Оно начинается ex abrupto («У меня и было: полуразрушенный онъ, а не ужь»393); далее следует серия ссылок на итальянских и латинских писателей. О стихе 47 (<...> Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей <...>) Батюшков говорит: «Подъ небомъ Италіи моей. Именно моей. У Монти, у Петрарка, я это живьемъ взялъ: quel benedetto394 моей! Вообще итальянцы, говоря объ Италіи, прибавляютъ моя. Они любятъ ее какъ любовницу. Если это ошибка противъ языка, то беру на совѣсть» (Ефремов 1883, кн. VIII: 241; ср. Майков 1886, III: 455). Майков не стал вдаваться в подробности и отделался туманной оговоркой: это выражение «дѣйствительно часто встрѣчается у италіянскихъ поэтовъ» [1887а, I: 411 (2-й пагинации)]. По мнению А. И. Некрасова, «Батюшковъ тщательно отмечалъ типичныя выраженія Петрарки и удостовѣрилъ въ томъ, что онъ ими пользовался» (1911, 212; разрядка моя. — И. П.). Но выражение Italia mia встречается у Петрарки только единожды — в первом стихе канцоны «Italia mia, benchè ’l parlar sia indarno...» («Италия моя, хоть слова бессильны...») [McKenzie 1912, 222 (s. v. Italia)]395. На русский язык канцона «Italia mia» была переведена в 1806 г. и опубликована в мартыновском «Лицее». По предположению С. Гардзонио (см. Garzonio 1988, 41—42; Гардзонио 1989а, 30), перевод принадлежал Н. И. Бутырскому:
Италія моя, страна превознесенна!
Дымится огнь и кровь внутри градовъ твоихъ;
Гнилыми ранами твое покрыто тѣло...
Кто древнюю твою похитилъ красоту?(Бутырский 1806, 3)
Если Батюшков не запомнил эти стихи со времен своего участия в журнале Мартынова, он мог обратить на них внимание, читая Женгене. Сразу после разбора канцоны «Spirto gentil», влияние которого чувствуется в батюшковской статье «Петрарка» (см. выше, с. 125), автор «Histoire littéraire» переходит к канцоне «Italia mia»: «Mais ces idées et ces sentiments dignes de l’ancienne Rome, brillent surtout dans cette belle ode que lui <Pétrarque> dicta son amour pour sa chère Italie <...> Il s’adresse à l’Italie elle-même, dont le beau corps est couvert de plaies mortelles» = «Но мысли и чувства, достойные древнего Рима, особенно блистают в той превосходной оде, которую внушила Петрарке его любовь к своей дорого́й Италии <...> Он обращается к само́й Италии, прекрасное тело которой покрыто
- 164 -
смертельными ранами» (Ginguené 1811, II: 550—551). Винченцо Монти назвал Италию bella, а не mia. Тем не менее батюшковское сравнение («<...> любятъ ее какъ любовницу») вполне оправданно — если Петрарка в канцоне «Italia mia» «обращался к родине как к прекрасной израненой женщине» (Елина 1968, стб. 719), то Монти построил зачин своего стихотворения «Bella Italia, amate sponde...» («Красавица Италия, любимые берега...») на метафоре поруганной любовницы396: Tua bellezza <...> Di stranieri e crudi amanti // T’avea posta in servitù = Твоя красота <...> Привела тебя в рабство // У пришлых жестоких любовников397.
Художественное открытие Батюшкова произвело сильное впечатление на его современников: «Въ Поэзіи встрѣчаются иногда самыя простыя выраженія, которыя однакожъ такъ удачно бываютъ употреблены, что чѣмъ больше ихъ разсматриваешь, тѣмъ болѣе находишь прекрасными. Это можно почувствовать, прочитавши стихъ:
Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей»
(Плетнев 1823, 220). Вслед за Батюшковым это «простое выраженіе» начали употреблять младшие поэты: А я, я, съ памятью живыхъ твоихъ рѣчей, // Увидѣлъ роскоши Италіи твоей! (Баратынский 1844, 220). Пушкин воспроизвел его в I главе «Евгения Онегина»: <...> Вдали Италіи своей (1, VIII, 14; об Овидии), — а затем модифицировал, применив к самому себе (1, L, 11): <...> Подъ небомъ Африки моей <...> (Пушкин 1825, 8, 40; Виноградов 1941, 414—415; Горохова 1978, 148—149; Пильщиков 1999б, 13)398. Кроме того, в черновиках «одесских» строф из «Путешествия Онегина» имеются варианты стиха <...> Европы баловень — Орфей: 1) Своей Италии Орфей; 2) Своей Авзонии Орфей (Пушкин 1937, 6: 470). Но самая ранняя парафраза «Умирающего Тасса» появляется в пушкинском «Наполеоне» (1821): <...> Изгнанник помнил звук мечей <...> И небо Франции своей <...> (Пушкин 1947, 2, кн. 1: 216); ср. у Батюшкова: <...> Младенцемъ былъ уже изгнанникъ; // Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей // Скитаяся, какъ бѣдный странникъ, // Какихъ не испыталъ превратностей судебъ?399
Продолжим комментарий к письму, в котором Батюшков отвечает друзьям на критику «Умирающего Тасса». Раскрыв Гнедичу стилевые коннотации оборота «топоним + притяжательное местоимение 1 л. ед. ч.», Батюшков возражает второму своему оппоненту: «Но скажи Вяземскому,
- 165 -
что Фортуна не есть счастіе, а существо, располагающее зломъ и добромъ, нѣчто похожее на судьбу. Ссылаюсь на прекрасную аллегорію Данте, въ Чистилищѣ его; на оду Горація; на статью Сенеки къ Луци<л>ію» (Ефремов 1883, кн. VIII: 241)400. Из трех батюшковских аллюзий точной можно назвать только ссылку на оду к Фортуне [«Ō Dīva, grātum quae regis Antium...» (Hor. Carm. 1.35)], одно из самых известных стихотворений Горация401. О каком письме Сенеки-младшего говорит Батюшков, неясно; скорее всего, это Epist. mor. 98: «Errant enim, Lūcīlī, quī aut bonī aliquid nōbīs, aut malī jūdicant tribuere fortūnam: māteriam dat bonōrum ac malōrum <...>» = «Поэтому, Луцилий, ошибаются полагающие, будто фортуна может послать нам хоть что-нибудь хорошее или дурное: от нее — только поводы ко благу или ко злу <...>» (Сенека 1977, 244; Пильщиков 1994, 218—219)402. Наконец, в связи с Данте еще Майков отметил, что «изображеніе Фортуны у Данта <...> находится не въ „Purgatorio“ <...> а въ „Inferno“, c<anto> VII, terz<ine> 21—32 <= стихи 61—96. — И. П.>» [Майков 1887а, I: 441 (2-й пагинации)]. С одой Горация к Фортуне этот эпизод «Комедии» сравнивал Женгене: «Лучшего описания фортуны не найти ни у одного поэта (on ne trouve dans aucun poète un plus beau portrait de la fortune), может быть даже у Горация, автора прекрасной оды <...> выше которой нет ничего в поэзии древних, писавших на ту же тему (au-dessus de laquelle il n’y a rien, sur le même sujet, dans la poésie antique) <...> Это одно из таких мест у Данте, которые редко цитируются (qui sont rarement cités), но которые часто перечитываются теми, кто однажды победил трудности и сумел насладиться суровыми красотами <„Inferno“>» (Ginguené 1811, II: 58—59; Пильщиков 2000а, 24). Что же касается «Чистилища», то там la fortuna упоминается всего три раза (Purg. XIX, 4; XXVI, 36; XXXII, 116), и ни один из этих фрагментов не соответствует батюшковской «ссылке»403. В общем и целом, однако, Батюшков был прав: начиная с Проторенессанса, в итальянской поэзии Фортуна — «слепая случайность», которая обычно трактуется «не как удача, а как злосчастье» (Хлодовский 1982, 20).
Самый сильный аргумент Батюшков приберег напоследок: «Изрытыя пучины и громъ не умолкалъ — оставь. Это слова самаго Тасса въ одной его канцонѣ; онъ зналъ, что говорилъ о себѣ» (Ефремов 1883, кн. VIII: 241; ср. Майков 1886, III: 455—456). Батюшков имеет в виду стихи 53—61 из монолога Торквато:
- 166 -
Соренто! колыбель моихъ нещастныхъ дней,
Гдѣ я въ ночи, какъ трепетный Асканій,
Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей,
Отъ сладостныхъ объятій и лобзаній:
Ты помнишь сколько слезъ младенцемъ пролилъ я!
Увы! съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины,
Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія.
Фортуною изрытыя пучины
Разверзлись подо мной и громъ не умолкалъ!По поводу этих строк Плетнев заметил: «Нашъ поэтъ такъ изучилъ напередъ свой предметъ, что привелъ нѣкоторыя мѣста точно изъ сочиненій Тасса, какъ напримѣръ: сравненіе съ Асканіемъ» (1823, 220). Хотя о том, что Тассо сравнивал себя с Асканием, Батюшков мог узнать, не обращаясь к оригинальным текстам итальянского поэта (см. ниже, с. 168), суждение Плетнева справедливо в главном: весь отрывок представляет собой пересказ стихов 31—40 знаменитой канцоны Тассо «К Метавру» [«O del grand’ Apennino...»; см. Майков 1887а, I: 410—411 (2-й пагинации); Varese 1969, 25; 1970, 95—96; Горохова 1978, 142 примеч. 87, 148 примеч. 106]. Ср.:
Me dal sen de la madre empia fortuna
Pargoletto divelse, ah di que’ baci
Ch’ ella bagnò di lagrime dolenti
Con sospir mi rimembra, e de gli ardenti
Pregi che sen portar l’aure fugaci
Che i’ non dovea giunger più volto à volto
Fra quelle braccia accolto
Con nodi così stretti, e si tenaci,
Lasso, e seguii con mal sicure piante
Qual’ Ascanio, o Camilla il padre errante404.(= Меня от лона матери злая фортуна
Младенцем отторгла; о, об этих поцелуях,
Которые она омывала скорбными слезами,
Вспоминаю со вздохом, и о жарких
Мольбах, которые унесли мимолетные ветры,
Ибо я не мог больше приникнуть лицом к ее лицу,
Удерживаемый в ее объятиях
Столь крепкими и прочными узами;
Увы, и я последовал неуверенными шагами,
Как Асканий или Камилла, за скитающимся отцом.)
- 167 -
Надо полагать, Батюшков хотел опереться на авторитет этого произведения, из которого в его элегию перешел образ злой, карающей Фортуны (empia fortuna; <...> quella cruda // E cieca dea <...>). И несмотря на это ссылки на «Al Metauro» недостаточно, чтобы правильно понять стихи 60—61, о которых идет речь в письме к Гнедичу: в них Батюшков привлек параллельные мотивы из других произведений Тассо. «Жестокая Фортуна» — лейтмотив стихотворений, написанных в то время, когда поэт был заключен в больнице Св. Анны. Отсюда же темы глубокой пропасти, темницы и т. д. (cava profonda, carcer profondo); о «пучинах Фортуны», в частности, говорится в сонете «Signor, nel precipizio ove mi spinse...»405. Идея «падения» получает у Тассо дополнительную аранжировку, связанную с образом Фаэтона; может быть, поэтому у Батюшкова в словах Торквато появляются мотивы грома, молний и разъяренного неба (стихи 61, 65, 84)406. Таков, по-видимому, круг основных поэтических источников монолога «Умирающего Тасса»407.
3. Хотя пушкинское поколение отказало герою этой элегии и в исторической достоверности, и в художественной убедительности (см. далее, с. 181 наст. изд.), в течение некоторого времени образ, созданный Батюшковым, сохранял для современников очарование исторической подлинности: «Читатель начала <18>20-х г<одов> ценил в „Умирающем Тассе“ <...> соответствие <...> колорита исповедующемуся персонажу и „точность“ описаний» (Флейшман 1968, 34; ср. Вацуро 1994, 227; и др.). Такому восприятию способствовали не только цитаты из итальянской поэзии (в том числе эпиграф, заимствованный из трагедии Тассо «Торрисмондо»), но и обширное биографическое примечание, которым автор сопроводил элегию: возникает впечатление, что «работая над ней, Батюшков внимательно изучал личность Тассо и его эпоху» (Фридман 1971, 204). По-видимому, на подобную реакцию рассчитывал и сам стихотворец. 4 марта 1817 г. он рассказывал Вяземскому: «Перечиталъ все что писано о Нещастномъ Тассѣ: напитался Ерусалимомъ»408, — а в июне Батюшков спрашивал Жуковского: «Понравился ли мой Тассъ? Я желалъ бы этого. Я писалъ его съ горяча, исполненный всѣмъ, что прочелъ объ этомъ великомъ человѣкѣ» (Бартенев 1870, стб. 1712). При всём том словечко сгоряча, за которым может скрываться признание в некой торопливости, настораживает и побуждает пристальнее рассмотреть вопрос, какими сведениями о своем герое располагал автор на деле.
- 168 -
Майков думал, что Батюшков «познакомился» с жизнеописаниями Тассо не поздне́е 1808 г.: уже́ тогда он «читывалъ старинныя біографіи италіанскаго поэта, и собственно по нимъ составилось у него представленіе о „пѣвцѣ Іерусалима“» [Майков 1887а, I: 74, 231 (1-й пагинации)]. К такому выводу ученого подтолкнули сноски, которыми Батюшков снабдил свое послание «К Тассу»: «Торквато былъ жертвою любви и зависти. Всѣмъ любителямъ словесности извѣстна жизнь его»; «Тассо десяти лѣтъ отъ роду писалъ стихи и будучи принужденъ бѣжать изъ Неаполя съ отцемъ своимъ, сравнивалъ себя съ молодымъ Асканьемъ. До тридцатилѣтняго возраста кончилъ онъ безсмертную поэму Іерусалима, написалъ Аминту, много разсужденій о словесности и пр.» (Батюшков 1808б, 62—63 примеч. 3—4). К сожалению, Майков не задался целью установить, на какие именно источники опирался Батюшков.
Формула жертва любви и зависти восходит к начальным строкам «Épître au Tasse» Лагарпа:
O toi que le destin, complice de l’envie
Accabla d’un malheur égal à ton génie,
Toi qu’attendit la gloire au moment de la mort,
Victime des tyrans, de l’amour et du sort;
Aimable Torquato! <...>[= О ты, которого рок, сообщник зависти // Обременил злосчастьем, равновеликим твоему гению, // Ты, достигший славы в свой смертный час, // Жертва тиранов, любви и судьбы; // Любезный Торквато! <...> (La Harpe 1806, III: 151)]. Во второй сноске Батюшков отчасти повторяет слова́ Лагарпа из его примечания к «Épître au Tasse»: «Le Tasse, né à Sorrento le 11 mars 1544, fut obligé de quitter à neuf ans le royaume de Naples, et de fuir avec son père, qui était attaché, en qualité de secrétaire, au prince de Salerne, Sansévérino, alors proscrit par Charles-Quint avec tous les siens. Il fit des vers sur sa disgrace, dans lesquels il se compare au jeune Ascagne, fuyant avec Énée» = «Тасс, родившийся в Сорренто 11 марта 1544, был вынужден в девятилетнем возрасте покинуть Неаполитанское королевство и бежать со своим отцом, состоявшим в должности секретаря при принце Салернском Сансеверино, который был тогда изгнан Карлом V вместе со всеми приближенными. Он написал стихи по случаю своей опалы, где сравнивает себя с молодым Асканием, который убегает с Энеем» (La Harpe 1806, III: 151 n. 1). Примечание Лагарпа поясняет читателю
- 169 -
выражение proscrit à neuf ans = изгнанный в девятилетнем возрасте (стих 22). Именно эта деталь была Батюшковым изменена.
Историю об изгнании Бернардо и Торквато из Неаполя поведал первый биограф Тассо — Дж.-Б. Мансо, маркиз де Вилла409. В XVII—XVIII вв. ее пересказывали все биографы-компиляторы, в частности аббат Ж.-А. Дешарн [«La Vie du Tasse» (De Charnes 1690)], Ж.-Б. Мирабо [«Abrégé de la vie du Tasse» (Mirabaud 1724, I: lj—lxxxiv)] и Вольтер («Essai sur la Poésie épique», гл. VII). Очерк Мирабо, озаглавленный в издании 1735 г. «Vie du Tasse», был переведен на русский М. Поповым [«Жизнь Тассова» (Попов 1772, ч. I: i—xxv)] и Я. Галинковским [«Жизнь Тасса» (Галинковский 1804, 90—125; ср. Горохова 1978, 122)]. Можно с большой степенью уверенности говорить о знакомстве Батюшкова с «Опытом об эпической поэзии» Вольтера и с очерком Попова, чьей книгой поэт пользовался, работая над переводом «Освобожденного Иерусалима»410. Все эти авторы воспроизводят несколько биографических неточностей, допущенных Мансо, который утверждал, что Торквато «на седьмом году жизни» начал «сочинять и читать публично прозу и стихи» (= «<...> feci egli così felici avanzi <...> che compiuto il settimo anno dell’ età sua compose, e recitò publicamente orationi, e versi»), а в девятилетнем возрасте бежал со своим отцом из Неаполя и написал по этому поводу канцону «O del grand’ Apennino...» («К Метавру»), где сравнивал себя с Асканием. Вот как эти сведения излагает Вольтер: «Le Tasse naquit à Sorrento en 1544 le 11 mars <...> Son père <...> s’était attaché au prince de Salerne, qui fut dépouillé de sa principauté par Charles-Quint»; «Son génie poëtique <...> se manifesta dès son enfance. Il fesait des vers à l’âge de sept ans» (Voltaire 1785, X: 379) = «Тассъ родился въ Соррентѣ 11 Марта 1544 года <...> Отецъ его <...> присталъ къ Салернскому Принцу, котораго Карлъ V лишилъ Княжества»; «Стихотворческїй его Генїй <...> началъ оказываться съ самаго младенчества. На седьмомъ году онъ сочинялъ уже стихи» (Остолопов 1802, 78—79). Ср. у Мирабо — Попова: «<...> маленькїй Торкватъ <...> на седьмомъ году жизни (à sept ans) <...> <прочитывалъ> привсенародно <...> сочиненьица, въ прозѣ и въ стихахъ (en Prose & en Vers), имъ самим составленныя <...> Бернардо Тассо послѣдовалъ Салернскому Принцу, и увезъ съ собою сына своего Торквата, которому не болѣе было тогда девяти лѣтъ (qui n’avoit alors que neuf ans) <...> Онъ сочинилъ на сей случай весьма прекрасные стихи (il fit à cette occasion de très-jolis vers), в которыхъ
- 170 -
оплакиваетъ свое несчастїе, и сравниваетъ себя съ юнымъ Асканїемъ (où il se compare au jeune Ascanius)» (Попов 1772, ч. I: II—IV; Mirabaud 1724, I: liij—lvj; ср. Галинковский 1804, 91—94; а также De Charnes 1690, 12—13, 16).
Эти данные были опровергнуты вторым биографом Тассо, аббатом П. Серасси, доказавшим, что Торквато стал «сочинять <...> как прозу, так и стихи не на седьмом, как того хочет Мансо, а на десятом году жизни (scrivere cosí in prosa come in versi, che compiuto non il settimo, come vuole il Manso, ma il decimo anno dell’ età sua)», что Неаполь он покинул только в 1554 г. (то есть в возрасте десяти лет), а канцона «O del grand’ Apennino...» была написана много позже — в 1578 г. (Serassi 1790, I: 54, 64—65 n. 4). В 1800-е годы труд Серасси, вышедший первым изданием в 1785 г. и переизданный с исправлениями и дополнениями в 1790-м, был единственным исследованием, содержавшим указанные хронологические поправки; только в следующем десятилетии они получили широкую известность благодаря Женгене. Ж.-Б.-А. Сюар, составивший на рубеже веков «Заметку о жизни и характере Тасса» («Notice sur la vie et le caractère du Tasse»), всё еще пользовался сведениями Мансо411. За это его критиковал автор «Histoire littéraire»: «Преданность Бернардо принцу Салернскому привела к тому, что он был объявлен мятежником; когда после двух лет пребывания во Франции он вернулся в Рим, то призвал к себе своего сына. Юный Торквато, вынужденный покинуть свою нежную мать <...> написал ей трогательный сонет <...> который наш последний биограф <Сюар> спутал с прекрасной канцоной, сочиненной более чем двадцать лет спустя <„O del grand’ Apennino...“>»; «Еще более серьезное заблуждение, в которое ввел Сюара Мансо, — это то, что Торквато, будучи всего лишь девяти лет от роду, был формально включен в приговор, вынесенный его отцу. Таковое обстоятельство, несомненно, прибавляет интереса к первым годам жизни Тасса; но оно не соответствует действительности, поскольку он оставался в Неаполе на протяжении более чем двух лет после вынесения этого приговора (с 1552 по 1554)» (Ginguené 1812, V: 160—161)412.
Из трех поправок Серасси Батюшков учел одну («Тассо десяти лѣтъ отъ роду писалъ стихи»)413. Поэтому у нас нет достаточных оснований считать, что исследование Серасси Батюшкову было известно — вероятно, правильную информацию он получил от кого-то из знакомых (может быть, от М. Н. Муравьева). Из дальнейшего станет ясно,
- 171 -
что и в 1817 г. книгой второго биографа Тассо Батюшков не воспользовался.
Биографическое «Примечание к Элегии Умирающий Тасс», написанное в марте 1817 г., было напечатано на специальных (ненумерованных) страницах, помещенных во II томе «Опытов в Стихах и Прозе». Начальный и заключительный абзацы «Примечания» напрямую связывают элегию 1817 года с посланием 1808-го: 1) «Не одна Исторія, но Живопись и Поэзія неоднократно изображали бѣдствія Тасса. Жизнь его конечно извѣстна любителямъ Словесности» (Батюшков 1817а, ч. II: [VI]) — «Всѣмъ любителямъ словесности извѣстна жизнь его» (Батюшков 1808б, 62 примеч. 3); 2) «Да не оскорбится тѣнь великаго Стихотворца, что сынъ угрюмаго сѣвера, обязанный Іерусалиму лучшими, сладостными минутами въ жизни, осмѣлился принесть скудную горсть цвѣтовъ въ ея воспоминаніе!» (Батюшков 1817а, ч. II: [VIII]) — Позволь, священна тѣнь! безвѣстному пѣвцу // Коснуться къ твоему безсмертному вѣнцу // И сладость пѣнія твоей Авзонской Музы, // Достойной береговъ прозрачной Аретузы, // Рукою слабою на лирѣ повторить <...> (Батюшков 1808б, 62).
Вопрос о генезисе фактографических фрагментов «Примечания» долгое время считался решенным. В свое время Майков указал две книги, которые поэт, по его мнению, использовал: «Мы только отчасти знаемъ, что̀ именно было прочитано Батюшковымъ касательно жизни Тасса: это — главы, посвященныя ему въ „Histoire littéraire d’Italie“ Женгене и въ сочиненіи Сисмонди о литературахъ южной Европы» [Майков 1887а, I: 231 (1-й пагинации), ср. 410 (2-й пагинации); 1896, 176]414. Утверждение Майкова повторялось всеми последующими комментаторами (Благой 1934, 522; Фридман 1964, 310; 1971, 204—205 примеч. 195; Семенко 1977, 569; Зорин, Песков, Проскурин 1986, 472; Кошелев 1989, 465; Зорин 1989, 641; Вацуро 1994, 226; и др.). Между тем невозможно обнаружить никаких совпадений между текстом Батюшкова и посвященными Тассо главами «De la littérature du midi» Сисмонди (часть XIII главы и вся глава XIV). Непосредственным источником батюшковского «Примечания» послужила XIV глава II части «Histoire littéraire» Женгене (т. V), на которого ссылается и сам Батюшков («<...> говоритъ Жингене, въ Исторіи Литтературы Италіанской <...>»). В этом разделе Женгене близко следует изложению Серасси, с чьей книгой Батюшков тоже не сверялся (Pilshchikov 1994b, 116—123). Ниже я привожу
- 172 -
результаты сличения текстов Батюшкова и Женгене (с привлечением параллельных мест из Сисмонди и Серасси):
1) «Т. Тассъ приписалъ свой Іерусалимъ Альфонсу, Герцогу Феррарскому: (o magnanimo Alfonso!..); и великодушный415 Покровитель, безъ вины, безъ суда, заключилъ его въ больницу С. Анны, т. е. въ домъ сумасшедшихъ» (Батюшков 1817а, ч. II: [VI]) — ср.: «Il <le Tasse> résolut de dédier son poëme au duc Alfonse»; «Le duc <...> donna ordre que le Tasse fût conduit à l’hôpital Ste.-Anne, qui était une maison de fous»; «Comment n’avait-il pas couru briser ses chaînes, en relisant, dans l’édition qui lui avait été dédiée, cette invocation sublime et touchante: „Toi, magnanime Alfonse <...>?“ — Et c’était lui, c’était <...> Alfonse <...>» = «Он <Тасс> решил посвятить свою поэму герцогу Альфонсу»; «Герцог <...> приказал препроводить Тасса в больницу Св. Анны, которая была домом сумасшедших». «Как не бросился он разорвать его цепи, перечитывая в посвященном ему издании это возвышенное и трогательное обращение: „Ты, великодушный Альфонс <...>“?» (Ginguené 1812, V: 172, 225, 255—256). Ни Серасси, ни Сисмонди не вспоминают в связи с заточением Тассо октаву «O magnanimo Alfonso...» (Ger. lib. I, iv). Кроме того, Серасси более осторожен, чем Женгене: «<...> quivi <nello Spedale di S. Anna> oltre agli ammalati di povera condizione, si custodivano anche i Pazzarelli» = «<...> там <в больнице Св. Анны>, помимо тяжело больных, содержались также Сумасшедшие» (Serassi 1790, II: 33 n. 1)416.
2) «Тамъ <въ больницѣ> его видѣлъ Монтань, путешествовавшій по Италіи въ 1580 году. Странное свиданіе въ такомъ мѣстѣ перваго Мудреца временъ новѣйшихъ съ величайшимъ Стихотворцемъ!.. Но вотъ что Монтань пишетъ въ Опытахъ: „Я смотрѣлъ на Тасса еще съ большею досадою, нежели сожалѣніемъ; онъ пережилъ себя; не узнавалъ ни себя, ни твореній своихъ. Они безъ его вѣдома, но при немъ, но почти въ глазахъ его, напечатаны неисправно, безобразно“» (Батюшков 1817а, ч. II: [VI]) — ср.: «C’est dans cet état vraiment déplorable <...> que notre Michel Montaigne le <le Tasse> vit en passant à Ferrare. Il en fut si frappé que de retour en France il consigna dans ses Essais l’impression qu’il en avait reçue <...> Se figure-t-on quels devaient être l’air et les regards d’un homme tel que le Tasse, montré à des étrangers, dans sa loge, comme un insensé?»; «„J’eus, dit-il, plus de despit encore que de compassion de le voir à Ferrare en si piteux estat, survivant à soy-mesme, mescoignoissant et soy et ses ouvrages, lesquels sans son sceu, et toutefois à sa veue, on a mis en lumiere,
- 173 -
incorrigez et informes.“ (Ess. de Montaigne, l. II, c. 12.) Il est à remarquer que Montaigne passa en novembre 1580 à Ferrare, en se rendant à Rome» = «В этом-то действительно плачевном состоянии <...> наш Мишель Монтень видел его <Тасса>, проезжая через Феррару. Он был настолько этим поражен, что по возвращении во Францию описал полученное впечатление в своих Опытах <...> Можно ли себе представить, каков был облик и вид человека, подобного Тассу, когда его показывали иностранцам, да еще в таком месте, как сумасшедшего?» (далее следует цитата из Монтеня с отсылкой к Ess. II, 12); «Нужно заметить, что Монтень проезжал через Феррару в ноябре 1580 г., направляясь в Рим» (Ginguené 1812, V: 254—255). Сисмонди сообщает о неавторизованной публикации поэмы Тассо без ссылки на Монтеня417. У Серасси цитата из Монтеня приведена не полностью (до слов ...ses ouvrages) и в ином контексте418.
3) «Тассъ, къ дополненію нещастія, не былъ совершенно сумасшедшій, и, въ ясныя минуты разсудка, чувствовалъ всю горесть своего положенія» (Батюшков 1817а, ч. II: [VI]) — ср.: «Les maux du corps se joignirent à ceux de l’ame; et quand la fièvre <...> fut calmée, il n’en ressentit que plus douloureusement le malheur et la honte de sa position» = «Телесные страдания дополнялись душевными; и когда горячка <...> утихала, он лишь мучительнее ощущал несчастье и позор своего положения» (Ginguené 1812, V: 225—226)419.
4) «Наконецъ <...> Тассъ былъ освобожденъ. (Заключеніе его продолжалось семь лѣтъ, два мѣсяца и нѣсколько дней)» (Батюшков 1817а, ч. II: [VI]) — ср.: «La liberté fut enfin accordée, et le Tasse sortit de Ste.-Anne, après sept ans, deux mois et quelques jours de la plus triste et de la plus cruelle captivité» = «Наконец ему была предоставлена свобода, и Тасс вышел из больницы Св. Анны после семи лет, двух месяцев и нескольких дней прискорбнейшего и жесточайшего заключения» (Ginguené 1812, V: 270)420. Срок заключения Торквато в больнице Св. Анны Батюшков дает по Женгене, а не по Сисмонди, который пишет: «Le Tasse passa sept ans enfermé à l’hôpital des fous» = «Тасс провел семь лет заточенным в сумасшедшем доме» (Sismondi 1813, II: 169).
5) «Папа Климент VIII, убѣжденный просбами <sic!> Кардинала Цинтіо, племянника своего <...> назначилъ ему <Тассу> Тріумфъ въ Капитоліѣ; „Я вамъ предлагаю вѣнокъ лавровый, сказалъ ему Папа, не онъ прославитъ васъ, но вы его!“ Со временъ Петрарка (во всѣхъ отношеніяхъ щастливѣйшаго Стихотворца Италіи), Римъ не видалъ подобнаго
- 174 -
торжества» (Батюшков 1817а, ч. II: [VII]) — ср.: «<L>e cardinal Cinthio <...> imagina <...> de faire renouveler pour lui <le Tasse> la cérémonie du triomphe au Capitole, qu’on n’avait pas revue depuis Pétrarque <...> Le pape, sollicité par son neveu, en porta le décret». «<Le pape> lui dit <...> „Je vous offre la couronne de laurier, pour qu’elle reçoive de vous autant d’honneur qu’elle en a fait à ceux qui l’ont reçu avant vous“» = «Кардинал Чинцио <...> вздумал <...> возобновить для него <Тасса> церемонию триумфа на Капитолии, невиданную со <времен> Петрарки <...> Папа, уступив просьбам своего племянника, издал по этому поводу указ». «Папа сказал ему <Тассу> <...> „Я предлагаю вам лавровый венок, потому что вы удостоите его такой же чести, какой он удостоивал тех, кто получал его до вас“» (Ginguené 1812, V: 294—295). О комплименте папы сообщают все биографы, кроме Сисмонди (см. De Charnes 1690, 251; Mirabaud 1724, I: lxxxij; Попов 1772, ч. I: xxiii; Voltaire 1785, X: 382; Serassi 1790, II: 256; Остолопов 1802, 84; Suard 1803, lxv; и др.). Вводную фразу Батюшков взял у Женгене. Противопоставление счастливой судьбы Петрарки несчастьям Тасса, вероятно, восходит к Лагарпу [La Harpe 1778, VI: 15—16 (ср. наст. изд., примеч. 65 на с. 195)]. Впрочем, об этом писали и другие авторы, например Карамзин в «Дарованиях», где к стихам: Различны Пѣснопѣвцевъ доли: // Не всѣ восходятъ въ Капитолїй // Съ вѣнками на главѣ своей, // При гласѣ трубъ, народномъ плескѣ <...> — сделано примечание: «Какъ на примѣръ, Петрарка. Такая же честь готовилась Тассу; но онъ умеръ за нѣсколько дней до назначеннаго торжества» (Карамзин 1797, 368—369; Горохова 1980, 158—159).
6) «Жители его <Рима>, жители окрестныхъ городовъ, желали присутствовать при вѣнчаніи Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья Стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. Въ Апрѣлѣ все было готово, но болѣзнь усилилась. Тассъ велѣлъ перенести себя въ монастырь С. Онуфрія; и тамъ — окруженный друзьями, и братіей мирной обители, на одрѣ мученія, ожидалъ кончины» (Батюшков 1817а, ч. II: [VII]) — ср.: «On aurait fait sur le-champs les préparatifs de la cérémonie, si la saison déjà froide et pluvieuse n’eût forcé de les différer. Le cardinal Cinthio voulant <...> que le peuple entier pût jouir de ce spectacle, en fit rejeter l’époque au printemps. Pendant l’hiver, la santé du Tasse alla toujours en déclinant»; «Au mois d’avril, époque fixée pour son couronnement, il se sentit extraordinairement affaibli. Ne voulant plus être occupé que de sa
- 175 -
fin prochaine, il demanda au cardinal la permission de se retirer dans le couvent de St<.->Onuphre. Cinthio l’y fit conduire» = «Приготовления к церемонии начались бы немедленно, если бы холодное и дождливое время года не вынудило отложить их. Кардинал Чинцио, желая <...> чтобы весь народ мог насладиться этим зрелищем, перенес его срок на весну. В течение зимы здоровье Тасса постоянно ухудшалось»; «В апреле месяце, в то время, которое было назначено для увенчания, он почувствовал необычайную слабость. Не желая более заниматься ничем, кроме своей приближающейся кончины, он испросил у кардинала разрешения удалиться в монастырь Св. Онуфрия. Чинцио велел препроводить его туда» (Ginguené 1812, V: 295—297; ср. Serassi 1790, II: 256—257, 263—264). Все детали последнего года жизни Тассо были заимствованы Батюшковым у Женгене. В книге Сисмонди этот эпизод изложен предельно кратко: «Enfin, le cardinal Cinzio Aldobrandini le prit à Rome dans sa maison; il avait préparé pour lui une fête dans laquelle le Tasse devait être couronné au Capitole; mais la mort devança cette cérémonie» = «Наконец, Кардинал Чинцио Альдобрандини принял Тасса в Риме в своем доме; он приготовил для него празднество, во время которого Тасс должен был быть увенчан на Капитолии; но смерть опередила эту церемонию» (Sismondi 1813, II: 170).
7) «Къ нещастію, вѣрнѣйшій его пріятель<,> Костантини, не былъ при немъ, и умирающій написалъ къ нему сіи строки, въ которыхъ, какъ въ зеркалѣ, видна вся душа Пѣвца Іерусалима» (Батюшков 1817а, ч. II: [VII]) — ср.: «<...> se trouvant encore plus faible, il sentit qu’il était temps de faire ses adieux à l’ami qu’il avait éprouvé le plus fidèle; il écrivit à Costantini cette lettre, sur laquelle je ne crois pas avoir besoin de prévenir la sensibilité des lecteurs» = «<...> ощущая всё бо́льшую слабость, он почувствовал, что настало время попрощаться с другом, который оказался самым верным; он написал к Костантини это письмо, смысл которого, я полагаю, мне не придется изъяснять чувствительным читателям» (Ginguené 1812, V: 297). Этот пассаж принадлежит Женгене; у Серасси письмо Тассо предварено словами: «Ecco il tenor della lettera» = «Вот содержание письма» (Serassi 1790, II: 265). У Сисмонди «сентиментальное» письмо к Антонио Костантини вообще не приведено; он упоминает последние письма Тассо лишь мимоходом и сообщает, что они переполнены подробностями финансовых неурядиц [«Ses dernières lettres sont remplies de détails sur ses embarras pécuniaires» (Sismondi 1813, II: 170)].
- 176 -
Письмо Тассо к Костантини Батюшков перевел из Женгене (Ginguené 1812, V: 297—298), не заглядывая в итальянский оригинал [который можно было найти в собраниях сочинений Тассо или в исследовании Серасси (см. Serassi 1790, II: 265)]. Нужно добавить, что в основном тексте книги Серасси этот исторический персонаж именуется Antonio Costantino, и только в указателе имен (Serassi 1790, II: LXXV) его фамилия приведена в форме Costantini, которую употребляет Женгене, а вслед за ним Батюшков. Сопоставив тексты Батюшкова (1817а, ч. II: [VII—VIII]), Женгене и Тассо, мы увидим, что во всех тех случаях, когда французская версия расходится с итальянским подлинником, русский перевод следует за французским (соответствующие фрагменты в нижеследующих цитатах набраны разрядкой):
«Что скажетъ мой Костантини, когда узнаетъ о кончинѣ своего милаго Торквато?»
«Que dira mon cher Costantini quand il apprendera la mort de son cher Tasso?»
«Che dirà il mio signor Antonio quando udirà la morte del suo Tasso?»
«<...> не хочу упоминать о неблагодарности людей!»
«<...> pour ne pas dire de l’ingratitude des hommes».
«<...> per non dire dell’ingratitudine del mondo».
«<...> я любя и уважая тебя въ сей жизни, и въ будущей — которая есть настоящая — не премину все совершить, чего требуетъ истинная, чистая любовь къ ближнему».
«<...> comme je vous ai toujours aimé et honoré en cette vie, je ferai aussi pour vous dans l’autre, qui est la véritable, ce qui convient à une charité vrai et sincère».
«<...> siccome vi ho amato ed onorato sempre nella presente vita, così farò per voi nell’altra più vera, ciò che alla non finta, ma verace carità s’appartiene».
«Поручаю тебя благости небесной, и себя поручаю».
«Je vous recommande à la grâce divine, et je m’y recommande moi-même».
«<...> ed alla Divina grazia raccommando voi, e me stesso».
М. Ф. Варезе пишет, что в батюшковском «Примечании» «отрывок из письма к Антонио Костантини <...> воспроизведен почти буквально (è riportato quasi letteralmente)» (Varese 1969, 25). Это справедливо по отношению
- 177 -
к Женгене, который перевел Тассо почти дословно. Что же касается Батюшкова, то его перевод не всегда верен даже тексту-посреднику.
8) «Тассъ умеръ 10 Апрѣля на пятьдесятъ первомъ году, исполнивъ долгъ Христіанскій съ истиннымъ благочестіемъ» (Батюшков 1817а, ч. II: [VIII]). Знаменитая ошибка Батюшкова (Тассо умер не 10-го, а 25-го апреля) может объясняться только невнимательным чтением Женгене: это единственный автор, у которого абзац, посвященный смерти Тассо (он следует непосредственно за переводом письма к Антонио Костантини), начинается с даты начала болезни поэта (10 апреля) — ср.: «Le 10 avril, une fièvre ardente le <le Tasse> saisit, et après avoir, pendant quatorze jours de maladie, rempli tous les devoirs du culte qu’il professait avec tant de zèle et de sincérité, il expira le 25, âgé de cinquante-un ans, un mois et quelques jours» = «10 апреля его <Тасса> охватил сильный жар, и, исполнив — в течение четырнадцати дней болезни — долг религии, которую он исповедовал с таким усердием и искренностью, он испустил дух 25-го, в возрасте пятидесяти одного года, одного месяца и нескольких дней» (Ginguené 1812, V: 298). В книге Серасси обе даты разделены несколькими страницами текста (см. Serassi 1790, II: 265, 269), а у Сисмонди (который, кстати, ничего не говорит о «devoirs du culte») приведена только одна дата: «Le poète <...> mourut à Rome, le 25 avril 1595, âgé de cinquante et un ans» (Sismondi 1813, II: 170).
9) «Весь Римъ оплакивалъ его. Кардиналъ Цинтіо былъ неутѣшенъ, и желалъ великолѣпіемъ похоронъ вознаградить утрату Тріумфа. По его приказанію — говоритъ Жингене, въ Исторіи Литтературы Италіанской, — <т>ѣло Тассово было облечено въ Римскую тогу, увѣнчано лаврами и выставлено всенародно. Дворъ, оба дома Кардиналовъ Альдобрандини, и народъ многочисленный провожали его по улицамъ Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще разъ на того, котораго Геній прославилъ свое столѣтіе, прославилъ Италію, и который столь дорого купилъ позднія, печальныя почести!...
Кардиналъ Цинтіо (или Чинціо) объявилъ Риму, что воздвигнетъ Поэту великолѣпную гробницу. Два Оратора приготовили надгробныя рѣчи, одну Латинскую, другую Италіянскую. Молодые Стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть Кардинала была непродолжительна, и памятникъ не былъ воздвигнутъ» (Батюшков 1817а, ч. II: [VIII]). Ссылкой на «Историю» Женгене Батюшков отмечает место, где близкий к тексту пересказ переходит в буквальный перевод: «Rome entière
- 178 -
pleura sa mort. Le cardinal Cinthio ne pouvait se consoler d’avoir retardé cette pompe triomphale qu’il avait préparée; mais il voulut du moins que dans sa pompe funèbre on rendit aux restes de ce grand homme tous les honneurs qu’il pouvait encore recevoir»; «Par son ordre, le corps du Tasse revêtu d’une toge romaine, et couronné de lauriers, fut exposé publiquement, et ensuite porté dans les principales rues de Rome, entouré d’un nombreux cortége, de toute la cour Palatine, et des maisons des deux cardinaux neveux. On courait en foule, pour voir encore une fois celui dont le génie avait honoré son siècle et qui avait acheté si cher ce triste et tardif hommage <...> Le cardinal Cinthio, annonça le projet de lui élever un tombeau magnifique. Deux orateurs préparèrent des oraisons funèbres, l’une latine, l’autre italienne; de jeunes poètes composèrent des vers et des inscriptions pour ce monument; mais la douleur du cardinal apparemment s’affaiblit <...> et le tombeau ne fut point érigé» (Ginguené 1812, V: 299—300). Примечательно, что Женгене, на которого с пиететом ссылается Батюшков, позаимствовал это описание у аббата Серасси, которого Батюшков даже не упоминает (см. Serassi 1790, II: 270—272).
Итак, фактологическую часть примечания к «Умирающему Тассу» нужно считать сокращенным переводом из V то́ма «Histoire littéraire» (с. 225—226, 254—255, 270, 294—300). 301-ой страницы Батюшков, очевидно, уже́ не прочел, иначе бы он не сделал второй ошибки, приняв начало надписи на могиле Тассо за полный текст эпитафии: «Въ обители С. Онуфрія, смиренная братія показываютъ <sic!> и понынѣ путешественнику простый камень съ этой надписью: Torquati Tassi ossa hic jacent <= Здесь лежат кости Торквато Тассо>. Она краснорѣчива». На 301-ой странице V то́ма «Истории» Женгене Батюшков мог бы найти продолжение эпитафии, а также сообщение о том, что и эта, достаточно длинная, надпись, была позже заменена другой, еще более пространной («une inscription élégante, mais trop longue pour être rapportée ici»). Сюар в своей «Заметке о жизни и характере Тасса» иронизировал по поводу того, что обширную эпитафию Торквато часто путают с лаконичной надписью на могиле его отца Бернарда421. Но Батюшков не заглянул и в заметку Сюара. Таким образом, его утверждение в письме к Вяземскому от 4 марта 1817 г. («Перечиталъ все что писано о Нещастномъ Тассѣ») следует расценивать как своего рода рекламное преувеличение. У Батюшкова были все основания признаться, что он «много обязанъ» покойному Женгене. А вот исследования Сисмонди у Батюшкова в эти дни под рукой не
- 179 -
было; в том же письме он просит Вяземского: «Кстатѣ о книгахъ. Пришли мнѣ Сисмонди. Я обратно перешлю. Онъ мнѣ очень нуженъ»422.
Книга была необходима для составления очерка истории итальянской литературы (его предварительные заглавия: «Взгляд на словесность итальянскую» и «Обозрение Итальянской Словесности»). Для этого обзора поздней весной или летом 1817 г. Батюшков делал конспект Сисмонди в тетради «Чужое: мое сокровище!» (ср. Майков 1885, II: 531)423. Раздел «Seicentisti» содержит выписки из главы́ XVI, раздел «Осьмойнадесять вѣкъ» — из глав XVII, XVIII, XIX и XXII (никак не отражены гла́вы XX—XXI, посвященные Альфьери, с чьим творчеством Батюшков был знако́м424), раздел «Современники наши» составляют выдержки из главы́ XXII (пропущены страницы, посвященные Касти: «Я его знаю»)425. Работа над очерком прервалась, по-видимому, на подготовительной стадии. Майков противопоставлял историка Женгене («трудъ его имѣетъ значеніе только какъ сборникъ фактовъ») и эстетика Сисмонди: «Батюшковъ, познакомившійся съ книгой Сисмонди позже, чѣмъ съ сочиненіемъ Женгене, бралъ изъ послѣдняго фактическія указанія и отдѣльныя замѣчанія, а изъ первой долженъ былъ почерпнуть много новыхъ идей» (Майков 1885, II: 564). Но конспект 1817 г. говорит об обратном: в тетради выписаны только факты; судя по всему, мнения Сисмонди Батюшкова не заинтересовали. Таким образом, у нас нет данных, которые подтверждали бы, что «новое <то есть сложившееся в середине 1810-х годов. — И. П.> отношение Батюшкова к Тассо связано с влиянием романтической интерпретации этого поэта в курсе истории романских литератур Сисмонди» (Верховский 1941, 404).
- 180 -
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Батюшков начал изучать итальянский язык в петербургском пансионате И. А. Триполи в 1801 г. [Майков 1887а, I: 12—13 (1-й пагинации)], и среди самых ранних произведений поэта уже́ были переведенные «съ Италїянскаго» «Стихи к М<альвине>», имевшие подзаголовок или эпиграф Amica! tu sei la rosa della primave<r>a <= Подруга, ты — весенняя роза> (Батюшков 1805б). Не исключено, что ссылка на итальянское происхождение «Мальвины» — мистификация (Гардзонио 1989, 30); по крайней мере, поиски оригинала, предпринимавшиеся разными исследователями (включая автора этих строк), пока не увенчались успехом. Кстати, Жуковский, перепечатывая «Мальвину» пять лет спустя, легко обошелся без подзаголовков (см. Батюшков 1810д): характерно итальянского в этой сентиментальной «пѣснѣ»426 не много, и «авзонийские» интересы Батюшкова символизируются отнюдь не ею.
Несравненно более широкие перспективы открывало обращение к творчеству Тассо. Перу Батюшкова принадлежат переводы фрагментов Тассовой эпопеи, первое стихотворение, посвященное творцу «Иерусалима» русским поэтом, первое в нашей литературе оригинальное эссе о нём и, наконец, знаменитая элегия, предопределившая темы и мотивы русской романтической тассианы. Трагическое умопомрачение, настигшее Батюшкова в Италии, связало судьбу художника с судьбой его героя:
<...> Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.П. Вяземский, «Зонненштейн», 1853
- 181 -
«Умирающий Тасс» произвел ошеломляющее впечатление на современников. Похвалы слились в единый хор, в котором подчас трудно различить отдельные голоса. «Мы полагаемъ, что Умирающій Тассъ есть лучшее стихотвореніе Батюшкова» (Плетнев 1823, 226). «Лучшее изъ поэтическихъ его произведеній безъ сомненія есть элегія Умирающій Тассъ, — истинно образцовое произведеніе по глубокости чувствованій и по художественной отдѣлкѣ» (Плаксин 1836, 97). «Благородство, ясность и точность выраженій, полнота періодовъ и гармонія стиховъ — неподражаемы»; «какъ цѣлое» эта элегия «совершенна» (Плетнев 1823, 227). Батюшков «остался бы образцовымъ Поэтомъ безъ укора, если бъ даже написалъ одного Умирающаго Тасса» (Бестужев 1823, 24). Это «произведеніе, которое <...> можно назвать лучшимъ перломъ новѣйшей нашей Поэзіи» (Плетнев 1823, 210). «Смерти Тассо посвятилъ онъ <Батюшковъ> прекрасную элегію, которую можно принять за апоѳеозу жизни и смерти пѣвца „Іерусалима“» (Белинский 1843, 67). «Пѣвецъ Іерусалима вид<е>нъ здѣсь въ каждомъ стихѣ» (Плетнев 1823, 222).
C 1830-х годов в отзывах появляются нотки разочарования. 28 апреля 1834 г. Кюхельбекер записывает: «Хотя и жаль, а должно же наконецъ сказать, что Батюшковъ вовсе не заслуживаетъ громкихъ похвалъ за Умирающаго Тасса, какими кадили ему за это стихотвореніе, когда онъ еще здравствовалъ, и какими еще и по нынѣ <...> кадятъ за оное его памяти» (Кюхельбекер 1883, 262). Пушкин, который в юности, видимо, разделял всеобщее восхищение элегией Батюшкова, позже отзывался о ней с пренебрежением: «Эта элегия конечно ниже своей славы <...> сравните Сетования Тасса поэта Байрона427 с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия <...> ничего не видно. Это умирающий В.<асилий> Л.<ьвович> — а не Торквато» (Пушкин 1949, 12: 283; Комарович 1934, 887—888, 894—895; Семенко 1977, 490—492; Горохова 1979, 28—30). Белинский, давший «Умирающему Тассу» высокую оценку (1834, стб. 207; 1843, 67, 78—79), отмечал вместе с тем, что элегия страдает таким «недостаткомъ», как «невыдержанность», и наряду «съ проблесками глубокаго чувства и истинной поэзіи» находил в ней «пустое разглагольствованіе», «надутую реторику» и «трескучую декламацію» (1843, 78).
Переоценка элегии Батюшкова косвенно связана с исторической переоценкой Тассовой эпопеи. Если раннеклассический канон отдавал героической поэме безусловное предпочтение перед стихотворным рыцарским
- 182 -
романом (romanzo), то к 1820-м годам ситуация меняется: «Неистовый Роланд» теперь вызывает больший интерес, чем «Освобожденный Иерусалим». При этом стихотворный роман («романическая поэма») по своей жанровой специфике тяготеет не к эпопее, а к ироикомической поэме, отличаясь от последней только «тѣмъ, что оная описываетъ происшествіе, хотя также забавное, но не Рыцарское, и по большей части принадлежащее къ настоящему времени, то есть, къ тому, въ которое пишетъ авторъ» (Остолопов 1821, 29; Пильщиков 2002а, 134—135). Новая эпоха уравняла ценности, но сохранила противопоставление «классического» и «роман(т)ического». На лекциях по эстетике адъюнкт-профессор П. Е. Георгиевский рассказывал лицеистам: «Италианцы — одни старались дать преимущество Ариосту пред Тассом, другие — пред первым последнему <...> между тем как они оба превосходные стихотворцы, только каждый в своем роде. <Тасс> писал во вкусе греческом, <Ариост> в романическом, который совсем неизвестен был Аристотелю, но тем не менее открывает обширное поле для отменного искусства» (Мейлах 1937, 167; Берков 1970, 18—20). Такое же разделение проводит Пушкин в статье «О поэзии классической и романтической» (1825): хотя «Освобожденный Иерусалим» «духом своим, конечно, отличается» от «Энеиды», обе поэмы «принадлежат к роду классическому» (Пушкин 1949, 11: 36). «К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили; след.<ственно> сюда принадл.<ежит>» и «эпопея» (Пушкин 1949, 11: 36).
Напротив, «Ариостов Орландо» и предшествующая ему традиция стихотворного романа представляют «романтическую поэзию» (Пушкин 1949, 11: 37, 38; ср. Бонди 1934, 425—426; и др.)428. 22 ноября 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я теперь читалъ „Освобожденный Ерусалимъ“ Baour-Lormian. Весьма хорошій переводъ, но что можетъ быть скучнѣе поэмы эпической?» (ОА, I: 359; ср. примеч. 86 на с. 198 наст. изд.). Наверное, Пушкин согласился бы с мнением Вяземского: к этому времени он уже утратил пиетет по отношению к Тассу и увлекся Ариостом. Влияние Ариосто на «Руслана и Людмилу» обсуждалось современниками Пушкина и подтверждено им самим429. «Неистовый Роланд», «столь же возвышенный, сколь забавный» (Voltaire 1785, XL: 57—58), был гораздо ближе автору «Руслана» и «Онегина», чем «возвышенные произведения эпопеи» (Пушкин 1949, 11: 516). Именно с «Orlando furioso» Пушкин начинает генеалогию «Евгения Онегина» в письме Рылееву
- 183 -
от 25 января 1825 г., недвусмысленно указывая на бурлескное происхождение собственного «романа в стихах» (Шапир 1999, 34; 2000, 247; 2002а, 440—442, 449 примеч. 74; 2003б). Вместе с тем сюжеты и герои Тассо не уходят из поэзии Пушкина: они продолжают присутствовать в его языке на правах традиционных словесных формул, тем и образов, принадлежащих общеевропейскому культурному фонду. Так, во 2-й песни «Руслана и Людмилы» упоминаются сады Армиды (стих 298), в 1-й главе «Онегина» — уста младых Армид (1, XXXIII, 10); в «переводе неизданных стихов Андрея Шенье» («Близ мест, где царствует Венеция златая...») появляются Ринальд, Годфред и Эрминия, а в черновых набросках фигурирует еще и Танкред (1948, 3, кн. 1: 66, 600).
Это стихотворение было напечатано в «Невском Альманахе» на 1828 г. В том же году Мерзляков наконец выпустил свой запоздалый перевод «Освобожденного Иерусалима» — тяжеловесный, архаичный, выполненный александрийским стихом смежной рифмовки, тем самым, о котором Пушкин писал в 1830 г.: У нас его недавно стали гнать (1948, 5: 377). Одновременно с мерзляковским вышел принципиально иной по стилистике, но, пожалуй, еще менее удачный перевод С. Раича, в котором эквивалентом октавы служила 12-строчная балладная строфа «Двенадцати спящих дев» и «Певца во стане Русских воинов» Жуковского (Эткинд 1973, 171—175). Оба этих переложения прошли мимо внимания Пушкина, зато переведенные Шевыревым фрагменты «Иерусалима», которые Погодин показал Пушкину в 1831 г., вызвали у него неподдельный интерес. Шевырев предложил радикально реформировать русскую октаву и приблизить стих русских переводов к итальянским образцам (Эткинд 1973, 175—190; Шапир 2003б). К смелому эксперименту младшего поэта Пушкин отнесся с одобрением, однако сделал существенную оговорку. 11 мая 1831 г. Погодин сообщал Шевыреву: «Пушкин очень доволен: но решительно не любя Тасса, умоляет тебя приняться за Данта» (Светлова 1934, 746). 18 (30) июня 1831 г. Шевырев пересказал этот отзыв Соболевскому: «Пушкину понравились мои октавы, но он просит не переводить Тасса, которого не любит» (Светлова 1934, 746). Действительно, в начале 1830-х годов Пушкин был далек от Тассо как никогда. Ариосто тоже отошел на задний план — первое место в предпочтениях Пушкина занял Данте, пик увлечения которым приходится на 1829—1832 гг.430 Этот сдвиг интересов знаменателен: тем же путем до Пушкина шел Батюшков. К сожалению, он не успел завершить задуманное.
- 184 -
***
При жизни Батюшкова многое из написанного им на итальянские темы не было опубликовано и собрано. В черновиках остался перевод из Ролли — первый опыт Батюшкова в новом для русской поэзии антологическом жанре. Образцом в этом роде — наряду с поздними переводами Батюшкова из «Греческой антологии» — стал его перевод октавы Ариосто «La verginella è simile alla rosa...» («Девица юная подобна розе нежной...», 1819—1821?). Об антологическом характере этого «Подражания Ариосту» говорил Белинский (который, правда, отрывок из 1-й песни «Неистового Роланда» ошибочно считал завершенным произведением Тассо): «По сродству съ классическимъ геніемъ древности, итальянскіе поэты должны часто напоминать древнихъ вообще, а слѣдовательно и ихъ антологическую поэзію. Вотъ въ этомъ родѣ пьеса Тасса, вольно переведенная Батюшковымъ» (Белинский 1841б, 38—39)431. Как родоначальника русской антологической лирики Белинский характеризует Батюшкова в III статье пушкинского цикла: «Какого же удивленія заслуживаетъ Батюшковъ, который первый на Руси создалъ антологическій стихъ, только-развѣ по языку, и то весьма-немногимъ уступающій антологическому стиху Пушкина?» (Белинский 1843, 63—64; Верховский 1941, 414; Сандомирская 1968, 277; Горохова 1974, 122; 1975, 271; Вацуро 1985, 84; Кибальник 1990, 85 и далее). Между тем, «Подражание Ариосту», подобно двум другим поэтическим шедеврам итальянского периода — «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», — очевидно, также не предназначалось для печати. Оно было опубликовано Дельвигом и Пушкиным в «Северных цветах на 1826 год» (Батюшков 1826; Вацуро 1978, 59), когда сам поэт уже́ находился в санатории для умалишенных в Зонненштейне.
После «Опытов в Стихах и Прозе» Батюшков был поглощен «итальянскими» замыслами. Одно из косвенных свидетельств тому́ — рукописный эпиграф из Ариосто (Orl. fur. I, iii, 5—8) в книге с дарственной надписью Батюшкова на авантитуле I тома «Опытов» ex libris С. Д. Шереметева:
...Quel, ch’io vi debbo, posso di parole
Pagare in parte, e d’opera d’inchiostro,
Né che poco io vi dia, da imputar sono;
Ché quanto io posso dar, tutto vi dono...
- 185 -
Милому Сѣверному Человѣку.
Сентября 6. 1817. С. П.
Сочинитель432.Осуществить отдельное издание итальянских переводов Батюшкову не удалось; дело ограничилось немногочисленными журнальными публикациями (см. наст. изд., с. 133—134). Рукописи неопубликованных произведений не сохранились. Статьи «О Дантѣ» и «Объ Альфіери» (обе — за подписью «Ахиллъ») числятся в составленном осенью 1817 г. «перечнѣ трудовъ, задуманныхъ членами Арзамаса для журнала, который они предполагали издавать» (Бычков 1887, 159—160). В программу, озаглавленную «Отрывки, найденные в Арзамасе» (декабрь 1817 г. — январь 1818 г.), за той же подписью включена статья «О Бокаччіо» (Бычков 1887, 158). Проект арзамасского журнала также не был реализован [ср. Сидоров 1901, 73—79; Арзамас, кн. I: 594—597 (комментарий В. Э. Вацуро)].
Судя по записи в дневнике Жуковского от 4 ноября 1821 г., среди рукописей итальянского периода, уничтоженных Батюшковым во время одного из приступов депрессии, было какое-то произведение, посвященное Тассо, и «Описаніе Неаполя» (Бычков 1903, 168; Горохова 1978, 143 примеч. 89). Кроме того, в Италии Батюшков продолжал работу над «Божественной Комедией». 19 октября 1821 г. Вяземский информировал А. И. Тургенева: «Я имѣлъ отъ пріѣзжаго извѣстіе о Батюшковѣ <...> Мнѣ за тайну сказывали, что онъ переводитъ Данта и напечатаетъ его подъ чужимъ именемъ» [ОА, II: 217, ср. 515 (примеч. В. И. Саитова)]. Этот перевод был, по всей видимости, уничтожен. Незадолго до смерти Батюшкова А. С. Стурдза вспоминал: «Послѣ многихъ безплодныхъ усилій и продолжительной душевной пытки, Батюшковъ, измученный, возненавидѣлъ людей, свое дарованіе, сжегъ, какъ увѣряютъ, переводъ Данте, имъ предпринятый, уѣхалъ обратно на родину, въ которой встрѣтили однакожъ одну лишь развѣнчанную тѣнь его» (Стурдза 1851, 16).
- 186 -
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Рецензия С. С. Уварова на «Опыты в Стихах и Прозе» цитируется по переводу П. А. Плетнева (1817, 206); ср. оригинальный текст: «<...> amateur passionné de la poésie italienne et de la poésie française» (Ouvaroff 1817, 414). Эта рецензия, опубликованная в «Conservateur impartial», приписывалась также Плетневу и Кюхельбекеру [об авторстве см. Шебунин 1936, 41, 235, 403; ср. Майков 1886, III: 748—749; 1887а, 251—252 (1-й пагинации); Фридман 1948, 186—187; 1971, 7; и др.].
2 Впрочем, Белинский полагал, что «духъ подражательности обезсилилъ его <Батюшкова> самобытное и прекрасное дарованіе, развившееся не на національной почвѣ»: «талантъ Батюшкова развился на безплодной для искусства почвѣ французской литературы XVIII вѣка <...> Итальянская поэзія тоже не могла быть ему особенно полезною, и скорѣе была вредна» (1841в, 8; 1842, 23).
3 Противоположного взгляда придерживался, кажется, только А. Н. Пыпин, который считал, что «обращеніе Батюшкова къ итальянской поэзіи» было чистой «случайностью» (Пыпин 1899, 276; Некрасов 1911, 182).
4 Собственно филологическая работа досталась на долю Майкова; Саитову принадлежат развернутые биобиблиографические справки о современниках Батюшкова (ср. Семевский 1887, 545; Венгеров 1891, 243).
5 Из письма Батюшкова к Н. М. и Е. Ф. Муравьевым от 9 августа 1818 г. [ГАРФ, ф. 279 (И. Д., Е. И. и В. Е. Якушкины), оп. 1, ед. хр. 324, л. 70]. О датировке этого письма́ см. примеч. 425 на с. 237 наст. изд.
Глава первая
6 Из письма В. А. Жуковскому от 1 августа 1819 г. [РНБ, ф. 50 (К. Н. Батюшков), оп. 1, ед. хр. 24, л. 1 об.; ср. Батюшков 1827а, 41].
- 187 -
7 РНБ, ф. 197 (Н. И. Гнедич), оп. 1, ед. хр. 38, л. 6. Во всех публикациях письма́ начало третьего предложения читается неверно: «Напечатай эти стихи <...>» (Ефремов 1871, 215; Майков 1886, III: 18; Зорин 1989, 79).
8 Книга Дж. Компаньони «Le Veglie di Tasso» («Les Veillées du Tasse»), выданная автором за публикацию подлинной рукописи итальянского поэта, была опубликована в Париже в 1800 г. с параллельными текстами на итальянском и французском языке; расширенное итальянское издание вышло в Милане в 1803 г. (Moog-Grünewald 1988). В 1806—1807 гг. в русской периодической печати начали появляться переводы отдельных «бдений», а в 1808 г., когда создавалось батюшковское послание «К Тассу», увидели свет сразу два полных русских перевода «Veglie», сделанных Н. Ф. Остолоповым и А. С. Шишковым (Горохова 1978, 124—129). Трудно представить, что Батюшков с его живым интересом к Тассо никогда не слыхал о «Тассовых бдениях» (ср. Varese 1970, 95). Тем не менее я не обнаружил у русского поэта ни отзывов о «Veglie», ни цитат оттуда. В этом отношении Батюшков близок к своему старшему современнику, знатоку итальянской литературы П.-Л. Женгене, который ни словом не упомянул мистификацию Компаньони, между прочим, приписавшего Женгене авторство предисловия к первому изданию «Бдений» (Grossi 2001, 261—262).
9 Подробнее см. наст. изд., с. 161 и примеч. 390 на с. 232.
10 Р. М. Горохова утверждает, что это стихотворение не было широко известно и публиковалось только дважды — «в 1780 г., а затем в 1839 г.» (1979, 39 примеч. 49). В действительности оно печаталось трижды в 1778—1806 гг. и по меньшей мере 10 раз в 1814—1870 гг. (Todd 1979, 153): его можно найти в четырех собраниях сочинений Лагарпа, в том числе в стереотипных «Избранных произведениях» (4 издания, 1814—1834) и в 16-томном собрании Вердьера (1820—1821; переиздано факсимиле в 1968 г.), а также в трех антологиях, в числе которых — антология Пуатевена (4 издания, 1839—1870).
11 Из письма Жуковскому от 26 июля 1810 г. (ИРЛИ, р. III, оп. 1, ед. хр. 519, л. 2). Ср. также в письме Гнедичу (осень 1810): «Увѣдомь меня, понравится-ли тебѣ „Мечта“. Она вовсе передѣлана, въ ней Горацій, кажется, не дуренъ» (Ефремов 1883, кн. III: 657; ср. Майков 1886, III: 106).
12 Автограф письма́ от 7 ноября не сохранился. Судя по пунктуации первой публикации, Батюшков послал вместе с письмом сами стихи Лагарпа: «Прибавь еще — la mélancolie de la Harpe — вотъ она: и будетъ кстатѣ въ описаніи сладостной мечты» (Ефремов 1883, кн. V: 336). Комментируя письмо, Майков поверил Батюшкову на слово и назвал текст, о котором идет речь, «стихотвореніемъ Ла-Гарпа „La M<é>lancolie“» (Майков 1886, III: 672); ссылки на несуществующее стихотворение то и дело появляются в научной литературе (Благой 1934, 598; Зорин 1989, 615—616; Винницкий 1997, 185). Впервые «Послание к Г-ну графу Шувалову о впечатлениях от сельской природы и об описательной поэзии» («Épître à M. le comte de Schowaloff, sur les effets de la nature champêtre et sur la poésie descriptive», 1779) было
- 188 -
напечатано в приложениях к изданию драмы Лагарпа «Mélanie», вышедшему в 1792 г. (Todd 1979, 33, 154). Однако в письме Гнедичу речь идет о какой-то из отдельных публикаций отрывка, посвященного la Mélancolie. В CXIV письме «Литературной переписки» Лагарп приводит свою стихотворную подпись к фарфоровой статуэтке Меланхолии (La Harpe 1801, II: 420—421). Этот экспромт составил стро́ки 138—149 «Послания к Шувалову», отрывок из которого (стихи 134—149) был напечатан в «Mercure de France» в составе анонимной рецензии на сборник стихотворений Делиля (Anonyme 1800, 283; ср. Todd 1979, 154): рецензент сопоставил стихи Лагарпа с фрагментом «О Меланхолии» из поэмы Делиля «L’Imagination» (вскоре этот фрагмент был переведен на русский язык Карамзиным). Сопоставление стихов Делиля и Лагарпа повторено в примечаниях Ж. Эсменара к полному изданию «L’Imagination» (Delille 1806, I: 198—200). Этот факт, не зафиксированный в капитальной библиографии К. Тодда, был, однако, известен Майкову (1886, III: 672). Гнедич ввел в свой текст и Лагарпа, и Делиля, причем учел не только оригинал его поэмы, но и карамзинский перевод. Мысль варьировать стихи Лагарпа приходила не одному Батюшкову: фрагментом о статуе Меланхолии, переведенным из послания Шувалову, начинается стихотворение Ф. Ф. Иванова «Меланхолия» (Иванов 1815, 98—99). Полный русский стихотворный перевод «Послания ... об описательной поэзии» был опубликован в 1817 г. в типографии Н. С. Всеволожского (Лагарп 1817). В следующем году отрывок из Лагарпова послания, в состав которого входит фрагмент о Меланхолии, напечатал Абр. Норов (1818, 15—16).
13 О Лагарпе-переводчике см. Todd 1972, 152 и далее; Hunwick 1977, 31—34, 120—121.
14 Батюшков, несомненно, обращался к собранию 1806 г., поскольку вторично перевод был напечатан только в издании Вердьера (1821).
15 См. письмо д’Аламбера Вольтеру от 15 августа 1775 г. (Besterman 1964, XCI: 169; ср. La Harpe 1778, II: 230 n. 1; 1806, III: 156 n. 1), а также пи́сьма Лагарпа вел. кн. Павлу Петровичу и А. П. Шувалову [La Harpe 1801, I: 229, 233—234, 244 (№ XXVI—XXVIII); о резонансе, вызванном публикацией «Литературной переписки» Лагарпа, см. Jovicevich 1973, 190—191].
16 Под таким заглавием («Éloge de M. Colardeau») речь Лагарпа опубликована в качестве предисловия к «Сочинениям» Колардо (La Harpe 1779; Todd 1979, 80).
17 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 28 об.
18 Легко объяснимы оба случая слияния двух абзацев оригинала в один переводной. Второй раздел стихотворения Лагарпа, включающий всего 8 строк (им соответствуют 4 батюшковских), несоизмеримо мал по сравнению с остальными разделами. Кроме того, если Батюшков читал «Épître au Tasse» по изданию 1806 г., он должен был воспринимать II и III абзацы как единое целое: в «Œuvres posthumes» сегментация текста осуществлена только с помощью междустрочного пробела (без втяжки красных строк), а конец второго абзаца совпадает с концом страницы (p. 151). Пятый раздел послания Лагарпа Батюшков сократил вчетверо — в переложении эти
- 189 -
стихи утратили тематическую самодостаточность и превратились в зачин следующего раздела.
19 Требование единства действия в трагедии и эпосе высказано в «Поэтике» Аристотеля (VIII, 1451a16—1451a35). О «разнообразии» как одной из важнейших категорий культуры Возрождения см. Баткин 1979, 114 и далее.
20 Это суждение пользовалось популярностью и неоднократно цитировалось (см., в частности: Бен де Сен-Виктор 1807, 116; ср. Горохова 1978, 122—123; Вацуро 1994, 217—218).
21 Так, выражение ужасы войны, соответствующее лагарповскому l’horreur des combats ʽужас битв’ (ср. Григорьева 1969, 94 примеч. 21), в переводе используется дважды. Метафора гласы Марсовы транспонирована из начального двустишия соответствующего фрагмента «Épître au Tasse», причем ее связь с исходным контекстом оказалась утраченной [ср.: La lyre est dans tes mains la trompette de Mars = Лира в твоих руках становится Марсовой трубой (стих 56)]. «Звук мечей и копий» — это эквивалент французского le bruit du fer ʽзвук (лязг) оружия’ (стих 68).
22 «Разъяснение» Майкова счел «справедливым» Д. Д. Благой [РГАЛИ, ф. 629 (Издательство «Academia»), оп. 1, ед. хр. 375, л. 221], однако в печатный текст его комментария замечание о «медном Марсе» не попало (ср. Благой 1934, 558).
23 К стихам 293—294 из той же V песни (Костров 1787, 149) относятся известные замечания Батюшкова о рифме сице : колесницѣ [см. его пи́сьма Гнедичу от 19 сентября 1809 г. и от августа — сентября 1811 г. (ср. Майков 1886, III: 618)].
24 По-русски «Энеида» здесь и далее цитируется в переводе В. Брюсова.
25 В этом стихе легко распознается лексика французских версий «Энеиды»: в переводах XVI—XVIII вв. при описании Дискордии использовались существительные lambeaux ʽлохмотья’ или robe ʽплатье’ с эпитетом déchirés (-ée) ʽразодранные (-ое)’, а при описании Беллоны — fouet ʽбич’ с эпитетами sanglant ʽкровавый’ или ensanglanté ʽокровавленный’ [ср., в частности: Delille 1804, 345; эта книга была в распоряжении Батюшкова в 1808 г. (Янушкевич 1990, 7—8)]. О вергилианских образах у Лагарпа см. Todd 1972, 145—147.
26 Взаимозаменимость персонажей или их атрибутов санкционирована классическими источниками. В VI книге Вергилиевой поэмы (стихи 280—281) Дискордия изображена как Эвменида (Williams 1972, 476; Austin 1977, 120), а далее (VI, 555) появляется Эвменида Тисифона в кровавой одежде (pallā succīncta cruentā; ср. Ovid. Met. IV, 481 слл.). В своем рассказе о щите Энея Вергилий подражает описанию щита Ахилла в XVIII книге «Илиады». У Гомера (Il. XVIII, 535 слл.) рыщут Распря (Ἔρις) и Смута (Κυδοιμός), и с ними шествует Смерть (Κήρ; иногда Керы отождествлялись с Эвменидами): <...> Риза на персяхъ ея обагровлена кровью людскою (Гнедич 1829, 193); в греческом подлиннике: <...> εἷμα <...> δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν (Il. 18.538). Следуя Гомеру и Вергилию, Тассо в XVII песни «Gerusalemme liberata» дает описание щита Ринальдо, но воюющих богов на этом щите нет; нет их
- 190 -
и на картине, изображающей сражение при Акциуме, которая украшает ворота дворца Армиды (Ger. lib. XVI, iv и далее). Тассо варьирует элементы рассмотренного топоса в том эпизоде поэмы, где Аргант объявляет войну Годфреду [Ger. lib. II, xci, 1—4; Лагарп считал эту сцену достойной Гомера (La Harpe 1806, II: 191—192 n. 7)]. Об изображении Марса, Беллоны и Дискордии в русской поэзии предпушкинской эпохи см. Григорьева 1969, 74—76.
27 Эту строку Батюшков вынес в эпиграф к «Стихам Г<оспоже> Семеновой» и снабдил указанием: «Тассъ, V пѣснь освобожденнаго Іерусалима» (Батюшков 1809в, 409). Перевод: И в столь красивом теле прекраснее становилась <добродетель>.
28 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 15.
29 Ср. другие указания Лагарпа на заимствования из Вергилия у Тассо: La Harpe 1806, II: 164 n. 1, 166 n. 6—7 и 9, 212 n. 3, 213 n. 6, 240 n. 3, 243 n. 8—9, 244 n. 12, 268 n. 7—8, 323 n. 5—7, 324 n. 9—11, 325 n. 13, 349 n. 4, 351 n. 8. О Батюшкове и Вергилии см. Пильщиков 1994, 214—216.
30Так, на полях принадлежавшего Батюшкову экземпляра «Gerusalemme liberata» [Venezia: Antonio Zatta e Figli, 1787, t. I—II (РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20)] приведены гомеровские и вергилианские параллели к тексту поэмы (Бессонов 1885, 462, 464).
31 Пастушечьи свирѣли соответствуют la flûte pastorale в «Épître au Tasse» (стих 70). Автор «Иерусалима» (VII, vi, 3—4) говорит о пастушечьих гласах (pastorali accenti) и о простых лесных свирелях [boscareccie inculte avene; ср. в переводе Лагарпа: <...> la flûte champêtre, // La chanson pastorale, et de jeunes accens <...> (La Harpe 1806, II: 300)].
32 «Вздохи любви» — это и намек на вздохи Эрминии, влюбленной в Танкреда (Ger. lib. III, xviii, 3—8; xx, 8; VI, lxii, 8; VII, v, 8; ср. Getto 1968, 156—157, 160, 171), и отсылка к эротическим сценам в саду Армиды (Ger. lib. XVI, xvi, 8; xix, 5—6; xxv, 4; и др.).
33 «Эта строка, — писал Лагарп, — замечательная по своей счастливой точности (son heureuse précision) и соответствующая сразу двум итальянским, принадлежит Вольтеру. Я не допускаю и мысли, что можно предложить иную версию (d’essayer une autre version). Вольтер включил этот стих в свою оперу „Самсон“» (La Harpe 1806, II: 166 n. 8). Ср. итальянский подлинник: Se ’l miri fulminar nell’ arme avvolto, // Marte lo stimi; Amor se scopre il volto.
34 В очарованном лесу Ринальдо слышит вздохи воздуха меж ветвей [<...> E ’l sospirar de l’aura infra le fronde (XVIII, xviii, 4)]; ср. в переводе Батюшкова (1809б, 346): <...> Зефиры <...> межъ тростниковъ вздыхаютъ <...> (стих 44). Выбор слова зефир(ы) в качестве эквивалента итальянского l’aura свидетельствует о французском посредничестве [ср. это же место из «Освобожденного Иерусалима» во французских переводах XVIII в.: «<...> le zéphyr qui soupire à travers le feuillage» (Lebrun 1774, II: 211; Panckoucke 1785, V: 121)]. О l’aura и l’amore в «Gerusalemme liberata» см. Chiappelli 1981, 187.
- 191 -
35 В «русском» контексте сравнение поэтического гения с Протеем приобретало особую значимость, поскольку напоминало о программном стихотворении Карамзина «Протей, или Несогласия стихотворца»: Скажи, кто образы Протеевы изчислилъ? // Таковъ питомецъ Музъ, и былъ и будетъ ввѣкъ (Карамзин 1799, 325). Ср. в батюшковском «Послании к Н. И. Гн<едич>у» (1805—1809): Языкъ сей <языкъ Поэзіи> у Творца беретъ Протея виды (Батюшков 1809а, 189). Следом у Батюшкова идет фрагмент, посвященный «Иерусалиму», в котором есть мотивные совпадения с посланием «К Тассу»: <...> славный Тассъ, волшебною рукой // Являетъ дивный храмъ природы, // И всѣхъ чудесъ ея тьмочисленные роды: // Я зрю то мрачный адъ, // То счастія чертогъ, Армидинъ дивный садъ; // Когда же онъ дѣла Героевъ прославляетъ, // И битвы воспѣваетъ: // Я слышу трескъ и громъ, я слышу стонъ и крикъ — // Таковъ Поэзіи языкъ! (Батюшков 1809а, 190; Фридман 1971, 128 примеч. 275; Тоддес 1987, 334, 337).
36 Комментаторам смысл этого противопоставления остался неясен. Вместо исходного лукъ (Батюшков 1808б, 64; 1834, 99) в майковском собрании по ошибке напечатано лучъ [Майков 1887а, I: 51 (2-й пагинации)]. Эта опечатка прошла через все критические издания Батюшкова (Благой 1934, 214; Томашевский 1948, 190; Фридман 1964б, 84; Шайтанов 1987, 198; Кошелев 1989, 358; и др.).
37 К этому образу Батюшков вернулся в 1817 г. в элегии «Гезиод и Омир, соперники», вольно переведенной из Мильвуа (см. 91-й стих, не имеющий соответствий у французского поэта), и в записной книжке «Чужое: мое сокровище!» (см.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 46; ср. Тоддес 1987, 344 примеч. 16).
38 Ср. Il. 13.20—21 в переводе Ломоносова (1753): Трикраты он <Нептун> ступил, четвертый шаг достигнул // До места, в кое гнев и дух его подвигнул (Ломоносов 1959, 538; Егунов 1964, 36). Нумерология этого описания привела в недоумение такого образованного филолога и почитателя Гомера, как мадам Дасье, которая перевела стих XIII, 20: «<...> в одно мгновение (dans un moment) <Посейдон> достигает <...>», и только в примечаниях сообщила, что на самом деле «Гомер говорит: Он сделал три шага, а в четвертый достиг...» (Dacier 1711, 255, 547).
39 См. Ger. lib. IV, xxvii и далее. В батюшковском экземпляре отчеркнуты карандашом стро́фы: IV, xxix—xxxii, xxxviii (стихи 3—4), liv, lv (стихи 1—2), lxxxvii— xcv [РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20 (t. I, p. 101—123); записи, сделанные на этих страницах, воспроизведены Н. А. Бессоновым (1885, 462—463)]. Над шишковским переводом одной из этих сцен (IV, xxxi, 3 — xxxii, 4) Батюшков зло посмеялся в письме к А. И. Тургеневу от 10 сентября 1818 г. (Пильщиков 1994, 222, 233 примеч. 40).
40 Ср. Ger. lib. IV, lxx, 4; lxxi, 1—2; lxxiv—lxxvi; и др.
41 Ср. Ger. lib. IV, xxx, 3; xxxiv, 3—4 (<...> i lumi <...> Che dolcemente atto modesto inchina = <...> очи <...> которые <она> нежно <...> <и> скромно потупляет); lxx, 1—2 (<...> fisse // Le luci a terra = <...> устремила // Взгляд в землю); lxxxvii, 5; и др. В связи с мотивом чарующих очей можно вспомнить «Армиду» Филиппа
- 192 -
Кино (акт I, сцена 3, стих 112): Ses charmes les plus forts sont ceux de ces beaux yeux = Самые сильные из ее <Армиды> чар — это чары ее прекрасных глаз (Quinault 1686, 14). Этот же мотив встречается у Батюшкова («Ответ Тургеневу», 1812 или 1813): Ты правъ! Поэтъ не лжецъ, // Красавицъ воспѣвая. // Но часто нашъ пѣвецъ // Въ восторгѣ утопая, // Разсудка строгій гласъ // Забудетъ для Армиды; // Для двухъ коварныхъ глазъ <...> (Батюшков 1817а, ч. II: 153); ср. позже у Пушкина («Е. Н. Ушаковой», 1829): <...> Что нежным взором вы Армида <...> (Пушкин 1948, 3, кн. 1: 149). А. И. Некрасов (1911, 194—195) и Н. В. Фридман (1971, 126 примеч. 269) необоснованно возводят образ «коварных глаз» в «Ответе Тургеневу» к поэзии Петрарки.
42 Это лейтмотивы Армиды в «Gerusalemme» (Getto 1968, 207; Chiappelli 1981, 119; Jonard 1984, 44—45). Ср. Ger. lib. IV, xxxi, 2; xxxii, 7—8; lxxxvii—lxxxix [особенно lxxxviii, 3—6 (<...> apre un benigno riso <...> Volge le luci <...> desiri // Sprona, ed affida la dubbiosa spene = <...> ласково улыбается <...> поводит глазами <...> рождает желания и внушает сомнительную надежду)]; xc—xcv.
43 Ср. Ger. lib. IV, lxv, 2; lxxxv, 5—6.
44 Ср.: «Le Tasse <...> a lié son Armide à toute l’action de sa Jérusalem délivrée, et c’est un des plus beaux ornemens de ce poëme, dont l’ordonnance est irréprochable» (La Harpe 1799, VIII: 54; Puglisi Pico 1896, 31; Cottaz 1942b, 193—196).
45 Отсюда синонимичность имен Армиды и Цирцеи в поэтическом языке предпушкинской поры; ср. в послании Батюшкова «К Дашкову» (1812): <...> коварныя забавы // Армидъ и вѣтреныхъ Цирцей <...> (Батюшков 1817а, ч. II: 79). Ср. строку из «Евгения Онегина» (1, XXXIII, 10): <...> Лобзать уста младых Армид <...> — и ее черновую редакцию: Лобзать уста младых Цирцей. С аналогичной вариацией мы сталкиваемся в черновиках II главы «Евгения Онегина» (строфа <IXа>): Не пел презрительных Армид; Не пел презрительных Цирцей. В стихотворении «К вельможе» (1830) Пушкин, прежде чем назвать Марию-Антуанетту Армида молодая, пробовал, в том числе, вариант Цирцея молодая (Пушкин 1937, 6: 19, 261, 270, 558; 1948, 3, кн. 1: 217; 1949, 3, кн. 2: 808, 824; Biolato Mioni 1937, 261 n. 2, 269 n. 2; Пильщиков 1999в, 64).
46 Женгене считал, что описание Армиды в IV песни «Иерусалима» «оскорбляет достоинство эпопеи и, более того, оскорбляет приличие (blesse la dignité de l’épopée, et même la décence)» (Ginguené 1812, V: 434; Grossi 2001, 264).
47 ИРЛИ, ф. 309 (Архив братьев Тургеневых), ед. хр. 124, л. 225 об.; Пильщиков 1994, 222. Ср. также запись Батюшкова на полях «Gerusalemme liberata» напротив октав IV, lxxxvii—lxxxviii: «Voici le portrait le plus vrai et le plus charmant, d’une coquette» = «Вот самый правдивый и самый очаровательный портрет кокетки» [РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20 (t. I, p. 120); Бессонов 1885, 462]. В своем мнении Батюшков был не одинок: о кокетстве (coquetterie) Армиды писал Вольтер в VII главе «Опыта об эпической поэзии» (Voltaire 1785, X: 383) и, вслед за ним, Шатобриан [«Гений христианства», ч. II, кн. I, гл. II (Chateaubriand 1802, 7)]. Когда Хераскову
- 193 -
понадобилось дать короткую справку о героине Тассо, он написал: «Армида<,> извѣстная соблазнительница въ Тассовомъ Іерусалимѣ» (1795, 21 примеч. 3; Горохова 1973, 156).
48 В литературном языке начала XIX в. это слово употреблялось без видимой дифференциации значений как в женском роде [мирта; ср. греч. η μύρτος ʽмиртовый куст; миртовая ветвь’, лат. myrtus / murtus (f.) ʽмиртовый куст; миртовая роща’, murta ʽмиртовая ягода; миртовый куст’, нем. die Myrte], так и в мужском [мирт; ср. фр. le myrt(h)e / le mirt(h)e, ит. il mirto, а также греч. τὸ μύρτον и лат. murtum ʽмиртовая ягода’ (Булаховский 1954, 90—91)]. Оба варианта могут встретиться у одного автора. Так, в послании «К Тассу» находим форму мирта, а в опубликованном год спустя переводе из XVIII песни «Иерусалима» Батюшков (1809б), ориентируясь на оригинал, выбирает форму мужского рода: <...> Высокій миртъ <...> въ вѣтвяхъ густыхъ (стихи 89—90; ср. 115, 121, 147, 162, 168); resp.: L’estranio mirto i suoi gran rami spiega (XVIII, xxv, 5).
49 Возможно, что реминисценцией из «Иерусалима» является и глагол забыть: Армида, увлекая за собою Ринальдо, уговаривает его забыть военные тяготы [<...> Oblíi le noie andate <...> (XIV, lxiv, 3; ср. lxii—lxiii)].
50 Слово заразы также употреблено у Попова в рассказе о двух девах, которых рыцари Карл и Убальд, отправившиеся на поиски Ринальдо, видят на острове Армиды: «Сердце двухъ воиновъ не совсемъ было нечувствительно къ заразамъ сихъ юныхъ дѣвицъ; красота ихъ возмутила Рицарей, остановилися они разсмотрѣти ихъ: а онѣ между тѣмъ продолжали свои рѣзвости» (Попов 1772, ч. II: 243; ср. Ger. lib. XV, lviii—lix). Встреча с девами предвосхищает встречу рыцарей с само́й Армидой; так же, как Армида, волшебные девы сравниваются с Афродитой-Венерой [Ger. lib. XV, lx, 1—6; в батюшковском экземпляре «Gerusalemme liberata» эти строки отчеркнуты карандашом (РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20 (t. II, p. 142)]. Ср. Ger. lib. XV, lviii—lix в переводе Н. Бутырского: <...> Двѣ дѣвы нѣжныя, одна другой рѣзвѣе <...> и голову и шею обнажаютъ // И кажутъ тысячи плѣнительныхъ заразъ. // Смягчились воины; стоятъ, не сводятъ глазъ (Бутырский и др. 1819, 32).
51 См. Mirabaud 1724, II: 193; I: 105, 106, 127; II: 139, 148, 131; I: 79, 151, 185. Кроме того, один раз словом заразы у Попова передан субстантив le piquant ʽпикантность’, не имеющий прямых аналогов в русском языке: «<...> всѣ заразы младости» [об Армиде (Попов 1772, ч. I: 140)] = «<...> tout le piquant de la jeunesse» (Mirabaud 1724, I: 107).
52 Этот факт не нашел отражения в историко-лексикографических работах, посвященных слову зараза (Замбржицкий 1963; и др.).
53 Дейктическое наречие здѣсь относится ко всему предложению и является первым членом противопоставления: здѣсь (стих 48) — тамъ (стих 51).
54 Запись на полях «Gerusalemme liberata» [РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20 (t. II, p. 52); Бессонов 1885, 465]. Все октавы, составляющие этот эпизод (XLIV—LXIX; p. 52—54), Батюшков отчеркнул карандашом. Об отношении поэта к мадам де Сталь
- 194 -
см. Серман 1939, 246 и далее; Заборов 1972, 178—179, 195; Горохова 1975, 260—263; Пильщиков 1997, 38—39.
55 О популярности упомянутых Батюшковым эпизодов свидительствует, в частности, тот факт, что все они вошли в число журнальных публикаций отрывков из «Иерусалима» в переводе Мерзлякова [1811; 1812; 1814; 1815б; 1816; 1820; библиографию этих публикаций см. Garzonio 1984a (по указателю)]. Эпизодом «Армидин сад» поэма Тассо представлена в «Пантеоне Иностранной Словесности» (Карамзин 1798; Горохова 1980, 146—147; Кафанова 1986, 15).
56 О символике света и тьмы в поэме Тассо см. Chiappelli 1981, 34—55; о «ночной» теме см. Noero 1965; Getto 1968, 143; Haupt 1974, 111 и далее [ср. ее травестийную обработку в эпизоде ночной битвы Дианы и архангела Гавриила у Парни («Война богов», песнь VI), где пародируется поединок Клоринды и Танкреда].
57 У Батюшкова: <...> подъ кровомъ черной ночи. Существительное кровы в переводе Попова соответствует французскому les voiles ʽпокровы, завесы’ в версии Мирабо (Mirabaud 1724, II: 47—48).
58 На соответствующих страницах перевода Попова (1772, ч. II: 134—140) 6 раз употреблено существительное ярость и дважды — прилагательное яростный.
59 Знакомство с этим эпизодом нашло отражение в письме Батюшкова Гнедичу (24 июня 1808 г.), написанном во время работы над посланием (Пильщиков 1994, 220—221, 233 примеч. 35; 2002б, 281, 298 примеч. 11).
60 О топографии вергилиевского Орка см. Binet 1808; Setaioli 1970, 63 и далее; Solmsen 1972; Austin 1977, 154; Williams 1990, 197 и др.
61 Ср.: <...> cupidīsque amplectitur ulnīs. Влюбленные нарушают закон подземного царства: теням не дозволено касаться друг друга (Bömer 1980, 254).
62 Курсив, выделяющий слово сам во всех современных изданиях, впервые появился без каких-либо мотивировок в «Сочинениях» Батюшкова, вышедших под редакцией Д. Д. Благого (Благой 1934, 214).
63 Имя Овидия было помещено рядом с именами Вергилия и Гомера в характеристике, которую дал «Освобожденному Иерусалиму» Орацио Ломбарделли [см. его письмо к Маурицио Катанео, опубликованное среди приложений к «Апологии» Тассо (Lettere, 119—120; Weinberg 1961, 983—984)]. Лагарп находил, что некоторые стихи из «Gerusalemme liberata» стилистически и тематически ближе к любовным элегиям Овидия, чем к эпопеям Гомера и Вергилия (La Harpe 1806, II: 190 n. 2, 245 n. 14). Литераторы XVIII — начала XIX в. подчеркивали сходство между легендарными биографиями «любовника Юлии» (Овидия) и «любовника Элеоноры» (Тассо). Считалось, что именно за свою связь с высокородными дамами один поэт поплатился заточением, а другой — изгнанием: «<Тассъ>, подобно Овидію, весьма высоко вознесъ свои желанія <...> безрассудная страсть <...> была <...> причиною всѣхъ бѣдствій, кои послѣ его преслѣдовали» (Мерзляков 1828, ч. I: XVII—XVIII; Пильщиков 2002а, 139 примеч. 4). В 1817 г., завершив элегию «Умирающий
- 195 -
Тасс», Батюшков предполагал взяться за тему Овидия. В июле 1817 г. он писал Гнедичу: «Овидій въ Скиѳіи: вотъ предметъ для элегіи, счастливѣе самаго Тасса» (Ефремов 1883, кн. VIII: 241; ср. Майков 1886, III: 456; Фридман 1971, 214; Вацуро 1994, 229). Среди бумаг Жуковского сохранился автограф Батюшкова — план, составленный летом или осенью 1817 г. и озаглавленный «Сюжеты для Элегїй», который открывается элегиями «Смерть Овидїя» и «Приѣздъ <sic!> Овидїя въ Томы» (ИРЛИ, № 27844, л. 14 об.).
64 Конструкция с quel est (fut) le prix характерна для Лагарпа; ср.: Mais, toi, quel est enfin le prix de ta furie? («Сервилия к Бруту»).
65 Ср. еще: Печаль глубокая поэтовъ духъ сразила, // Изчезъ талантъ его и творческая сила («К Тассу», стихи 75—76) — Le chagrin, ce morne destructeur, // Altère, égare enfin cet esprit créateur («Épître au Tasse», стихи 147—148). Лагарп перелагает стихами пассаж из собственной рецензии на французский перевод избранных стихотворений Петрарки (1774), в которой счастливой судьбе Петрарки противопоставлены несчастья, постигшие Тассо: «<...> les chagrins & l’indigence <...> enfin cette suite de disgraces assez douloureuses pour égarer & aliéner un esprit qui avait produit la Jérusalem» (La Harpe 1778, VI: 15; разрядка моя. — И. П.). Некоторые замечания, сделанные Батюшковым в статье «Петрарка», позволяют предположить его знакомство с рецензией Лагарпа (Pilshchikov 1994b, 119 n. **; Pil’ščikov 1995a, 130; Пильщиков 2000а, 15—16).
66 Посвященная Озерову басня «Пастух и Соловей», из которой извлечена цитата, была напечатана незадолго до послания «К Тассу» в том же «Драматическом Вестнике». К параллели между Тассо и Озеровым Батюшков вернулся в эссе о Петрарке (1816б, 180 примеч. * [к с. 178]; Благой 1934, 674; Фридман 1964б, 267; 1971, 194; Вацуро 1994, 229—230), а в 1820 г. ею воспользовался Кюхельбекер, построивший целый фрагмент своего стихотворения «Поэты» на цитатах из послания «К Тассу» (другим источником вдохновения стало для недавнего лицеиста послание Жуковского к Вяземскому и В. Л. Пушкину, значительная часть которого посвящена судьбе Озерова): <...> что награда // И дѣлъ высокихъ, и стиховъ? <...> Мильтонъ и Озеровъ и Тассъ! // Земная жизнь была для васъ // Полна и скорбей и отравы; // Вы въ далній храмъ безвѣстной славы // Тернистою дорогой шли [Кюхельбекер 1820а, 71—72; ср. также: «Музы любятъ провождать любимцевъ своихъ по тернистой тропѣ нещастія въ храмъ славы и успѣховъ» (Батюшков 1817а, ч. I: 42)]. Стихотворение «Поэты» предоставляет нам еще одно свидетельство внимания Кюхельбекера к батюшковской тассиане. Помимо прочего, Кюхельбекеру принадлежит неопубликованная французская прозаическая версия элегии «Умирающий Тасс»: с 40-го стиха он продолжил работу, начатую неизвестным переводчиком [начало рукописи см.: РГБ, ф. 218 (Собрание Отдела рукописей), к. 366, ед. хр. 6 (2 л.); последний лист см.: РГАЛИ, ф. 256 (В. К. Кюхельбекер), оп. 1, ед. хр. 1 (1 л.)]. До сих пор было известно только окончание перевода. Приходится признать беспредметными рассуждения Гороховой, имеющие целью объяснить, почему из всей элегии Кюхельбекер перевел только «последние 25 строк» (1978, 157 примеч. 145).
- 196 -
Не может быть также никаких сомнений в том, что рукопись является переводом стихотворения Батюшкова, а не копией какого-то «французского произведения на ту же тему» (Королева, Рак 1979, 715 примеч. 66).
67 См. Батюшков 1834, 102. Это издание Благой игнорирует; так, он утверждает, что батюшковский перевод отрывка из I песни «Иерусалима», опубликованный в 1808 г., «до издания Майкова не перепечатывался» (Благой 1934, 559). В действительности перевод входил в собрания 1834 и 1850 г.
68 О Батюшкове и Державине см. Благой 1934, 551; Serman 1974, 49—53; Ионин 1989; Кошелев 1995, 5—26.
69 О близком знакомстве Батюшкова с Барковым и барковщиной см. Шапир 1993, 68—72; 2000, 208—214.
70 См. также в статье М. С. Неклюдовой и А. Л. Осповата (1997, 264—265, 271 примеч. 51) об использовании словосочетания разорвать/раздрать завесу у Карамзина в «Письмах Русского путешественника» и в «Истории Государства Российского».
Глава вторая
71 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 15.
72 Первые французские переводы полного текста «Gerusalemme» (прозаический Блеза де Виженера и стихотворный Жана Дю Виньо) появились вскоре после смерти Торквато (1595). В XVII веке эпопею Тассо переводили Ж. Бодуэн и В. Саблон (Puglisi Pico 1896, 33; Beall 1942, 28—29, 73—74, 105). Библиографию отдельных изданий французских переводов «Иерусалима» (конец XVI — начало XIX вв.) см. Catalogue, col. 1052—1067.
73 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 4.
74 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 225 об.
75 «Послание Армиды. (Из песни четвертой)» было напечатано в «Амфионе» и позже включено в качестве образцового в статью «Епический» (раздел «Образцы Епического повествования») из «Словаря древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопова (см. Мерзляков 1815а, 23—31; 1821).
76 Батюшковский перевод цитируется по первой публикации (Батюшков 1808б, 68—72).
77 Ср. плески шумные в стихе Батюшкова и перевод параллельного эпизода у Попова (речь Готфреда): «Преставшу Годофреду вѣщати, шумъ плесканїй <...> далъ знати, что каждый рѣчь его одобряетъ» (Попов 1772, ч. I: 15).
78 Глагол двигнутися — торжественный церковнославянизм (САР, ч. II: стб. 533; в ряде изданий Батюшкова корневое г в этом слове элиминировано в порядке модернизации правописания, а по сути — фонетики и стилистики). Данный славянизм не
- 197 -
относится к числу характерных признаков языка Батюшкова, как полагал В. А. Истомин (1893, 66); в русской литературе такой вариант лексемы встречается вплоть до 1840-х годов (Чернышев 1914, 78).
79 Ср. у Попова в переводе Ger. lib. I, v: «<...> воспаленные святымъ рвенїемъ (d’un saint zele)» (Попов 1772, ч. I: 3; Mirabaud 1724, I: 3). Словами рвение и ревность Попов передавал французское zèle, а однокоренным ревнивость — jalousie (ср. Попов 1772, ч. I: в҃ı).
80 Обсуждаемый ниже фрагмент перевода Лагарпа (песнь I, стихи 255—326) цитируется по изданию La Harpe 1806, II: 152—153.
81 Ср.: <...> Or ch’ei de’ capitani è capitano (Ger. lib. I, xl, 4). Другой переводческой находкой 1808 г. Батюшков воспользовался в статье «Ариост и Тасс»: «<...> священнослужители и воины (соединившїе въ рукѣ своей кадильницу съ мечемъ), Гвильемъ и Адимаръ <...>» (Батюшков 1816а, 119); ср. (о них же): Кадильницу они съ булатомъ сочетали <...> (стих 57). У Тассо: L’uno e l’altro di lor, che ne’ divini // Ufficii già trattò pio ministero <...> = И тот и другой из них, которые в божественном // Служении раньше благочестиво подвизались <...> (I, xxxix, 1—2).
82 В этих четырех строках Батюшков употребляет слово память дважды: в первом стихе (как у Тассо) и в третьем (как у Лагарпа). Аналогичный случай — в батюшковском переводе XXXIV октавы, где, как и у Лагарпа, Годфред приказывает полка́м собраться подъ знамена́ (стих 23) = à ses drapeaux (стих 280). У Тассо знамена (l’insegne) появляются только в XXXV октаве — во второй раз они упомянуты Батюшковым (в стихе 29) уже́ в соответствии с оригиналом. Редупликация идентичных терминов — еще одно свидетельство полигенеза переводного текста (ср. Пильщиков 1995б, 92).
83 Обращение к Памяти в поэме Тассо построено по образцу призывания Муз во II книге «Илиады»; ср. Il. II, 493 (Ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέωνῆάς τε προπάσας) в переводе Кострова (II, 557—558): <...> Едины убо я суда Элладскихъ строевъ // Изчислю, нареку начальныхъ въ нихъ Героевъ (Костров 1787, 58).
84 Слова dépôt и dépositaire — ближайшие родственники из гнезда pondre/poser [< лат. dēpos(i)tum, dēpositārius (оба с XIV в.)].
85 Перевод С. А. Москотильникова сделан c «Французскаго Г. Ле-Брюна» (Москотильников 1820, iii; ср. 1819, ч. I: V; Заборов 1963, 82—83; о Москотильникове и его переводе «Освобожденного Иерусалима» см. Загвозкина 1985, 47—50; Аристов 1992, 21—22, 41; Топтунова 1999, 141). Характерно, что и у Шишкова, который первым в России перевел всю поэму «съ Италіянскаго подлинника», мы читаем: «Память <...> ты, которая всѣ вещи хранишь въ себѣ и расточаешь» (Шишков 1818, 10; разрядка моя. — И. П.). Ср., однако, в переводе Я. Галинковского: «Могущественная Память <...> блюстительница бытій предшедшихъ» (Галинковский 1804, 134; о Галинковском-переводчике ср. Лотман 1959; Горохова 1980, 138).
- 198 -
86 Второй перевод Баура-Лормиана приобрел популярность — в отличие от первого, прошедшего незамеченным (Beall 1942, 248). О толках, вызванных появлением этой книги, В. И. Туманский сообщал в письме к издателю «Благонамеренного» из Парижа от 14 ноября 1819 г.: «Недавно вышелъ новый переводъ Тассова Освобожденнаго Іерусалима Баура Лорміана. Одни хвалятъ, другіе порицаютъ сей переводъ — но самое вѣрное то, что Бауръ Лорміанъ написалъ подражаніе, а не переводъ славной Италіянской Поэмѣ <sic!> — новость непріятная. Впрочемъ есть довольно хорошихъ стиховъ въ подражаніи» (Туманский 1819, 340). 22 ноября 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я теперь читалъ „Освобожденный Ерусалимъ“ Baour-Lormian. Весьма хорошій переводъ, но что можетъ быть скучнѣе поэмы эпической? Особливо же, когда содержаніе взято изъ новѣйшей исторіи» (ОА, I: 359).
87 Ср.: «<...> c’est toy qui mis ces paroles dans la bouche du Solitaire» (Mirabaud 1724, I: 13).
88 Тому́ осталось немало подтверждений (так, вслед за собранием 1834 г. Майков печатает Гельфъ в 6 стихе при Гелфъ в стихах 73—76).
89 В одном из перечисленных изданий была, по утверждению публикатора, проведена «реставрация» адъективных окончаний «там, где предшествующее редакторское вмешательство влекло за собой нарушение рифмы, смысла или <?> было вовсе неоправданным» (Шайтанов 1987, 302).
90 В поэме Хераскова описание ратниковъ идущихъ на войну (II, 447 слл.) начинается с обращения к вѣчности — ср. обращение к Музам в Беотии и обращение к Памяти в «Освобожденном Иерусалиме». Об отношении Батюшкова к «росскому Гомеру» — Хераскову см. Благой 1950, 67—68; Егунов 1964, 172, ср. 130. О связях «Россияды» с «Освобожденным Иерусалимом» см. Соколов 1955, 156, 158—159; Горохова 1973, 154—155.
91 В подлиннике: Occupa Guelfo il campo a lor vicino, // Uom ch’a l’alta fortuna agguaglia il merto = Поле, ближайшее к ним, занимает Гвельф, // Муж, чьи заслуги соответствуют <sive: равняются> его высокой судьбе (I, xli, 1—2). Ср. довольно точный перевод Шишкова: «Гвельфъ ближайшее къ нимъ занималъ поле, мужъ колико щастіемъ, толико же и достоинствомъ высокій» (Шишков 1818, 12).
92 ИРЛИ, ф. 19 (К. Н. Батюшков), ед. хр. 1, л. 40 об.
93 Деление было проведено по тематическому принципу: каждому абзацу соответствует от 2 до 8 октав оригинала, причем в двух случаях границы разделов не совпадают с границами строф у Тассо (строки 1—26 = Ger. lib. XVIII, xii—xiv; 27—38 = xv—xvi; 39—48 = xvii—xviii; 49—60 = xix—xx; 61—69 = xxi—xxii, 4; 70—114 = xxii, 5 — xxix, 6; 115—170 = xxix, 7 — xxxviii, 1).
94 Перевод из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима» далее цитируется по первой публикации (Батюшков 1809б).
95 В оригинале эти два предложения разделены междустрофной границей: <...> e stringe il ferro ignudo. // Vassene al mirto <...> (XVIII, xxxiii, 8 — xxxiv, 1). О дублете мирт/мирта см. примеч. 48 на с. 193.
- 199 -
96 Ср.: <...> oh quante belle // Luci il tempio celeste in sé raguna! (Ger. lib. XVIII, xiii, 1—2); «Колико красотъ изъявляетъ небо!» (Попов 1772, ч. II: 328); Колико ты простеръ <...> сіянія надъ нами! Это единственный случай употребления сло́ва колико в поэзии Батюшкова (Shaw 1975, 200). И. Дмитриев уже́ в 1795—1803 гг. последовательно заменял в своих стихах колико на сколько, сколь много etc. (Виноградов 1949, 228, 237, 239); ср. также замечание об этом слове, сделанное Карамзиным (1791б, 112).
97 У Тассо в молитве Ринальдо: le mie colpe prime (XVIII, xiv, 5); у Попова: заблужденїя мои (1772, ч. II: 329) — в соответствии с текстом Мирабо: mes égaremens (Mirabaud 1724, II: 195). Ср. mes erreurs в первой редакции перевода Лебрена и mes premières erreurs во второй (Lebrun 1774, II: 210; 1803, II: 224).
98 Ср.: «<Ренальдъ> одну< >только встрѣчаетъ препону на пути своемъ: рѣку безмолвно катящую жидкій кристаллъ ея» (Москотильников 1819, ч. II: 187).
99 Ср.: «Повсюду юный листъ облекаетъ древній лѣсъ; смягчилась грубость коры, всѣ древа увѣнчаны новою зеленью» (Москотильников 1819, ч. II: 188—189).
100 Ср.: Ma non è chi vagheggi o questa <la luna> o quelle <le stelle>; // E miriam noi torbida luce e bruna <...> (Ger. lib. XVIII, xiii, 5—6); «<...> & tant de merveilles ne peuvent fixer nos regards! ils s’attachent à de fragiles beautés; ils sont éblouis <...>» (Lebrun 1774, II: 210); «<...> et tant de merveilles ne peuvent attacher nos cœurs et nos pensées? Et nous sommes éblouis <...>» (Lebrun 1803, II: 223—224). Ср. у Панкука ту же лексику в составе иных грамматических конструкций: «<...> mais on ne fait point attention à ces éclatantes merveilles, et on s’arrête à <...> la beauté, dont l’éclat passager nous éblouit <...>» (Panckoucke 1785, V: 117).
101 Ср.: «На нѣжныхъ листкахъ небесная манна блистаетъ подобно росѣ; кора источаетъ чистѣйшій медъ» (Москотильников 1819, ч. II: 189). Представление об альтернативных вариантах перевода этого места можно составить, сравнив версию Лебрена с версией Панкука: «Une mâne céleste coule sur les feuilles, comme la rosée; le miel distile de l’écorce des arbres» = «Манна небесная струится по листьям, как роса; мед сочится из коры деревьев» (Panckoucke 1785, V: 126).
102 Гору Елеон (греч. Ἐλαιών от ἐλαία ʽмаслина’) Батюшков называет не Елеонской или Масличной (как она именуется в славянской Библии и в переводе Попова), а Оливовой — в соответствии с ит. l’Oliveto (< лат. Olīvētum) и фр. le mont / la montagne des Oliviers (Vulg. mons Olīvētī / Olīvārum).
103 Эта параллель не должна была ускользнуть от внимания Батюшкова, который перечитывал эпопею Вольтера, работая над переводом «Gerusalemme»: цитаты из «La Henriade» (VII, 145—147, 150—151, 155—156; VII, 148) появляются в письмах Гнедичу от 3 мая и от 6 сентября 1809 г. О «Генриаде» в ее отношении к «Освобожденному Иерусалиму» см. Bouvy 1898, 115, 117, 175—182.
104 Ср. отсутствующее в итальянском подлиннике (XVIII, xvi, 7—8) обстоятельство времени au printem(p)s = весной (-ю) у Лебрена (Lebrun 1774, II: 211; 1803,
- 200 -
II: 225; ср. Москотильников 1819, ч. II: 187), у Панкука (Panckoucke 1785, V: 118), в обоих переводах Баура (Baour-Lormian 1796, II: 196; 1819, III: 221), а также в переводах Батюшкова и Мерзлякова (1828, ч. II: 224).
105 Кроме того, признак вечности приписан Богу в 21-м стихе, соответствующем 3-му стиху XIV октавы: совершая молитву, рыцарь духомъ къ Вѣчному на небеса паритъ. У Тассо сказано, что Ринальдо устремился мыслью выше самого высокого неба (sovra ogni ciel sublime); Лебрен заменил это выражение оборотом jusqu’au trône de l’éternel ʽдо трона Вечного, к трону Вечного’ (Lebrun 1774, II: 210; 1803, II: 224). Русская фраза корреспондирует и с итальянской, и с французской. Ср. это же место у Москотильникова [«<...> къ престолу Вѣчнаго» (1819, ч. II: 186)], у Баура [<...> Jusqu’au trône éternel = <...> До вечного трона (Baour-Lormian 1796, II: 195)] и у Мерзлякова: [<...> до выспренняго Трона (1828, ч. II, 223)]. Ср. также у самого́ Тассо в экспозиции поэмы (Ger. lib. I, vii, 3): <...> dall’ alto soglio il Padre Eterno <...> = <...> с высокого трона Отец Вечный <...> (о вечности как атрибуте библейского Бога и Его престола см. Мурьянов 1995, 37—39).
106 РНБ, ф. 777 (П. Н. Тиханов), оп. 1, ед. хр. 1613, л. 1—1 об. (список 1804 г.). Стихотворение начинается словами: На вѣчномъ тронѣ Ты средь облаковъ сидишь <...> (ср. выше, примеч. 105).
107 Ср.: «<...> подъ именемъ Исмена и Армиды <в „Освобожденном Иерусалиме“. — И. П.> надобно понимать искушенія, обольщающія душу, а привидѣнія очарованнаго лѣсу означали ложныя умствованія, до которыхъ страсти доводятъ ослепленнаго человѣка» (Бен де Сен-Виктор 1807, 116).
108 С 1820-х годов условным аналогом эндекасиллаба в русской переводной поэзии, как правило, будет служить 5-стопный ямб (Гардзонио 1979, 161—165; Гаспаров 1989в, 119; и мн. др.).
109 Точно так же Мерзляков, печатая свой перевод I песни «Освобожденного Иерусалима» (см. Мерзляков 1815а, 6—22), исключил из публикации эпизод смотра войск, поскольку прежде это место уже́ было опубликовано в переводе Батюшкова.
110 Ср.: «Можетъ быть охотники до стиховъ съ низсхожденіемъ прочитаютъ опытъ перевода нѣкоторыхъ октавъ изъ безсмертной Тассовой поэмы» (Батюшков 1808б, 67).
111 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 6 (ср. наст. изд., с. 11).
112 Чтобы передать содержание 3-го стиха XXXIII октавы, переводчик потратил две строки, и семантическая граница между строфами оригинала пролегла внутри переводного двустишия (9—10). Кроме того, две строки итальянского эндекасиллаба Ger. lib. I, xxxiv, 7—8 в переводе составили три александрийских ямба (см. Улей 1812, 163—164).
113 Ср. se faire voir и paroître в переводе Мирабо (Mirabaud 1724, I: 14), а также se montrer и paroître (paraître) в переводах Лебрена, Панкука и Лагарпа [Lebrun 1774, I: 13; Panckoucke 1785, I: 36 (2-й пагинации); La Harpe 1806, II: 152].
- 201 -
114 У Батюшкова: <...> Но къ мужу славному по доблести своей <...> (1808б, 70; о Клотарии). Мирабо, Попов и Панкук именуют Клотария «полководцемъ рѣдкаго достоинства» = «Capitaine d’un rare mérite» [Mirabaud 1724, I: 15; Попов 1772, ч. I: 19; Panckoucke 1785, I: 36 (2-й пагинации)]; Лагарп просто зовет его храбрым [le brave Clotaire (La Harpe 1806, II: 152)]. В итальянском подлиннике (Ger. lib. I, xxxvii, 7) Клотарий назван выдающимся военачальником (capitano egregio).
115 Спустя шесть лет это место почти буквально перевел Шишков: «<...> подъ древними знаменами златой лилеи <...>» (Шишков 1818, 11).
116 Вряд ли нужно напоминать о нелестной характеристике, которую Батюшков и А. Измайлов дали Анастасевичу в сатирическом «гимне» «Певец или Певцы в Беседе Славено-Россов» (1813).
117 6 сентября 1809 г. Гнедич сообщал Батюшкову: «<...> вчера я много бесѣдовалъ о тебѣ съ Самариной — Причину къ сему подалъ твой переводъ Тасса въ Цвѣтникѣ <...>» (ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 5 об.).
118 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 11.
119 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 40 об.
120 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 24. Графическая форма начальной буквы в имени Арїоста совпадает с начертанием строчного а. О стихотворном переводе Батюшкова из «Неистового Роланда» см. Пильщиков 2002б, 287—289, а также наст. изд., с. 100—101.
121 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 25 об. П. А. Ефремов (1871, 229) датировал это письмо ноябрем 1809 г. Уточнил датировку Майков (1886, III: 60, 627), установивший terminus post quem: 23 ноября 1809 г.; в этот день Батюшков послал Оленину экземпляр «Видения на берегах Леты» (Гнедичу об отправке экземпляра сообщается как о свершившемся факте). В новейшем издании письмо Гнедичу помещено почему-то перед письмом к Оленину и безо всяких оснований датировано 23-м ноября (Зорин 1989, 112). Terminus ante quem установил М. Г. Альтшуллер, который указал, что «ответом на письмо Батюшкова от конца ноября 1809 г.» явилось письмо Гнедича от 6 декабря 1809 г. (Альтшуллер 1974, 85). Предпринятая тем же исследователем попытка «передатировать» это письмо Батюшкова «второй половиной декабря» (Альтшуллер 1974, 86 примеч. 8) должна рассматриваться как недоразумение (Пильщиков 1997, 53 примеч. 81).
122 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 27 об.
123 Ср.: Mais Alcaste entouré d’une lourde cuirasse, // La visière haussé, et l’œil armé d’audace, // D’un épais bouclier, porte le triple airain: // Tel parut Capanée, effrayant le Thébain = Но Алкаст, облеченный в тяжелую броню, // С поднятым забралом и взором, вооруженным смелостью, // Толстого щита несет тройную медь: // Таков явился Капаней, пугая фиванца (La Harpe 1806, II: 158).
124 Ср. текст Мирабо, послуживший Попову источником: «Alcaste paroissoit ensuite à la tête de la troisiéme bande avec un demarche aussi fiere, que le fut jadis devant
- 202 -
Thebes celle de l’audacieux Capanée» (Mirabaud 1724, I: 25). Заметим, кстати, что Анастасевич (?) тоже сумел уложить содержание двух итальянских строк в александрийское двустишие: Предъ третьимъ <войскомъ> шествовалъ Алгастъ съ своимъ отрядо<м>ъ, // Какъ древле Кампаней при Ѳивахъ, грозный взглядомъ (Улей 1812, 173).
125 ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 15 об.
126 Ср.: [r] — [t] — [rt] — [r] — [tr] (Тассо); [тр] — [р’] — [рт] — [т] (Батюшков); [р] — [т] — [рт] — [р] — [тр] — [р] (Мерзляков). Небесполезно сравнить обе версии «Chiama gli abitator...» с переводом Катенина: Всѣхъ жителей тьмы тартара подземной // Сзываетъ ревъ трубы жилища мукъ; // Огромный сводъ дрожитъ пещеры темной, // И гулъ глухой во мглѣ сугубитъ звукъ. // Не такъ гремитъ, когда съ высотъ для кары // Свинцомъ бьютъ въ долъ небесныхъ стрѣлъ удары; // Не такъ дрожитъ, колеблясь, верхъ горы, // Коль рвутся вонъ изъ нѣдръ ея пары (Катенин 1822, 308). Это один из самых ранних образцов катенинской октавы AbAbCCdd (Измайлов 1971, 103—104; Эткинд 1973, 158; Garzonio 1984a, № 474—483). Жилище мукъ — аналог дантовского выражения città dolente ‘скорбный град’ (Inf. III, 1; IX, 32), которое использовано у Тассо в стихе Ger. lib. I, lxxxii, 6.
127 В редакции 1808 г.: Столь голосомъ грознымъ // Подвигся весь адъ, // Подъ гуломъ громовымъ // Сводъ звукнулъ пліадъ (Державин 1808, ч. II: 184).
128 Ср. это же место из кантаты Руссо в переводе Востокова: Гласъ ея страшный // Тронулъ весь адъ. // Громы ужасны // Глухо гремятъ. // Облаки мрачны // Ясный день тьмятъ. // Земля трепещетъ, // Страхомъ полна <...> (Востоков 1802, 59). Текст Державина ближе ко второй редакции востоковского перевода: Гласъ ея страшный // Двигнулъ весь адъ <...> (Востоков 1805, 79). О Батюшкове и Ж.-Б. Руссо см. Пильщиков 1999а, 56—57.
129 Цитируемые ниже пи́сьма Батюшкова за 1810 г. дошли до нас в публикациях Ефремова и Майкова (автографы не сохранились).
130 ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 10. Место и дата написания письма: «С. П<етер>бургъ. Февр<аль>» (Там же, л. 10); оно не вошло в подборку писем Гнедича к Батюшкову, опубликованную М. Г. Альтшуллером (1974).
131 В работах Н. В. Фридмана (1964б, 270; 1971, 131 примеч. 285) это письмо ошибочно отождествляется с письмом Гнедича Батюшкову от 2 сентября 1810 г.
132 ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 15 об. Песнь песней вызвала неудовольствие не только Гнедича, но и Вяземского [см. пи́сьма Вяземского Батюшкову от 20 октября и от ноября (?) 1810 г. (ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 5—5 об., 21—21 об.); ср. Зубков 1987, 280; Кошелев 1987, 117—118; 1994, 121—122].
133 Ср. высказывания о Тассо в сохранившемся фрагменте письмá Батюшкова от 30 сентября 1810 г.: «½ часа читаю Тасса»; «½ — раскаяваюсь, что его переводилъ» (Майков 1886, III: 103; ср. Ефремов 1883, кн. III: 654; NB претерит переводилъ).
- 203 -
134 ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 15 об. — 16.
135 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 29. Ефремов (1871, 230) предположительно датировал это письмо декабрем 1809 г. Майков, сохранивший в корпусе батюшковских текстов условную датировку Ефремова, в своих примечаниях передатировал письмо по содержанию: «октябрь — ноябрь 1810 г.» (Майков 1886, III: 62, 628). Более точных временны́х границ Майков указать не мог, поскольку ему не было известно письмо Гнедича от 16 октября 1810 г. Теперь мы можем утверждать, что ответ Батюшкова был написан в первой декаде ноября 1810 г. (ср. Пильщиков 2000а, 9—10). В новейших собраниях это письмо необоснованно датируется декабрем 1810 г. (Кошелев 1985, 230; Паламарчук 1987, 302; Зорин 1989, 149). Предыдущее письмо Батюшкова Гнедичу («Сегодня я хочу тебя удивить...»), отправленное до получения письма́ Гнедича от 16 октября 1810 г. и заведомо после 30 сентября того же года, могло быть написано только в октябре 1810 г. (ср. Кошелев 1985, 229). В большинстве публикаций этого письма́ предлагается уклончивая датировка: «осенью или зимою 1810» (Ефремов 1883, кн. III: 655), «октябрь — декабрь 1810 г.» (Майков 1886, III: 104, 645), «осень 1810» (Зорин 1989, 147).
Глава третья
136 Рассуждение Белинского можно сопоставить со словами Батюшкова из письма Гнедичу (февраль 1810 г.): «Посылаю тебѣ, другъ мой, маленькую пьеску <„Привидение“. — И. П.>, которую взялъ у Парни, т. е., завоевалъ» (Ефремов 1874, 387; ср. Майков 1886, III: 78).
137 Это соотношение существенно не изменится, если мы примем предположение, что в 1810 г. Батюшков перевел не один, а два фрагмента из поэмы Парни «Isnel et Asléga» — то есть не только «Сон воинов», опубликованный 1 февраля 1811 г. (см. Батюшков 1811а), но и отрывок, озаглавленный «Скальд» (Serman 1974, 54). «Скальд» записан на бумаге с водяным знаком 1809 г. (Фридман 1955а, 365; 1964б, 285), однако в «Расписание моим сочинениям» конца 1810 г. включен лишь один «Отрывокъ изъ Иснель и Аслеги» (ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 41). Нельзя датировать 1810 годом батюшковский перевод III элегии Тибулла из I книги (Kažoknieks 1968, 119; Кошелев 1989, 451). Этот перевод, в отличие от двух предшествовавших Тибулловых элегий, в «Расписание» не вошел; о его завершении Батюшков писал Гнедичу в июле 1811 г. (Пильщиков 1994, 216—218, 232 примеч. 30).
138 Библиографию материалов по рецепции Данте и Петрарки в России см. Данченко 1973; 1986.
139 РГБ, ф. 211 (А. Н. Оленин), к. 3619, ед. хр. I—1/1, л. 1; Пильщиков 1997, 45—46 примеч. 23.
140 В 1798 г. при переводе из Петрарки был опробован 5-стопный ямб: анонимный перевод сонета «Solo et pensoso i piú deserti campi...» — «В пустой степи и по лесам дремучим...» — увидел свет в составе «Разных стихотворений», изданных
- 204 -
А. Г. Решетниковым (Garzonio 1984a, № 391; 1988, 42; Гардзонио 1989а, 31; 1989б, 107, 124 примеч. 2). В этом же сборнике были напечатаны переводные отрывки из «Освобожденного Иерусалима», оставшиеся, по-видимому, неизвестными Батюшкову (Горохова 1980, 153; ср. наст. изд., с. 35).
141 В примечании к заглавию указан источник перевода: «Сонетъ: Rotta è alta colonna e ’l verde lauro» (Батюшков 1810в, 54 примеч. *).
142 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 41.
143 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 38 об., 66 об.
144 Ср.: «<...> показатель точности перевода — это процент знаменательных слов оригинала, сохраненных в переводе; показатель вольности перевода — это процент знаменательных слов перевода, замененных или добавленных по сравнению с оригиналом» (Гаспаров 1989, 62). Все спорные случаи трактуются в пользу переводчика; кроме того, я считал эквивалентными замены некоторых адъективных конструкций адвербиальными и номинативными (при условии совпадения значений корней соответствующих слов в тексте-реципиенте и тексте-донаторе). Параллельные тексты анализируемых в этой главе переводов Батюшкова и их оригиналов см. в Приложениях IV—VII.
145 Для Петрарки лавр был «вдвое драгоцѣненъ», поскольку, во-первых, им венчают поэтов, а во-вторых, его название напоминает о Лауре. П.-Л. Женгене в «Литературной истории Италии» пишет, что Петрарка «испытывал к лавру особую любовь (une prédilection), в еще большей степени потому, что название этого дерева связано с именем Лауры, нежели из-за того, что из лавра сплетают венки для поэтов» (Ginguené 1811, II: 506). Об отражении идей и мнений Женгене в статье Батюшкова см. Пильщиков 2000а, 13—15.
146 О влиянии Дмитриева на Батюшкова см. Serman 1974, 55, 58—59, 62; о дмитриевском «Подражании Петрарку» см. Maver Lo Gatto 1978, 330—333; Garzonio 1988, 38, 40.
147 Державин (1808, ч. III: 230—232) перевел три сонета Петрарки с подстрочника, сделанного А. С. Шишковым (Гуковский 1933, 531; Lauer 1975, 366—370; Garzonio 1984b, 144—152; Полуяхтова 1984, 4—7; Титаренко 1985, 82).
148 У Марсана итальянская поэзия Петрарки поделена на четыре части (parti): первая часть озаглавлена «Сонеты и канцоны Франческо Петрарки на жизнь Мадонны Лауры», вторая — «Сонеты и канцоны... на смерть Мадонны Лауры», третья часть содержит «Триумфы», в четвертой собраны «Сонеты и канцоны Франческо Петрарки на разные темы (sopra varj argomenti)». Секстины, баллаты, мадригалы и собственно канцоны нумеруются по отдельности (ср. McKenzie 1912, x—xvi).
149 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 38 об. — 39 об.; Благой 1934, 232—233.
150 Малыми прописными буквами обозначены семисложники.
- 205 -
151 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 27 (копия). Ошибки переписчика (встрѣчаетъ; предлагаетъ) исправлены по тексту рукописного сборника 1812 г. из коллекции Я. К. Грота [ИРЛИ, № 9654, л. 43 об. (копия)].
152 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 39 (авторизованная копия).
153 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 27; № 9654, л. 43 об.; РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 39. О стилистическом галлицизме свѣтило дня ʽсолнце’ см. Григорьева 1969, 56; переводя Тассо, Батюшков (1808б, 69) употребляет это выражение в соответствии с l’astre du jour у Лагарпа (Пильщиков 1997, 25; 2001, 346).
154 Вопреки транскрипции Д. Д. Благого (1934, 232), воспроизведенной во всех позднейший изданиях, начальный стих «Ве́чера» в Блудовской тетради читается так же, как в рукописной редакции 1811—1812 гг.: Въ тотъ мигъ какъ солнца лучь потухнетъ за горою <...> (РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 38 об.; ср.: ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 27; № 9654, л. 43 об.). Именно этот вариант и следует считать дефинитивным.
155 В брошюре А. Ю. Сергеевой-Клятис (2001, 41) замечание Н. П. Верховского почему-то приписано О. А. Проскурину.
156 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 41.
157 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 29.
158 ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 16; ср. Альтшуллер 1974, 87.
159 Об «Источнике» как о новом стихотворении Батюшков писал Жуковскому 26 июля 1810 г.
160 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 74 об.; Пильщиков 2000а, 10. Эта запись (как и многие другие) не включена в наиболее полный печатный текст «Разных замечаний», куда, по уверениям составителей, «вошли все содержащиеся в книжке оригинальные записи» Батюшкова (Зорин 1989, 594).
161 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 75.
162 Там же, л. 75 [ср. Зорин 1989, 30 (с неточностью: на вазах вместо на вязахъ)].
163 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 75 об.
164 См. НБ ТГУ, шифр (22)13578 (Лобанов 1981, № 2097).
165 Существует также недоказанное предположение, что интерес к Касти возник у Батюшкова под влиянием И. М. Муравьева-Апостола, который общался с итальянским поэтом в бытность свою в Париже [Майков 1885, II: 532; 1887а, 125—126 (1-й пагинации); Фридман 1964б, 280; 1971, 131].
166 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 15 об. Наверное, Батюшков, помимо анакреонтики, знал у Касти шумно известную сатирическую «Татарскую поэму» («Poema Tartaro»), в которой отразились впечатления поэта от Петербурга, где он побывал в 1778 г. (ср. Рутенбург 1968, 9; Фридман 1971, 131). Касти был знаменит и как
- 206 -
автор «Галантных новелл» («Novelle galanti») — ср. упоминание его в одном ряду с другими авторами «вольных сказок» и «творцами шутливых повестей» в пушкинской заметке «О новейших блюстителях нравственности» и в «Опровержении на критики» (Пушкин 1949, 11: 98, 156). Среди современников Батюшков единственный переводил лирику Касти на русский (см. Garzonio 1984a, № 107—111).
167 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 18, л. 101 об. (= с. 192); Благой 1934, 507.
168 Майков установил, что крокодилъ попал в стихотворение Батюшкова из повести Шатобриана «Атала» (глава «Les Funérailles»): «Le cœur le plus serein en apparence ressemble au puits naturel de la savane Alachua; la surface en paraît calme et pure, mais, quand vous regardez au fond du bassin, vous apercevez un large crocodile que le puits nourrit dans ses eaux» = «Сердце, самое безмятежное (= спокойное) по внешнему виду, похоже на природный колодец саванны Алашуа; его поверхность кажется спокойной (= тихой) и чистой, но когда вы посмотрите на дно водоема, вы увидите огромного крокодила, которого колодец питает в своих водах» [Майков 1887а, I: 344 (2-й пагинации)]. В 1810—1811 гг. Батюшков был серьезно увлечен Шатобрианом, из которого намеревался даже перевести «нѣсколько отрывковъ», о чём писал П. А. Вяземскому 29 июля 1810 г. [РГАЛИ, ф. 195 (И. А., А. И., П. А. и П. П. Вяземские), оп. 1, ед. хр. 1416, л. 1 об.; Фридман 1971, 230—231]. Весной 1811 г. Батюшков читал «Itinéraire de Paris à Jérusalem» (см. его пи́сьма к Е. Г. Пушкиной). Шатобриану посвящен пассаж из письма Гнедичу (август 1811): Шатобриан, «прошлаго года, зачернилъ мнѣ воображеніе духами, мильтоновыми бѣсами, адомъ и Богъ вѣсть чѣмъ. Онъ къ моей лихорадкѣ прибавилъ своей ипохондріи и, можетъ быть, испортилъ и голову, и слогъ мой. Я уже готовъ былъ писать поэму въ прозѣ, трагедію въ прозѣ, мадригалъ въ прозѣ, эпиграммы въ прозѣ; въ прозѣ поэтической. Не читай Шатобріана» [Ефремов 1883, кн. IV: 118; ср. Майков 1886, III: 135; речь здесь идет о поэме в прозе «Les Martyrs» — «Мученики» (Майков 1886, III: 667; Кулешов 1977, 25—26); А. Л. Зорин (1989, 614) ошибается, полагая, что в письме говорится о «Гении христианства»].
169 О подготовке републикации Батюшков писал Гнедичу в апреле 1811 г. [см. Ефремов 1883, кн. IV: 107; Майков 1886, III: 120; 1887а, I: 344 (2-й пагинации)].
170 См.: ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 22—22 об.; № 9654, л. 36—37; ср. Благой 1934, 507; Зубков 1997, 34—35.
171 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 11—12.
172 Единственное существенное изменение в тексте «Опытов» связано с йотированной рифмой мрачной : ужасно, которая, кстати, вызвала неудовольствие Пушкина (1949, 12: 278). Во всех рукописных и печатных источниках 1811—1815 гг. наречие ужасно заменено прилагательным ужасной (-ый), однако в «Опытах» восстановлено чтение 1810 г. Впрочем, Вяземскому, который был в восторге от строфы в целом, неточная рифма мрачный : ужасный тоже не нравилась: «Вставить бы темный и огромный. Неисправная риѳма какъ разноцвѣтная заплатка рябитъ въ глазахъ» (Вяземский 1884, 86; Благой 1934, 508).
- 207 -
173 См.: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 40 об.
174 См.: ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 8 об., 22—22 об.; № 9654, л. 12—12 об., 36—37; ср. Зубков 1997, 35.
175 Для соответствующих им 16 начальных стихов ранней редакции эти показатели составляют 41% и 63%.
176 Для ранней (42-строчной) редакции эти показатели составляют 10% и 66%.
177 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 18, л. 103 об. (= с. 196); Благой 1934, 509.
178 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 12 об. — 13 об.
179 Кажется, никто не обращал внимания, что здесь ощутим эффект вставки — три последних стиха повторяют заключительные стро́ки предыдущего фрагмента (19—21): <...> Филлида суровая, // Сквозь слезы стыдливости, // Люблю! мнѣ промолвила (Батюшков 1817а, ч. II: 197). В ранней редакции «Радости» эти стихи читались: <...> Филлида суровая // Сквозь слезы стыдливости, // Блѣднѣя, — краснѣючи — // Люблю, мнѣ промолвила!... (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 8 об.; ср. № 9654, л. 12 об.). Отметим, что героиню «Il Contento» зовут Amarillide, а Филлида — это героиня первого стихотворения Касти, переведенного Батюшковым.
180 Одновременно (?) из текста «Радости» был изъят стих <...> Блѣднѣя, — краснѣючи <...> (ср. выше, примеч. 179).
181 См.: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 57 об. — 58; с неточностями: Янушкевич 1990, 20—22.
182 Метастазио — эллинизированная форма имени П.-А.-Д.-Б. Трапасси (1698—1782). О восприятии его творчества в России см. Розанов 1937а, 351—352; Гардзонио 1989б, 110—113 и др.; 1999. Библиографию русских переводов из Метастазио см. Garzonio 1984a, № 269—340.
183 В их числе опера К. В. Глюка (1752) и двухактная опера-сериа Моцарта (KV 621), для которой либретто Метастазио адаптировал К. Т. Маццола́ (1791); однако в двухактном варианте либретто (ср. Durante 1992) ария «Amo te solo...» редуцирована до 4-строчной реплики Сервилии в дуэте Сервилии и Анния: Ah tu fosti il primo oggetto <...> (Ах, ты был моим первым предметом <...>).
184 Ср.: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 58.
185 Там же, л. 58.
186 Там же, л. 58 об.
187 Там же, л. 58 об.
188 Там же, л. 58 об.
189 Текст эпиграммы в записи Батюшкова содержит версификационную ошибку — в нём отсутствует требуемая правилами синереза (стяжение гласных при зиянии): <...> giace | Aretin <...> (ср. Scoppa 1803, 121—131). В исходном тексте зияния нет, так как перед именем Аретино стои́т артикль: Qui giace l’Aretin poeta tosco <...>
- 208 -
190 Там же, л. 41.
191 См. «Achille in Sciro», акт III, сцена 4 (Brunelli 1953, I: 796). В 1736—1794 гг. этим либретто воспользовались 28 композиторов (Neville 1992, 355); премьеры опер на сюжет «Achille» становились событиями европейского масштаба (Sommer-Mathis 2000). 4 ноября 1737 г. версия «Achille» на музыку Доме́нико Натале Сарро была исполнена на открытии неаполитанского театра Сан-Карло (Loewenberg 1955, col. 191—192; Hucke 1987). Реплика Ахилла известна по начальным строчкам арии (3-я строфа): Tornate sereni // Begli astri d’amore <...> = Станьте снова ясными, // Прекрасные звезды любви <...>
192 НБ ТГУ, (22)13578, p. 86—87; ср. Янушкевич 1990, 15.
193 См.: НБ ТГУ, (22)13578, p. 94; Янушкевич 1990, 15—16.
194 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 57 об. Написание Нинфы в автографах ИРЛИ и НБ ТГУ соответствует ит. ninfa (Янушкевич 1990, 16); ср. в стихотворном приглашении, посланном Батюшковым Гнедичу 4 августа 1809 г.: Т<е>бя и Нинфы ждутъ объятья простирая <...> (ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 11). Во всех изданиях этих стихотворений корневое -н- в слове Нинфы «исправлено» редакторами на -м-.
195 НБ ТГУ, (22)13578, p. 94. В публикации Янушкевича ошибка: <...> Услыши моления <...> (1990, 16).
196 В схеме обязательно безударные слоги обозначены зна́ком
; преимущественно безударные — зна́ком
; обязательно ударные — зна́ком —́; преимущественно ударные — зна́ком ′ (см. Шапир 1996, 282).
197 Фрагмент, процитированный Скоппой и переведенный Батюшковым, представляет собой два терцета (стихотворение Ролли написано in terza rima). Ритмика батюшковского шестистишия корреспондирует со строфической структурой оригинала: 1-й стих ритмически соотносится с 4-м (это два 4-стопных амфибрахия), 3-й стих соотносится с 6-м (это два 4-стопных дактиля); 2-й стих содержит цезурное усечение, а 5-й — может статься, цезурное наращение. Нет, однако, достаточных оснований, чтобы интепретировать перевод как строфический логаэд.
198 НБ ТГУ, (22)13578, p. 94.
199 В 1800—1810-х годах востоковский перевод Cat. III пользовался широкой известностью (Орлов 1935, 401); о переводе Бухарского см. Кибальник 1983, 54, 57. Сохранился экземпляр «Опытов лирических» Востокова с пометами Батюшкова (Альтшуллер 1977, 128—129; Проскурин 2000, 78—79).
200 Amica Venere становится у Батюшкова Венерой Всемощной (ср. Янушкевич 1990, 18); об этом определении применительно к богам языческой античности см. Мурьянов 1997, 147—148.
201 Полный перевод стихотворения Ролли сделал Абр. Норов в 1821 г. (Garzonio 1984a, № 423; Янушкевич 1990, 17).
- 209 -
202 Это стихотворение помещено на той же странице «Трактата», что и эпиграмма Аламанни.
203 Сходный отзыв заслужило одно из самых популярных эпиграмматических сочинений Батюшкова — «Мадригал новой Сафе», написанный в подражание Экушару-Лебрену: «Переведенное острословие — плоскость» [Пушкин 1949, 12: 279; Майков 1894, 535; ср. 1887а, I: 322 (2-й пагинации)]; об итальянском происхождении «Мадригала Мелине» Пушкин, надо полагать, не догадывался.
204 О заимствованиях из Aen. VI в Inf. III—V см. Moore 1896, 23—25, 168, 183—184, 192, 346—347; Mincione 1968; Knittel 1971, 31—60; Ronconi 1975; Hollander 1993, 258—266; и др.
205 Цитирую по Горчаковскому списку [ГАРФ, ф. 828 (А. М. Горчаков), оп. 1, ед. хр. 88, л. 1 об.].
206 Еще одно упомянутое Батюшковым дерево — олива — не растет ни в Аду, ни в Орке.
207 Там же, л. 2 об.
208 Там же, л. 2 об. примеч. **.
209 Там же, л. 3.
210 Там же, л. 3.
211 ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 59; факсимиле см.: Пильщиков 2000а, 21. Цитата из «Inferno» была найдена Батюшковым без помощи Скоппы — в «Трактате» ее нет. Беглое упоминание о батюшковских выписках из итальянских поэтов (включая Данте) имеется в работе М. Ф. Варезе (Varese 1970, 102).
212 См.: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1, л. 2—12.
213 Там же, л. 1, 123. См. также запись на л. 98: «<...> traduit à la campagne, 1810. en Novembre» (ср. Фридман 1955б, 366).
Глава четвертая
214 Из письма Гнедичу, март 1817 г. (Ефремов 1883, кн. VII: 39; Майков 1886, III: 422); ср. Благой 1934, 41—42; Фридман 1965, 145—156; Зорин 1989, 598; Пильщиков 1994, 205; Кузичева 2001, 39.
215 Из письма Гнедичу, июль 1817 г. (Ефремов 1883, кн. VIII: 241; ср. Майков 1886, III: 456).
216 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 1 об.
217 Соображения о роли иноязычных вкраплений в письмах Батюшкова, высказанные в ряде моих работ (см. Пильщиков 1995а, 219—220; 1999г, 15—16; 2002а, 278—279), без каких бы то ни было ссылок повторены в статье М. В. Кузичевой (2001, 31—33).
- 210 -
218 Батюшков нередко подчеркивал свою привязанность к «экзотике»; так, о «новой страсти» к немецким авторам поэт дважды упоминает в письмах из Веймара [Н. И. Гнедичу, 30 октября 1813 г.; А. Н. Батюшковой, 10—15 ноября 1813 г.; ср. Майков 1887а, I: 173—175 (1-й пагинации); Фридман 1971, 225—226]. Тем не менее в письмах Батюшкова есть только две немецкие цитаты (обе из Гёте), причем одна из них — в связи с Тассо [«Torquato Tasso», акт II, сцена 1, стихи 782—784 (П. А. Вяземскому, январь 1817 г.); см. Зорин 1989, 640, 644; 1997, 160; Пильщиков 1995а, 244 примеч. 3; 1997, 55—56 примеч. 99]. Даже учитывая некоторые «немецкие параллели <...> „итальянофильским“ высказываниям Батюшкова» (Зорин 1997, 145), нужно помнить, что круг его немецкого чтения был довольно узок. Германская литература так и осталась для Батюшкова периферийной, а увлечение ею быстро прошло: «Къ чему переводы нѣмѣцкїе <sic!>? Добро философовъ. Но ихъ-то у насъ читать и не будутъ. Что касается до Литтературы ихъ, собственно Литтературы, то я начинаю презирать ее <...> У нихъ все каряченье и судороги. Право<,> хорошаго не много» [П. А. Вяземскому, 4 марта 1817 г. (РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24); ср. Томашевский 1948, XXVIII]. С литературой Франции ситуация прямо противоположная. Даже в период своих антифранцузских настроений (ср. Haumant 1910, 266—268) Батюшков, заявляя, что «вѣкъ славы для Французской Словесности прошелъ» [Д. В. Дашкову, 25 апреля 1814 г. (Батюшков 1827а, 33)] и что «французскіе <sic!> дрожди намъ давно наскучили» [Н. И. Гнедичу, 25 сентября 1816 г. (Ефремов 1883, кн. VII: 31; ср. Майков 1886, III: 399)], на деле проявлял живую заинтересованность в событиях французской культурной жизни и не отказывался от переводов из французской поэзии (Вацуро 1994, 203 и далее; и др.).
219 См. пи́сьма Батюшкова к Е. Н. и П. А. Шипиловым (24—29 марта 1816 г.) и к А. Н. Батюшковой (19 апреля 1816 г.).
220 Позже эту тему подхватил Андрей Белый: «Я вообще презираю всѣ слова на еры, въ самомъ звукѣ ы сидитъ какая-то татарщина, монгольство, что ли, востокъ. Вы послушайте: ы. Ни одинъ культурный языкъ „ы“ не знаетъ: что-то тупое, циничное, склизкое» [Белый 1913, 125; Санников 1999, 51, 54 (без указания на приоритет Батюшкова)].
221 Эти словосочетания обнаруживают связь с французской поэтической идиоматикой: (un pays) heureux ʽсчастливая (страна)’. Отнесенный к Италии, эпитет счастливая в первую очередь вызывает ассоциации с культурным расцветом эпохи Возрождения: «Италія была тою счастливою страною, гдѣ, въ исходѣ XIII и въ продолженіе XIV вѣковъ, науки и Изящныя искусства начали оказывать ощутительные успѣхи» (Георгиевский 1836, 71; Берков 1970, 18—20; Пильщиков 1999б, 13). Ср. у Батюшкова: «<...> языкъ воспитанный подъ счастливымъ небомъ Рима, Неаполя и Сицилїи, среди бурь политическихъ и потомъ при блестящемъ Дворѣ Медицисовъ, языкъ образованный великими писателями, лучшими поетами, мужами учеными, политиками глубокомысленными <...>» (Батюшков 1816а, 107).
222 VUB RS, F48 (Коллекция автографов), № 32544, л. [1 об.]—[2].
- 211 -
223 Там же, л. [1 об.]. В. В. Капнист был одним из первых, от кого Батюшков «услышалъ совѣтъ» заняться переводом Тассовой эпопеи [Майков 1887а, I: 74 (1-й пагинации)]; он же склонил Гнедича взяться за перевод «Илиады» (Благой 1934, 645; Егунов 1964, 162—163). О Батюшкове и Капнисте см. Благой 1934, 648—649; Серман 1959, 302—303; Фридман 1971, 79, 306.
224 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 4, 4 об.
225 Стихи из того же эпизода (Ger. lib. XII, lix, 2—3) Батюшков процитировал в одном из примечаний, которыми снабдил послание «К Тассу» (Батюшков 1808б, 65 примеч. 5).
226 Итальянский язык Батюшков знал в это время нетвердо (Томашевский 1948, VI); даже два года спустя его попытки самостоятельно строить итальянские фразы приводили к не слишком удачным результатам. Так, в письме Вяземскому (весна 1810 г.) мы читаем: «<...> mi racomando <sic!> alla memoria Sua calendesimo <sic!> Signor Principe» (РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 52).
227 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 15.
228 См.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 47 об. — 48; Майков 1885, II: 545. Непревзойденный итальянский перевод поэмы Лукреция был впервые издан в 1717 г. (Marchetti 1717) и перепечатан в 1754 г.
229 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 15.
230 Чезаротти умер в 1808 г.
231 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 15.
232 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 5—5 об. Дата выставлена в автографе [в последнем собрании письмо ошибочно датировано 23 декабря (Зорин 1989, 83); неточности в итальянской фразе, которые можно найти в публикациях письма́, приписаны Батюшкову издателями]. Итальянский «Оссиан» вышел первым изданием в 1763 г., вторым изданием — в 1772 г., третьим — в 1801 г. (Cesarotti 1801), в составе итогового 40-томного собрания сочинений Чезаротти.
233 РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—1/1, л. 1.
234 РГАЛИ, ф. 63 (К. Н. Батюшков), ед. хр. 10, л. 1 (копия).
235 Не исключено, что Батюшков опустил акцент над заглавной буквой, следуя французской орфографической привычке.
236 Готовившие к печати это письмо не только не оговорили погрешности источника, но и добавили к ним новые: во всех изданиях рукописный текст транскрибирован неправильно и снабжен неверным переводом (субстантив saper переводчики принимают за глагол). Поэтому долгое время считалось, что Батюшков сообщает Дашкову буквально следующее: «Это значит знать: это — счастливая жизнь! Жизнь и эхо, мечта, вернее, тень мечты» [см. Кошелев 1985, 336; Зорин 1989, 459—460; Арзамас, кн. II: 361—362 (раздел подготовил О. А. Проскурин)].
- 212 -
237 Ср.: <...> Qualunque opera fatta, dritta o torta <...> = <...> Любое деяние, верное или неверное <...> (Tes. I, xxi, 3). У Ариосто вергилианский мотив ложной молвы редуцирован.
238 Ср.: «Но равнодушная провозвѣстница истины и лжи, Молва распространила уже слухъ о соединеніи побѣдоносныхъ Христіанъ, и что они вступили въ путь, ничѣмъ для нихъ незаграждаемый» (Москотильников 1819, ч. I: 31). В переводе Мирабо — Попова это место звучит так: «Уже слава, возвѣщающая равно ложь и истинну (la Renommée qui publie également le mensonge & la vérité), распространила слухъ, что Христїянское воинство вступило въ путь, и не обрѣтаетъ себѣ во ономъ ни коея препоны. Она возвѣстила, какїя были онаго силы, изчислила оныхъ количество, восхвалила особно храбрость наизнаменитѣйшихъ его ратоборцевъ, нарекла ихъ имена, и подвиги ихъ разсказала» (Попов 1772, ч. I: 40; Mirabaud 1724, I: 31). Ср. сходную формулу в речи Алета к Готфреду: «Прославленїе возвѣстило во Египтѣ знаменитые твои подвиги» (Попов 1772, ч. I: 76).
239 С тем же эпическим топосом связаны эпитеты молвы у Баратынского: гремучая («Отъезд»), болтливая («Живи смелей, товарищ мой...») и разновещающая («Две доли»), а также приложение вестница Молва («Пиры»). Молва «болтлива», поскольку имеет несметное количество языков и неумолкающих уст (Aen. IV, 183); ее можно назвать «разновещающей», потому что она разносит как правдивые, так и лживые вести (Пильщиков 2002в, 79; в этой работе по оплошности указано, что в латинском тексте «Энеиды» нет существительного со значением ʽвестница’).
240 Здесь же комментатор замечает: «Таким образом, каждый стихотворный размер, каждый поэтический жанр обладает ему присущими красотами, которые талант умеет отыскать, а вкус не позволяет переменить» (La Harpe 1806, II: 167 n. 9).
241 «Ода принцу Евгению» (не путать с адресованной ему же II одой IV книги!) входит в число текстов, которые Батюшков почти наверняка знал не по первоисточникам, а по изложению Лагарпа. Оду Руссо Лагарп подробно разбирает в «Лицее» (ч. II, кн. I, гл. IX), где задерживается на VII строфе, посвященной Времени [«Ce vieillard qui d’un vol agile...» (La Harpe 1799, VI: 124; ср. Rousseau 1743, 142)]. Свидетельством знакомства Батюшкова с этой строфой служит его стихотворное поздравление, посланное Гнедичу ко дню Николы зимнего в письме от 27 ноября — 5 декабря 1811 г.: «Сей старец, что всегда летает...» (Пильщиков 1999а, 56—57). Р. М. Горохова, отмечая «необычность для русской поэзии этого образа Времени у Батюшкова», безосновательно связывает батюшковское стихотворение с «лунными» эпизодами из «Неистового Роланда» Ариосто (Горохова 1975, 244—245).
242 Ср. в письме А. Н. Оленина к Н. И. Гнедичу (9 апреля 1814 г.): «Имя Троянъ привело мнѣ на память, что Французы родъ свой нѣкогда выводили отъ того наглаго народа, который нанесъ доблестнымъ Грекамъ столь жестокія обиды: и многія сильныя души во мракъ предслалъ Ироевъ. πολλὰς δ’ ἰφτιμους ψυχὰς ἄϊδι προΐαψεν Ἡρωων <Hom. Il. I, 3—4; в цитате сохранена орфография Оленина. — И. П.>. За то послѣдовало паденіе Трои, а сіе паденіе живо мнѣ представило взятіе Парижа»
- 213 -
(РГБ, ф. 211, к. 3618, ед. хр. A—2/8, л. 1). В том же году взятие Парижа сравнивал с падением Трои Востоков (1814, 118; Егунов 1964, 127, 212; Шапир 1994а, 77 примеч. 38; 2000, 314 примеч. 43).
243 См. также письмо Жуковскому от 3 ноября 1814 г.
244 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 26, л. 3. Цитаты из «Освобожденного Иерусалима» в этом письме (Ger. lib. XV, xxiv, 3—4, 5—8) идентифицировал Майков (1886, III: 711).
245 Фразу из письма к Дашкову («La Messagère indifférente, молва, извѣстила васъ давно о нашихъ побѣдахъ, чудесныхъ поистинѣ <...>») Батюшков дословно повторил в вышеуказанном письме к Е. Г. Пушкиной: «Газеты провозгласили Вамъ наши побѣды, чудесныя по истинѣ <...>» [ГИМ, ф. 69 (В. К. Вульферт), оп. 1, ед. хр. 8, л. 12]. Ср. в парижском письме к Н. Л. Батюшкову (апрель — май 1814 г.): «Газеты увѣдомили васъ о подвигахъ нашихъ; они неимовѣрны» (Ефремов 1883, кн. VI: 539; Майков 1886, III: 265).
246 Напомню, что подобный путь прошел и Вольтер (Carducci 1898; Bouvy 1898, 97—129; Plate 1917, 50—64).
247 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 19; ср. Горохова 1974, 121; 1975, 241; Пильщиков 2000а, 9.
248 Историю публикации и комментирования этого письма́ трудно назвать счастливой. Обсуждаемый фрагмент был напечатан Ефремовым с минимальным редакторским вмешательством (Ефремов 1871, 225). Майков, обнаружив источник цитаты, исправил (как обычно, не оговорив) неточность, допущенную Батюшковым (см. Майков 1886, III: 53) — несмотря на то, что Батюшков нарушил только рифмовку, но не когерентность текста. Наиболее корректный вид письмо обрело в издании под редакцией Благого, где неточная цитата появляется в тексте самого́ письма́, а ее перевод и указание на расхождение с оригиналом Ариосто — в редакторском примечании (Благой 1934, 391—392). В последнем собрании сочинений Батюшкова письмо напечатано по архивному источнику, но итальянская цитата выправлена по Майкову, а в качестве перевода точных слов Ариосто предложен взятый у Благого перевод неточной цитаты (Зорин 1989, 108, 111 примеч. 1; Пильщиков 1994, 227).
249 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 1 об. Речь идет о прозаическом переводе П. С. Молчанова (1791—1793), сделанном с французского переложения Ж.-Б. Мирабо (1741). Карамзин, рецензировавший книгу Молчанова, был к ней более благосклонен: Ариост «занимаетъ и нравится, даже и тогда, когда читаешь его не въ сладкогласныхъ Италїянскихъ строфахъ, а въ сухомъ прозаическомъ переводѣ»; «Слогъ нашего Переводчика можно назвать изряднымъ; онъ не надутъ славянщизною, и довольно чистъ. Кто не можетъ читать Роланда ни на какомъ другомъ языкѣ, тому конечно сей Руской переводъ будетъ прїятенъ <...>» (Карамзин 1791а, 324; Заборов 1963, 63; Горохова 1974, 117; 1975, 237, 243; 1983, 459). Р. Батонди — «старый Италіянецъ, жившій въ домѣ князя Вяземскаго и умершій въ 1812 г.» (Майков 1886, III: 676).
- 214 -
250 Я не стал бы с уверенностью утверждать, что к тому времени Батюшков «прочел уже всю поэму Ариосто» (Горохова 1975, 243; разрядка моя. — И. П.).
251 Ср:
«Chi va lontan da la sua patria, vede
Cose da quel che gia <sic!> credea lontane;
Che narrandole poi, non se gli crede,
E stimato bugiardo ne rimane.То есть: ты лжешь какъ французъ, путешествующій по Россіи» (Ефремов 1874, 397—398; ср. Майков 1886, III: 100). Перевод стихов Ариосто: Кто путешествует далеко от своей родины, тот видит // Вещи далекими от того, что думал о них раньше; // А когда позже о них рассказывает, ему не верят, // И ему остается считаться лжецом.
252 В комментариях к обсуждаемым фрагментам царит путаница, вызванная наличием двух разных нумераций «Le satire» (Segre 1954, col. 1178—1179). В издании 1550 г. («edizione giolitina»), которое воспроизводит расположение текстов в автографе Ариосто, сатира к брату Галассо числится второй; в editio princeps (1534), где пятая сатира передвинута в начало, вторая сатира стала третьей. Пояснение к письму от 27 ноября — 5 декабря 1811 г., данное Майковым: «Два италіянскіе стиха приведены изъ III-й сатиры Аріосто» (1886, III: 678), — было повторено затем во многих собраниях сочинений Батюшкова, включая II том издания 1989 г. (Зорин 1989, 617). Под вторым номером сатира к Галассо упомянута в работе Р. М. Гороховой о Батюшкове и Ариосто (1975, 245 примеч. 35, 249 примеч. 47) и в примечаниях И. М. Семенко к статье Батюшкова «Ариост и Тасс» (Семенко 1977, 525). Поскольку эти примечания послужили источником для комментатора I тома собрания 1989 г. (Кошелев 1989, 448), получилось, что в «наиболее полном научном издании» произведений Батюшкова (Кошелев 1996, 281 примеч. 1) одно и то же произведение Ариосто фигурирует как два разных.
253 См. Мф 5, 38 (ср. Исх 21, 24; Лев 24, 20; Втор 19, 21). Евангельская реминисценция приобретает особое звучание в контексте отзывов Батюшкова о комической трактовке библейских сюжетов у Ариосто (см. ниже).
254 Неясно, о каких переводах Шишкова из Ариосто говорит Батюшков. В библиографии С. Гардзонио зафиксирован только шишковский стихотворный перевод XIII сонета Ариосто, опубликованный в 1831 г. (Garzonio 1984a, № 77). Ср. комментарий А. Л. Зорина: «А. Шишков делал свой перевод „Неистового Орландо“ прозой» (Зорин 1989, 618).
255 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 18, л. 27 об. (= с. 44).
256 Ср. в первоначальной редакции: <...> Съ Сидонскимъ багрецомъ и съ златомъ драгоцѣннымъ <...> (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1152, л. 14; № 9654, л. 21 об.; РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 11, л. 34 об.); <...> Съ Сидонскимъ багрецомъ и златомъ драгоцѣннымъ <...> (Батюшков 1815в, 207). Батюшкову нравилось «инкрустировать»
- 215 -
произведения новоевропейской литературы античными мотивами. Вот еще два примера из переводов 1810—1811 гг. По поводу неточности в стихах из Парни [Иный мѣста узрѣлъ знакомы, // Мѣста отчизны, милый край <...> (Батюшков 1811а, 178)] Батюшков писал Гнедичу (13 марта 1811 г.): «Этого нѣтъ въ оригиналѣ, но напоминаетъ о Виргиліевомъ dulcis patria» [Майков 1886, III: 114; ср. Ефремов 1883, кн. III: 662; имеется в виду стих Virg. Ecl. I, 3 (Kažoknieks 1968, 128; Пильщиков 1994, 215—216, 232 примеч. 26)]. В стихотворение «Источник» (подражание «Le Torrent» Парни) Батюшков ввел парафразу из Tib. I, 6, 25—26 и просил Жуковского (26 июля 1810 г.): «<...> выраженіе Я къ тебѣ прикасался оставь. Оно взято изъ Тибулла и кажется удачно» [ИРЛИ, р. III, оп. 1, ед. хр. 519, л. 1 об.; см. Пильщиков 1994, 218; ср. также: Майков 1887а, I: 342 (2-й пагинации); Топоров 1969, 315 (в обоих случаях с ошибочным указанием на Tib. I, 6, 51—53)].
257 РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—8, л. 6 (копия с поправками А. Н. Оленина и К. Н. Батюшкова). Ср. итальянский подлинник:
Altri in amar lo <senno> perde, altri in onori,
Altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;
Altri ne le speranze de’ signori,
Altri dietro alle magiche sciocchezze;
Altri in gemme, altri in opre di pittori,
Ed altri in altro che più d’altro aprezze.
Di sofisti e d’astrologhi raccolto,
E di poeti ancor ve n’era molto(= Иные в любви его <ум> теряют, иные в почестях, // Иные, скитаясь по морям в поисках богатства; // Иные в надеждах на вельмож, // Иные — занимаясь колдовскими глупостями; // Иные в самоцветах, иные в живописи, // Иные — еще в чём другом, что кому больше нравится. // Собран был ум софистов и астрологов, // И еще ума поэтов там было много).
258 Ср. в очерке «Ариост и Тасс»: «<...> игривыя мечты и вымыслы Арїоста» (Батюшков 1816а, 109). За год до написания очерка, редактируя «Берновские пи́сьма» М. Н. Муравьева, его выражение рѣзвымъ своенравїямъ Арїоста Батюшков поменял на свое собственное: игривымъ вымысламъ Аріоста (НБ МГУ, шифр 1Ry 19663, л. 35). Батюшковский вариант попал в издание 1815 г. (Муравьев 1815, 103; Космолинская 1997, 162). На совпадение между текстами Батюшкова и Муравьева обратил внимание Майков (1885, II: 565). О Батюшкове — редакторе сочинений Муравьева см. также Левин 1965, 187—189.
259 Ср. у Батюшкова: «<...> душу Виргилія, воображеніе Тасса, умъ Гомера». Высказывание Шатобриана в 1802 г. резко оспорил Женгене: «Затем он <Шатобриан> берется сравнивать Гомера, Виргилия и Тасса. Он приписывает ум первому, чувство — второму, воображение — третьему. Но что есть ум без чувства
- 216 -
и особенно без воображения? (Mais qu’est-ce donc le génie sans sentiment et surtout sans imagination?) <...> Да и к тому же, воображение ли отличает именно Тасса? (Est-ce bien d’ailleurs l’imagination qui distingue spécialement le Tasse?) <...> Эта перифраза (périphrase) ничего не доказывает» [«Décade», an X, 10 messidor; цитируется по работе К. Кордье (Cordié 1977a, 76—77)].
260 О традиционном образе Лафонтена см. Томашевский 1937б, 216—217; Пильщиков 1994б, 235—236 примеч. 61—62; Скакун 1996. О Батюшкове и Лафонтене см. Пильщиков 1995а, 229—234.
261 Ср. у Батюшкова в письме Гнедичу (29 декабря 1811 г.): Ариост «умѣетъ васъ растрогать даже до слезъ; самъ съ вами плачетъ и сѣтуетъ, и въ одну минуту и надъ вами, и надъ собой смѣется» (Ефремов 1883, кн. V: 337; ср. Майков 1886, III: 170); в статье «Ариост и Тасс»: «<...> онъ трогаетъ, убѣждаетъ, онъ исторгаетъ у васъ невольно слезы; самъ плачетъ съ вами, и смѣется надъ вами и надъ собою» (Батюшков 1816а, 109).
262 В частности, в жанре стихотворной сказки (conte en vers); 25 марта 1815 г. Батюшков советовал Вяземскому попробовать себя в сказочном роде: «У насъ множество баснописцевъ. Пусть будутъ и сказочники. Етотъ родъ не низкой. Требуетъ ума, и большой разборчивости. Имъ занимался и Лафонтенъ и Вольтеръ и Аріостъ, сей великій единственный Умъ, который по моему мнѣнію, не уступаетъ Омеру» (РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 73 об.). Показательно, что Батюшков был одним из первых, кто увидел продолжение традиций Ариосто в поэме Пушкина «Руслан и Людмила» — см. пи́сьма Батюшкова Д. Н. Блудову от ноября 1818 г. и А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. (Розанов 1937в, 381; Горохова 1974, 122—123; 1975, 270; Кошелев 1997, 64—66).
263 Замечу кстати, что, если верить данным существующих комментариев и специальных работ о Батюшкове и Вольтере (Заборов 1970, 165—167; 1978, 144—145; Зубков 1999а), в произведениях Батюшкова нет цитат из «Орлеанской девственницы». Это не так: в «Похвальном слове сну» приведен 19-й стих из VII песни «La Pucelle».
264 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5082, л. 115.
265 Orl. fur. XIX, xvii—xlii; XXIII, c — XXIV, xiii [позже Батюшков перевел этот фрагмент прозой (Батюшков 1817д)]; XXIX, xl — XXX, xvi; XXXIX, xliv—lxi.
266 См. послание «À ... Du Châtelet, sur la calomnie»; «Mémoire sur la satire», раздел «De Despréaux»; «Le Temple du Goût»; «Siècle de Louis XIV», гл. XXXII и статьи «алфавитного каталога» («Quinault»; «Lulli»); «Dictionnaire philosophique», статьи «Art dramatique...» (раздел «De l’opéra») и «Critique»; и мн. др. (Gros 1926, 734 сл.; Farmer 1960, 318).
267 По выражению рецензента 1780-х годов, текст Кино был мармонтелизирован [marmontélisé (Cioranescu 1939, 184)]. Либретто не считалось произведением Мармонтеля и в собрания его сочинений не включалось. Лагарп в «Лицее» (ч. II, кн. I,
- 217 -
гл. VIII), высоко отзываясь о Пиччинни, ни словом не упоминает его либреттиста (см. La Harpe 1799, VI: 83—84); в отзыве, написанном в одно время с премьерой, но опубликованном поздне́е, Лагарп еще более откровенен: «<...> это настоящая услуга, которую Мармонтель оказал нашей лирической сцене (à notre scène lyrique); но он получит больше денег, чем славы, и больше возражений, чем благодарности (plus d’argent que de gloire, et plus de contradictions que de remerciemens)» [Laharpe 1801, II: 46, ср. 45 (№ LX)]. Новая постановка «Роланда» стала памятным историко-музыкальным событием; ср. позднейший отклик («Моцарт и Сальери», сцена I, стихи 50—51): <...> когда Пиччини // Пленить умел слух диких парижан <...> (Пушкин 1948, 7: 124).
268 По-иному сложилась судьба творческого наследия Жана-Батиста (Джамбаттисты) Люлли. Буало, не признавая Кино, все же ценил музыку Люлли; Вольтер ставил Люлли наравне с Кино или ниже его (Farmer 1960, 318), а Лагарп, резюмируя вкусы второй половины XVIII в., со всей решительностью высказался о сотворчестве музыканта и поэта: «Кино заставил забыть Люлли. Одного уже больше не играют (l’un n’est plus chanté), другого не перестанут читать» [«Лицей», ч. II, кн. I, гл. VIII (La Harpe 1799, VI: 54)]. Этого мнения не разделял, кажется, только Вовенарг («Réflexions critiques...», раздел «Philippe Quinault»).
269 Дело касается известного замечания Пушкина о строке из послания «К другу» (<...> Любви и очи и ланиты <...>): «<З>вуки италианские! Что за чудотворец этот Б<атюшков>» (Пушкин 1949, 12: 267; ср. также Розанов 1930, 121; Благой 1934, 31; Серман 1939, 277; Эткинд 1973, 151; Благой 1973, 41—42; Serman 1974, 166; Вацуро 1994, 202).
270 Из письма А. И. Тургеневу от 12 июля 1818 г. (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 230).
271 В «Памятнике Отечественных Муз» на 1827 год это письмо ошибочно датировано 30-м июня.
272 РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—1/5, л. 2.
273 Вряд ли в 1818 г. ставилась исходная версия оперы (1808) на музыку Луиджи Моски (Mosca).
274 РГАЛИ, ф. 63, оп. 1, ед. хр. 11, л. 2; ср. Фридман 1970, 190 примеч. 49.
275 В Вене премьера «Tancredi» по-итальянски состоялась 17 декабря 1816 г., по-немецки — 12 марта 1818 г.; осенью 1817 г. опера игралась по-немецки в Петербурге (Loewenberg 1955, col. 630). Существовала еще одна опера с тем же заглавием — «Tancrède» (1702) французского композитора Андре Кампра (Campra) по либретто А. Данше (Danchet), однако к началу XIX в. это произведение было напрочь забыто.
276 В моей статье об итальянских темах в письмах Батюшкова неверно указана дата возобновления «Моисея»: «17.III 1819» вместо «7.III 1819» (Пильщиков 2002б, 292). Среди представлений, которые Батюшков мог посещать в Неаполе, была еще одна опера Россини на сюжет «Освобожденного Иерусалима» — «Armida» (либретто
- 218 -
Г. Шмидта), впервые поставленная на сцене театра Сан Карло 11 ноября 1817 г. (Loewenberg 1955, col. 656).
277 Из письма А. И. Тургеневу от 12 июля 1818 г. (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 230 об.).
278 Там же, л. 230.
279 Из письма Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 г. (ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 324, л. 16).
280 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 230. Антонио Мареска Донорсо, князь ди Серра-Каприола (Serra-Capriola, 1750—1822) — неаполитанский посланник при русском дворе (Майков 1886, III: 760).
281 ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 324, л. 72.
282 В издании 1989 г. по ошибке напечатано: «В сердце не чувствую боли» (Зорин 1989, 436 примеч. 1).
283 Иначе — «La molinarella» (были и другие варианты).
284 Ср. Hor. Serm. I, 6, 122, 125—126 (см. Пильщиков 1994, 212).
285 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 230 об. Во всех публикациях письма́ цитата воспроизведена неточно: «<...> la fresc’aura respir <sic!>» (Бартенев 1867, № 11: стб. 1520); «<...> la fresc’aura respirar» (Майков 1886, III: 517); «<...> la fresc’aura respirare» (Зорин 1989, 505).
286 Фортепианную транскрипцию «Музыкальных вечеров» сделал Ф. Лист (1837). Для гитары дуэт Россини «Già la notte s’avvicina...» был переработан популярным в свое время композитором и гитаристом Фердинандо Карулли (1770—1841); см. его «Douze Ariettes Italiennes sur motifs de Rossini», № 7.
287 О пребывании Батюшкова в Италии см. Майков 1887а, I: 270—285 (1-й пагинации); Фридман 1965, 96, 99—100, 106; Lo Gatto 1971, 82—83; Кошелев 1987, 263—283; Гринкруг 1996.
288 РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—1/6, л. 1. Дата получения проставлена рукою Оленина: «1. Марта 1819». Тургенев также получил вести из Рима в начале марта: содержание батюшковского письма́ он пересказывает Вяземскому 5 марта 1819 г. (ОА, I: 199). Дату отправки писем Батюшкова установить трудно; ср. в ответном письме Оленина (13 марта 1819 г.): «<...> спасибо, и премного спасибо! за< >обстоятельное письмо изъ Рима. отъ (безъ числа согрѣшихъ) Февраля сего года» [РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—3, л. 1 (копия)].
289 Там же, ед. хр. I—1/6, л. 1, 2 об. Графическая форма начальной буквы в словах Римѣ и Римъ (1) совпадает с формой строчной р.
290 Батюшков имеет в виду неаполитанское письмо Тассо от июня 1588 г. к кардиналу Антонио Каррафе (Carrafa) [Зорин 1989, 654 (с неточностью); Пильщиков 1994, 225].
- 219 -
291 Позже Тургенев цитировал строки из не дошедшего до нас письма́ Батюшкова: «Я все роюсь въ своихъ старыхъ бумагахъ и нахожу безпрестанно сокровища. Передо мною два письма нашихъ первоклассныхъ поэтовъ: Батюшкова изъ Неаполя, отъ 10 Генваря 1820, и Пушкина изъ Бессарабіи, отъ 21 августа 1821 г. <...> Батюшкова письмо какъ-то невесело, хотя онъ еще жилъ тогда въ литературномъ мірѣ и подъ небомъ Неаполя. Пеняя мнѣ за мое молчаніе, онъ говоритъ: „Одни письма друзей могутъ оживлять мое существованіе въ Неаполѣ: съ пріѣзда я почти безпрестанно былъ боленъ, и еще недавно просидѣлъ въ комнатѣ два мѣсяца“. Прочитавъ сіи строки, я упрекнулъ себя въ какой-то виновности его послѣдующаго бѣдствія; но кто угадаетъ въ Петербургѣ, въ шуму и разсѣяніи жизни нашей, потребность сердца больнаго друга на чужбинѣ?» (Тургенев 1842, 5—6).
292 Сочетание «краснорѣчивый прахъ» встречается у Батюшкова в послании «К другу» (1815) и в элегии «Умирающий Тасс»: Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ <...> Земля священная Героевъ и чудесъ! // Развалины и прахъ краснорѣчивый! (Батюшков 1817а, ч. II: 246). Этот же оборот встречается у Гнедича в окончательной редакции послания «К К. Н. Батюшкову» [<...> Гдѣ Рима прахъ краснорѣчивый, // Иль градъ святой, Ерусалимъ (Гнедич 1832, 130)], а также у Воейкова в переводе «Садов» Делиля (песнь II, стих 677) и у Баратынского в «Отрывках из Поэмы: „Воспоминания“» (стих 106).
293 Ср.: «Здѣсь недавно я бродилъ по развалинамъ Ольвїи: сколько воспоминанїй! Если успѣю то опишу сіи священныя <sic!> остатки, сїю могилу города <...> Жалѣю что нашъ Карамзинъ не былъ въ етомъ краю. Какая для него пища. Можно гулять съ мѣста на мѣсто съ однимъ Геродотомъ въ рукахъ. Я невѣжда и мнѣ весело: что же должны чувствовать люди ученые на землѣ классической? Угадываю ихъ наслажденїя» [А. И. Тургеневу, 12 июля 1818 г. (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 230)]; «<...> я отправился <...> въ древнюю Ольвїю, и осмотрѣлъ любопытныя <sic!> остатки или могилу сего города»; «Будучи въ Ольвїи я сожалѣлъ что Вы, Милостив<ый> Государь, не посѣтили сего края: берега Чорнаго Моря, берега исполненны<е> воспоминанїй и каждый шагъ важенъ для любителя Исторїи и отечества» [А. Н. Оленину, 17 июля 1818 г. (РГБ, ф. 211, к. 3619, ед. хр. I—1/5, л. 1, 1 об.)]. Об античном ореоле Ольвии см. Егунов 1964, 124—125, 257.
294 Эти пи́сьма были опубликованы друзьями Батюшкова еще в 1827 г.: см. Батюшков 1827а, 24—36; 1827в (ср. Майков 1885, II: 529—530; Венгеров 1891, 294—295; Mercereau 1967, 156—158; Зубков 1987, 287; Зорин 1988, 370—371; Pil’shchikov, Fitt 1999, 29).
295 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 225.
Глава пятая
296 Цитируемый фрагмент своей будущей «Истории» Женгене написал еще в 1788 г. и опубликовал в «Mercure de France» под заглавием «Размышления об
- 220 -
Ариосте» (см. Ginguené 1788, 182; Grossi 2001, 252), однако у нас нет сведений, позволяющих предполагать знакомство Батюшкова с этой статьей.
297 Об отношении Ж.-Ж. Руссо к творчеству Тассо см. Benedetto 1912; Beall 1942, 165, 179—191; Горохова 1986, 92—96.
298 Скоппа специально отмечал важность своих поправок и дополнений к «Письму» Руссо. Итальянский стиховед утверждал, что французская версификация может стать не менее «совершенной», чем итальянская; в развернутом подзаголовке к «Трактату» говорится: «<...> la langue française y est garantie de toutes les imputations injustes, faites par J.-J. Rousseau, dans sa lettre sur la Musique» = «<...> французский язык защищен здесь от всех несправедливых обвинений, возведенных <на него> Ж.-Ж. Руссо в его письме о Музыке». Руссо был не единственным сторонником идеи превосходства итальянского языка над французским. Доказательству этого тезиса посвящена книга Дж. Л. Деодати де Товацци «Рассуждение о превосходстве итальянского языка» («Dissertation sur l’excellence de la langue italienne», 1761), оказавшая влияние, в частности, на позднего Вольтера (Bouvy 1898, 14—19).
299 Это же писал В. Олин: «Вся прелесть втораго стиха строфы сей <Il rauco suon de la tartarea tromba. — И. П.> состоитъ въ фигурѣ, называемой по Гречески ономатопея (ὀνοματοπεία <= ὀνοματοποιΐα>), или въ звукоподражательной гармоніи слова <...>» (Олин 1820, 249). Во французской эстетике понятие «l’harmonie imitative» трактовалось как родовое по отношению к ономатопее (см. Marmontel 1763, 257, ср. 217, 246—247, 301, 317—318).
300 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20, t. I, p. 92—93 (подробнее см. Пильщиков 2000а, 22—23).
301 Транскрипция Бессонова ввела в заблуждение и других ученых (ср. Верховский 1941, 405).
302 К вопросу о «богатстве звукоподражательной гармонии» у Данте критик возвращается при разборе эпизода с флорентийскими ворами из XXV песни «Ада» (Ginguené 1811, II: 104).
303 Из письма к А. Н. Батюшковой от 9 августа 1812 г. (РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 22, л. 36).
304 Имена Тибулла и Петрарки соседствуют также в очерке «О впечатлениях и жизни Поэта» (1815), перепечатанном в «Опытах» под заглавием «Нечто о Поэте и Поэзии».
305 Первое дошедшее до нас описание эротического Элизиума, в котором тени испытывают «земныя наслажденія», дает Тибулл в III элегии I книги (см. Eisenberger 1960, 193; Geiger 1978, 10—27; Bright 1978, 27—31; Cairns 1979, 52). Эту элегию Батюшков перевел еще в 1811 г. (Пильщиков 1994, 216—218, 232 примеч. 30), но начал ее публиковать только с 1815 г. (см. Батюшков 1815в; ср. 1816в).
306 Из письма Гнедичу от 19 сентября 1809 г. (ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 16); ср. Некрасов 1911, 184—185; Contieri 1959, 167; Фридман 1971, 126; Пильщиков 2000б, 11.
- 221 -
307 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 12, л. 1. До сих пор комментаторы Батюшкова ошибочно считали, что это «нѣсколько измѣненный послѣдній стихъ» из сонета «Né mai pietosa madre al caro figlio...»: <...> E sol quant’ ella parla ho pace o tregua [Майков 1887а, I: 398 (2-й пагинации); Некрасов 1911, 205; Благой 1934, 465; Contieri 1959, 180].
308 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 12, л. 2. В первой публикации стихотворения итальянский эпиграф сохранен (Батюшков 1816е, 183); источник цитаты идентифицировал Майков [1887а, I: 399 (2-й пагинации)].
309 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 12, л. 4 об.
310 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 77. Эти стро́ки — не только знак общего кризиса (Зорин 1988, 372); Батюшков хочет сказать, что поэзия не помогла в любви. Ср. у Тибулла: Nec prōsunt elegī nec carminis auctor Apollō <...> Īte procul, Mūsae, sī nōn prōdestis amantī <...> ad dominam facilēs aditūs per carmina quaerō: // īte procul, Mūsae, sī nihil ista valent = Бесполезны элегии и покровитель песен Аполлон <...> Идите прочь, Музы, если нет в вас пользы влюбленному <...> к владычице легкого пути через песни ищу: // идите прочь, Музы, если песни ничего не сто́ят (Tib. II, 4, 13—15, 19—20); Heu, canimus frūstrā <...> = Увы, тщетно я пою <...> (Tib. I, 5, 67; Пильщиков 1994, 216).
311 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 25.
312 Женгене более сдержан в оценке вольтеровских стихов (см. Ginguené 1811, II: 519—521).
313 Речь в письме идет о хвалебной рецензии Козлова на «Опыты в Стихах и Прозе» (Козлов 1817; Майков 1886, III: 746—747).
314 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20, t. I, p. 28; Пильщиков 2000а, 21. В публикацию Н. А. Бессонова (1885) эта помета не вошла.
315 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20, t. I, p. 4; Бессонов 1885, 460.
316 РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 20, t. I, p. 109.
317 Ср. spirito maligno ʽзлой дух; дьявол’.
318 Ср. также la lor cieca vita = их слепая жизнь (Inf. III, 47; о душах, не принятых в загробном царстве) и il cieco fiume = слепая река (Purg. I, 40; о подземном ручье).
319 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 16. Начальная буква в имени Данте по форме совпадает со строчной д.
320 Орфография этого имени у Женгене не выдержана; он непоследователен в употреблении accent aigu: Griséldis и Griseldis.
321 Майков отмечал, что в своем отзыве об описании чумы у Боккаччо Батюшков «повторяетъ <...> мнѣніе Женгене» (Майков 1885: II, 658).
322 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 22 об. Начальная буква в имени Бок(к)ачїо в обоих случаях по форме совпадает со строчной б.
- 222 -
323 Эпизод Олинда и Софронии стал дебютной публикацией мерзляковской тассианы (см. Мерзляков 1808а; ср. Кошелев 1986, 104). О первом русском переводе данного эпизода см. Горохова 1980, 146; Garzonio 1984a, № 486.
324 Публикуя этот перевод, М. Каченовский сделал примечание: «Писанное отцемъ знаменитаго Тасса. „Любопытно видѣть, какъ родители Торквата пеклись объ его воспитаніи <...>“ Ето слова почтеннѣйшаго Б<атюшков>а, приславшаго ко мнѣ переводъ свой. Р<е>д<акто>ръ» (Батюшков 1817б, 165 примеч. *).
325 Сомнительно, что в «Пантеон» «Батюшков намеревался включить, в дополненном виде <? — И. П.>, опубликованные уже статьи об Ариосто, Тассо, Петрарке» (Кошелев 1989, 469) — в «проспектусе» указаны предполагаемые источники статей второго тома: «Женгене, Sismondi, Bouterweck и проч.» (Майков 1886, III: 423).
326 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24.
327 ИРЛИ, № 27844, л. 14.
328 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24.
329 Там же, л. 81.
330 Единственным достоверным источником этих переводов являются публикации в «Вестнике Европы». Несмотря на это, исследователи цитируют батюшковские отрывки по майковскому изданию. Между тем текст Майкова не отвечает даже самым непритязательным текстологическим требованиям. Так, в «Олинде и Софронии» некоторые неполногласные формы заменены полногласными (голову вместо главу, веретену вместо вретену); взамен вокальной формы предлога — редуцированная (къ смертной казни вместо ко смертной казни), взамен совершенного вида глагола — несовершенный (воспламенять вместо воспламенить), взамен нечленного прилагательного — наречие [вместо недвижимы, въ трепетѣ ожидали Майков печатает недвижимо <...> ожидали (Майков 1885, II: 264, 268, 270; ср. Батюшков 1817б, 6, 12, 14)]. Майковская редакция «Олинда и Софронии» положена в основу текста, напечатанного В. А. Кошелевым (1989). Ошибки Майкова Кошелев умножил: говорит вместо говорилъ; своей вместо твоей; попросила старца вместо вопросила старца; во храме вместо въ храмѣ (Кошелев 1989, 318—320; ср. Батюшков 1817б, 12, 13, 15, 17). Один из сегментов текста прошел поэтапную трансформацию: у Батюшкова юные герои перед казнью были «прикованы къ одному столпу», у Майкова — «къ этому столпу», у Кошелева — «к этому столбу» (Батюшков 1817б, 12; Майков 1885, II: 268; Кошелев 1989, 318). Впечатление от чтения батюшковского отрывка в новейшем издании довершают курьезные опечатки. «Мужественная» противница крестоносцев Клоринда (Батюшков 1817б, 14) становится «божественной» (Кошелев 1989, 319). Читателю не сто́ит ломать голову, прочитав, что «в капище лжепророка» «невинные <?!> раздражают Небеса преступным и бессмысленным поклонением» (Кошелев 1989, 314), — конечно же, православный переводчик ревностного католика Тассо назвал мусульман невѣрными (Батюшков 1817б, 5). Примеры могут быть умножены, но и приведенных, кажется, достаточно, чтобы составить представление о степени аутентичности критических изданий Батюшкова.
- 223 -
331 В. А. Кошелев почему-то считает «Путешествие», «Альцину» и «Отрывок из Маккиавеля» «законченными» работами и числит их среди переводов, отправленных Каченовскому в июне 1817 г. (Кошелев 1989, 469).
332 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 26.
333 РРГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 25.
334 О восприятии Данте во Франции и франкоязычной Швейцарии см. Oelsner 1898; Counson 1905; 1906; Farinelli 1908; Counson 1921; Friederich 1950, 57—180, 510—516; Cordié 1985.
335 О Франческе и Уголино П. Е. Георгиевский рассказывал воспитанникам царскосельского Лицея: «Мрачная поэма Данте <...> содержитъ въ себѣ безчисленныя, неподражаемыя красоты стиля и выраженій; довольно упомянуть объ эпизодахъ Уголина и Франчески д<а> Римини, дающихъ творцу ея мѣсто между великими поэтами всѣхъ вѣковъ и народовъ» (Георгиевский 1836, 74).
336 Ср. la dureté, l’âpreté vs les peintures plus douces (Ginguené 1811, III: 263) и la rauque dureté vs la douce harmonie (Rousseau 1792, 360).
337 Ср. у Катенина в «Размышлениях и разборах»: «<...> языкъ Данте чудесно благороденъ и всеобъемлющъ; на все высокое и низкое, страшное и нѣжное, находитъ онъ приличнѣйшее выраженіе, и тѣмъ несравненно разнообразенъ» (Катенин 1830, № 40: 30; Асоян 1989, 20—21). Руководствуясь этим тезисом, Катенин начал смело соединять в своем переводе «Божественной Комедии» лексику, принадлежащую к несовместимым, как тогда считалось, жанрово-стилистическим пластам — от библеизмов до просторечия (Тынянов 1926а, 259—260; Пильщиков 2002г, 35—36)]. Стихотворный отрывок «Уголин: Из Данте» Катенин напечатал в 1817 г. (Елина 1959, 105; Данченко 1973, № 172; Гардзонио 1979, 161; Акимова 2000а, 33). Первый русский перевод этого эпизода (прозой) был сделан в 1800 г. П. С. Железниковым (Алексеев 1970, 56—60). Эпизод Па́оло и Франчески переложил стихами Абр. Норов в 1827 г.; он же опубликовал стихотворный перевод эпизода Уголино (1825) и ряд других отрывков из «Божественной Комедии» (Данченко 1973, № 177, 178; Garzonio 1984a, № 148, 150 и др.).
338 Из писем Гнедичу от 6 и 19 сентября 1809 г. (ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1157, л. 13 об., 17).
339 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24.
340 Имеется в виду рецензия Н. И. Греча на перевод Шишкова, написанная «въ тонѣ сдержаннаго неодобренія» (Майков 1886, III: 763): «<...> не позволяемъ себѣ никакого сужденія на щетъ самаго перевода, довольствуясь выпискою изъ онаго двухъ мѣстъ и изложеніемъ вкратцѣ мыслей нашихъ о переводахъ Поэмъ въ прозѣ» (Греч 1818, 81). В тексте рецензии (с. 82) семь строк заменены точками, «вѣроятно означающими мѣсто, уничтоженное цензурой» (Майков 1886, III: 763).
341 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 225 об. Первым это письмо опубликовал П. И. Бартенев, который правильно воспроизвел авторские подчеркивания, но допустил
- 224 -
неточность в траскрипции [укутанны вместо укутанныя (Бартенев 1867, № 11: стб. 1533)]. Майков, перепечатывая письмо, исправил оплошность предшественника, однако при этом произвольно изменил авторские выделения и, кроме того, ошибочно прочел слово густоту как чистоту (Майков 1886, III: 532). Наиболее точный текст письма появился в издании 1989 г. (см. Зорин 1989, 516). Во всех собраниях батюшковские подчеркивания оставлены без пояснений.
342 Ср. итальянский подлинник с полным текстом шишковского перевода:
Mostra il bel petto le sue nevi ignude,
Onde il foco d’amor si nutre e desta:
Parte appar de le mamme acerbe e crude,
Parte altrui ne ricopre invida vesta:
Invida; ma s’a gli occhi il varco chiude,
L’amoroso pensier già non arresta:
Che non ben pago di bellezza esterna,
Negli occulti secreti anco s’interna.
Come per acqua o per cristallo intero
Trapasso il raggio, e nol divide o parte:
Per entro il chiuso manto osa il pensiero
Sì penetrar nella vietata parte.
Ivi si spazia, ivi contempla il vero
Di tante meraviglie a parte a parte:
Poscia al desio le narra e le descrive,
E ne fa le sue fiamme in lui più vive(Ger. lib. IV, xxxi—xxxii)
У Шишкова эти октавы переведены так: «Обнаженная шея кажетъ бѣлые снѣги свои, возраждающіе и питающіе огнь страсти; часть открывается пухлыхъ, упругихъ грудей, другую же часть скрываетъ завистливая одежда: завистливая; но хотя взору преграждаетъ путь, однако не можетъ остановить страстной мысли, которая, не довольствуясь наружными красотами, въ самыя сокровеннѣйшія таинства проницаетъ»; «Какъ лучъ проходитъ сквозь воду, или стекло, не прорывая или не раздѣляя ихъ; такъ мысль дерзаетъ сквозь густоту одежды прокрадываться въ укутанныя части: тамо по настоящимъ прелестямъ гуляетъ, и любуется, и разсматриваетъ ихъ одну за другою; пото̀мъ разсказываетъ, описуетъ ихъ желанію, и пламень его множитъ и разжигаетъ» (Шишков 1818, 77—78; Греч 1818, 85).
343 В «Литературной истории»: le vêtement <...> fermé ʽнепроницаемая одежда’ (Ginguené 1812, V: 433).
344 «Гекзаметрами безъ мѣры» Батюшков называет «Отрывки из Виргилиевых Георгик» и «Виргилиевой Енеиды Песнь первую», опубликованные Воейковым в «Вестнике Европы» в 1816—1817 гг. (Пильщиков 1994, 215; о версификационных особенностях
- 225 -
этих переводов см. Шапир 1994а, 47, 58, 80, 96—97; 2000, 282, 293, 320, 470). Под «пятистопными стихами безъ рифмъ» подразумеваются переводы Жуковского из Гебеля («Тленность», «Деревенский сторож в полночь») и Шиллера («Орлеанская дева»), напечатанные в сборниках «Für Wenige. Для немногих» в 1818 г. (ср. Wachtel 1998, 59 и далее; о ритмико-синтаксическом своеобразии переводов из Гебеля см. Шапир 2003а).
345 ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 225 об.
346 Посредничеством лебреновской версии объясняется появление в русском тексте существительного сокровища. Лебрен расподобил синонимы spoglie и rapine ʽтрофеи; военная добыча; награбленное добро’ и передал их как dépouilles ʽтрофеи’ и richesses ʽсокровища’.
347 Следует отвести ненужную ассоциацию с известным высказыванием Батюшкова из письма Гнедичу от 11 мая 1811 г. о переводе Расиновой «Ифигении в Авлиде», принадлежащем М. Лобанову: «Но съ Расиномъ шутить нельзя: вотъ главныя условія переводчика Расина: ясность, плавность, точность, поэзія <...>» (Ефремов 1883, кн. IV: 113; ср. Майков 1886, III: 125). Речь в этом письме идет не о переводческой технике, а о стилистических принципах regularité, clarté, élégance, провозглашенных Вольтером и примененных Батюшковым к Расину (Серман 1939, 248); по мнению Батюшкова, лобановский перевод не вполне соответствовал этим требованиям. Пушкин в письме к брату (январь 1824 г.) высказывался о Лобанове — переводчике Расина куда более резко, но говорил, по сути, то же, что Батюшков: «Къ стати о гадости — читал я Федру Лобанова <...> М<ать> его въ риѳму! вотъ какъ все переведено! А чемъ-же <sic!> и держится Иванъ Ивановичъ Расинъ, какъ не стихами полными смысла, точности и гармоніи!» (Пушкин 1926, 68).
Глава шестая
348 Об отношении Пушкина к Петрарке см. Розанов 1930; Picchio 1989; Shapiro M. and M. 1993; Хлодовский 1999; Пильщиков 2000б.
349 Утверждение Н. Б. Реморовой (1971, 103) о том, что «в библиотеке Пушкина трудов Женгенэ» вообще «нет», нужно считать недоразумением. В распоряжении поэта было семь томов первого издания «Литературной истории» (1811—1819): первый, третий, четвертый и с шестого по девятый, а также заключительный (десятый) том второго издания (1823).
350 Ср. также замечания о возможном влиянии Женгене на Пушкина — читателя Данте (Асоян 1989, 43; Вацуро 1995, 379) и Ариосто [Томашевский 1987, 112 примеч. 14 (с неточностью: «Ginguené <...> 1812. T. 12» вместо «Ginguené <...> 1811. T. IV»)].
351 О значениях, которые слово педант имело в пушкинскую эпоху, см. Добродомов, Пильщиков 2001, 256—270.
- 226 -
352 Ср. также упоминание «важнаго и мрачнаго Данте» в статье «Петрарка» (Батюшков 1816а, 181) и черновые варианты 7-й и 14-й строк пушкинского стихотворения «Кто знает край, где небо блещет...» (1828): Где Dante мрачный и сур<овый>; Где Dante темный <и> суровый; Где Тасса нежного октавы; Где пел Торквато величавый; Где пел Петрарка величавый (Пушкин 1949, 3, кн. 2: 645—647; Благой 1973, 32—33; Вацуро 1995, 376—377; Пильщиков 2002а, 137—138; см. также Томашевский 1934, 311—312; Гаспаров 1983, 335—336]. Занятно, что А. В. Никитенко, который считал, что Батюшков не проявлял никакого интереса к Данте, использует для характеристики Алигьери всё тот же батюшковский эпитет: Батюшков, «по счастливому стеченію обстоятельствъ, сроднился съ поэтами итальянскими. Правда, и тутъ искалъ онъ союза не съ суровымъ, могущественнымъ Данте, а съ сладкопѣвнымъ, роскошнымъ, сладострастнымъ Тассо и легкими пѣвцами земли и ея благъ <...>» (Никитенко 1839, 460; разрядка моя. — И. П.).
353 При первой публикации «Ариоста и Тасса» в «Вестнике Европы» в этом месте было напечатано: «<...> двухъ поетовъ» (Батюшков 1816а, 121). Видимо, в исходном варианте статьи Батюшков упомянул только Данте и Петрарку, а имя Альфьери вставил в последний момент (об этом свидетельствует и нарушение хронологии при перечислении имен). Пушкин (1937, 13: 177 примеч. 1), называя итальянских авторов в цитированном выше письме Бестужеву, сначала (помимо Данте и Петрарки) вспомнил только ранее названного Батюшковым Alfieri — имя Foscolo было добавлено позже. А в набросках возражений на статью Бестужева: «После кавалера Marini явился <sic!> Alfieri, Monti и Foscolo» — Пушкин написал сперва «Alfieri и Foscolo» и лишь затем вставил Monti (см. Пушкин 1949, 11: 25, 299; об отношении Пушкина к итальянской литературе XVIII — первой четверти XIX в. ср. Розанов 1937а).
354 Последняя формула не находит прямых соответствий в ближайших литературных источниках пушкинского «Сонета»: у Вордсворта и Сент-Бёва. Ср.: <...> the melody // Of this small lute gave ease to Petrarch’s wound = <...> мелодия // Этой маленькой лютни успокаивала раны Петрарки; C’est sur ce luth heureux que Pétrarque soupire = На этой счастливой лютне вздыхает Петрарка (Морозов 1915, 86; Гроссман 1925, 121—122; Яковлев 1926, 114, 122—124, 126, 368—369 примеч. 23—25; Розанов 1930, 127—131; Благой 1973, 44—45; Сурат 1998; Перцов 1998, 221—235, 245—247 примеч. 7—16, 251—253; Кибальник 1998, 89—93; Ахингер 1999, 398—403). О перифразах лить (изливать) жар (огонь) любви в поэтическом языке пушкинского времени см. Виноградов 1935, 257—259; Григорьева 1964, 75—81; 1969, 211—221; Иванова 1969, 299—300; Перцов 1998, 227.
355 Мне не удалось найти у Альфьери тех слов, которые приводит Батюшков. В сонете «O cameretta, che già in te chiudesti...» Альфьери именует Петрарку нежным и глубоким учителем любви (gentil d’amor mastro profondo), а в своей знаменитой автобиографии «Жизнь Витторио Альфьери из Асти, написанная им самим» называет его наш божественный учитель этой божественной страсти [il nostro divino maestro di questa divina passione (эпоха II, гл. X)], наш учитель любви [il
- 227 -
nostro maestro d’amore (эпоха III, гл. XIV)] и наш величайший учитель любви [il nostro sovrano maestro d’amore (эпоха IV, гл. X; Alfieri 1967, 57, 141, 208)].
356 Стих 1, LVIII, 11 (Петраркѣ шествуя вослѣдъ), с одной стороны, соотносится с батюшковской характеристикой Петрарки («<...> Петрарка, немедленно шествуя за суровымъ Дантомъ <...>»), а с другой, отчасти повторяет строку В. Л. Пушкина из «Послания к Кн. Петру Андреевичу Вяземскому»: Давно ли, шествуя Корнелію во слѣдъ, // Поэтъ чувствительный, питомецъ Мельпомены, // Творецъ Димитрія, Фингала, Поликсены, // На Сѣверѣ блисталъ?.... И Озерова нѣтъ (Пушкин 1815, 135). Как известно, это послание положило начало стихотворной переписке В. Л. Пушкина, Вяземского и Жуковского, которая публиковалась в 1815 г. на страницах «Российского Музеума» и вызвала к жизни арзамасский миф о мученике Озерове и злобном завистнике Шаховском (ср. Гиллельсон 1974, 3—34; и др.). В 1822 г. послание Вяземскому было перепечатано в сборнике стихотворений Василия Львовича, упомянутом в экспромте Пушкина из письма Плетневу («Ты издал дядю моего...», 1824). Об этом сборнике Пушкин спрашивал Вяземского 2 февраля 1822 г.: «<...> скороли выйдутъ его <Дяди> творенья?» (Пушкин 1926, 26).
357 Ср.: «Полиграфъ, Гр. Сочинитель, пишущій о многихъ предметахъ» (Яновский 1806, стб. 375); «Полиграфъ многописатель, сочинитель, которой много пишетъ» (Кравчуновский 1817, 77). Скорее всего Катенин использовал это слово во втором значении (ʽграфоман’).
358 Ср. цитированное выше суждение Женгене: «Il avait <...> destiné ses poésies vulgaires <...> à plaire aux femmes».
359 См. письма Пушкина, адресованные Катенину (первая половина февраля 1826 г.), Вяземскому (27 мая 1826 г.) и Плетневу (7 января 1831 г.), а также предисловие к «Отрывкам из путешествия Онегина». Впрочем, не все исследователи ручаются за искренность этих пушкинских оценок [история вопроса изложена в диссертации М. В. Акимовой (2000б, 8—9)].
360 Сам Петрарка в III беседе из книги «О сокровенном» («De secreto conflictu curarum meum», или «Secretum meum») устами своего собеседника Августина называет любовь и славу двумя золотыми цепями, приковывающими его душу к земному миру.
361 См.: ИРЛИ, ф. 244 (А. С. Пушкин), оп. 1, № 996, л. 9 об.
362 Ср.: «<...> но Петрарка замѣтивъ ея поведенія <sic!> сказалъ бы <...>» (Там же, л. 9 об.; ср. Пушкин 1940, 8, кн. 2: 618).
363 Н. В. Яковлев полагал, что «в 1826 году к Петрарке и в частности к его сонетам внимание Пушкина могли привлечь сонеты Мицкевича. Мы находим в них: эпиграфы из Петрарки: 1) общий ко всей книге, 2) к VII сонету; заглавие первого сонета — „К Лауре“, имя Лауры в сонетах VI, VIII, X, при чем последний с указанием на то, что он взят из Петрарки» (Яковлев 1926, 131). Действительно, эпиграф к сборнику «Сонетов» Мицкевича («Quand’ era in parte altr’ uom da quel, ch’
- 228 -
io sono») заимствован из сонета Петрарки «Voi ch’ ascoltate in rime sparse il suono...», открывающего все издания «Il Canzoniere» (McKenzie 1912, x). Первая часть книги содержит стихотворения, которые, по определению Вяземского, «принадлежатъ къ роду эротическихъ сонетовъ Петрарки» (1827, 194). В эпиграф к VII сонету Мицкевича («S Petrarki», «Chcecie wiedzieć, co cierpię, rówiennicy moi...») вынесены начальные слова из сонета «Sen<n>uccio, i<’> v<o>’ che sappi...». X сонет («Błogosławieństwo. S Petrarki») является переложением сонета «Benedetto sia ’l giorno, et ’l mese, et l’anno...», однако непосредственный источник перевода в книге не назван (см. Mickiewicz 1826, титульный лист, 9, 12). Прочие отсылки к «Il Canzoniere» в сонетах Мицкевича еще менее прозрачны (ср. Contieri 1956; Markiewicz 1978, 320—321). Все эти сочинения Петрарки, кажется, не нашли прямых отражений в творчестве Пушкина. Удивляться этому не приходится: «петраркизм» любовной лирики Мицкевича оставил русских читателей равнодушными. Интерес у Пушкина, как и у Вяземского, вызвала ориентальная экзотика «Крымских сонетов», составивших вторую часть сборника 1826 г. Оттого-то «Пушкин <...> в ближайшие годы дважды помянув Мицкевича в своих стихах <в „Путешествии Онегина“ и в „Сонете“ 1830 г. — И. П.>, оба раза писал о нем именно как об авторе „Крымских сонетов“» (Измайлов 1952, 197, ср. 195—206; Ивинский 1999, 63 и далее, 97—98).
364 Соблазнительная возможность двоякого истолкования пушкинской цитаты была поддержана современным исследователем (см. Маркович 1989, 77). О Пушкине и Аретино ср. Розанов 1937б.
365 ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 996, л. 9 об. Зачеркнутое буквосочетание dy можно трактовать двояко: это либо сочетание латинского d с кириллическим у, отражающее произношение [du-] (в рукописях Пушкина такие гибридные написания встречаются), либо это «франко-немецкое» dy, в котором немецкое y использовано для передачи неносового гласного, произносимого на французский лад [dy-].
366 Историю первого издания «Повестей Белкина» см. в книге Н. П. Смирнова-Сокольского (1962, 276—279). В большом академическом издании цитата из Петрарки в окончательном тексте «Метели» представляет собой контаминацию: «Se amor non è, che dunque?..» (Пушкин 1940, 8, кн. 1: 84). Начало фразы редактор то́ма Б. В. Томашевский взял из «Повестей Белкина» 1831 г., а конец — из нижнего слоя автографа (Пильщиков 2000б, 18).
367 Несомненно, Пушкин знал произведения Батюшкова не только по «Опытам в Стихах и Прозе» 1817 г., но и по более ранним публикациям в периодике. Так, на полях II части «Опытов» Пушкин записал журнальный вариант 48-го стиха батюшковского подражания «XI Тибулловой Элегии из I книги» (<...> Мнѣ лагерь начертитъ веселыхъ чашъ виномъ): «Было прежде: чаш пролитых вином — точнее» (Пушкин 1949, 12: 262; Майков 1894, 541—542; ср. Батюшков 1810а, 278; и др.). На другой странице Пушкин привел ранний вариант стихотворения «Пленный» (см. Пушкин 1949, 12: 265). Заключительные строки «Пробуждения» в журнальной версии не содержали запятой, появившейся в «Опытах»: <...> И гордый
- 229 -
умъ не побѣдитъ // Любви, холодными словами (Батюшков 1817а, ч. II: 65; ср. 1816д, 183). Пушкин отреагировал на исправление: «Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет» (Пушкин 1949, 12: 263).
368 Примечательно, что подборка примеров из Петрарки у Сисмонди никак не сказалась на Батюшкове, который в 1815—1816 гг., когда были написаны и напечатаны его очерки об итальянских стихотворцах, находился под исключительным влиянием Женгене (Pilshchikov 1994b; Пильщиков 1997, 38—39, 41—42; 2000а, 13—15, 23, 25 примеч. 45).
369 Ср. в переводе Сисмонди: «Il est une partie du monde qui toujours est couverte de glaces et de neiges, loin de la route du soleil; là, sous un jour nuageux et court, naît un peuple ennemi de la paix, et pour qui la mort n’est point une peine» (Sismondi 1813, I, 419). Для передачи итальянского non dole ʽне больно; не жаль’ (ср. Непомнящий 1996, 141—144) Сисмонди выбрал не существительное из гнезда dolēre — douleur (< лат. dolor) ʽболь, страдание; скорбь’, а его синоним peine ʽболь, страдание; наказание’. Последнее значение поддерживается устойчивым словосочетанием la peine de mort ʽсмертная казнь (буквально: наказание смертью)’.
370 В отличие от Сисмонди, Батюшков вслед за Лагарпом и Женгене полагал, что «древняго вкуса и сего величія, которое Италіянцы <...> называютъ grandioso», «исполнена» другая канцона Петрарки — «Spirto gentil» (Батюшков 1816б, 185; см. наст. изд., с. 125).
371 В современных изданиях «Онегина» итальянская цитата частично выправлена по стандартному тексту «Canzoniere» (в 49-м стихе редакторы печатают sotto i giorni на месте sotto giorni). Об эдиционных перипетиях пушкинского эпиграфа см. Пильщиков 2000б, 17—18.
372 Иную гипотезу о происхождении эпиграфа из Петрарки выдвинул П. Н. Берков: «<...> можно считать, что в том, как Пушкин <...> отзывался о некоторых <...> итальянских поэт<ах>, кое-что связано с лицейскими лекциями Георгиевского. Так, например, характеризуя Петрарку, Георгиевский особенно обращает внимание на его канцоны <...> Может быть, именно этим отзывом Георгиевского о канцонах Петрарки заинтересовался Пушкин и впоследствии, читая произведения Петрарки в подлиннике, запомнил известные стихи „Là, sotto giorni nubilosi e brevi...“ из канцоны, посвященной Колонне, и потом, в 1826 г., поставил их, с небольшим сокращением, в качестве эпиграфа <к> главе шестой „Евгения Онегина“» (Берков 1970, 19—20). Концепция Беркова построена на одних допущениях, не подкрепленных вескими фактами. Ни в лицейских конспектах А. М. Горчакова, записавшего лекции П. Е. Георгиевского, ни в позднейшем издании этих лекций канцона «O aspettata in ciel...» не фигурирует (ср. Мейлах 1937, 156; Георгиевский 1836, 75—77). Внимание на нее обратил Сисмонди, а Георгиевский, вслед за Женгене, учил лицеистов, что «Петрарковы наиболее известны три Canzone <sic!> Sorelle» (Мейлах 1937, 156) — то есть канцоны «Perché la vita è breve...», «Gentil mia donna, i’ veggio...» и «Poi che per mio destino...» (ср. Ginguené 1811, II: 525—534).
- 230 -
373 Статья Налимова, «видного в то время петербургского педагога», «содержит несколько не лишенных значения соображений и не заслуживает забвения. Она не обратила на себя внимания современников и позднейших исследователей, в особенности после того как В. В. Сиповский в своей „Пушкинской литературе“ дал ей нелестную характеристику» (Берков 1970, 3; ср. Сиповский 1902, 226).
374 См.: ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 931, л. 1; № 932, л. 1.
375 Напомню, что «преждевременная старость души» — это цитата из письма Пушкина В. П. Горчакову (1822) о характере Кавказского Пленника (см. Пушкин 1937, 13: 52).
376 В схеме подчеркиванием помечен обсуждаемый фрагмент канцоны (стихи 49—51), а полужирным шрифтом — стро́ки, процитированные Пушкиным; малыми прописными буквами обозначены семисложники.
377 Пушкинский вариант (Надъ ихъ бровями надпись ада) так запал в память русским читателям, что уже́ в наше время Ю. Б. Корнеев и Э. Л. Линецкая перевели пассаж Шамфора с оглядкой на «Онегина»: «<...> у них на лбу, как на вратах дантова ада <...>» (Шамфор 1966, 217). Перевод был издан в академической серии «Литературные памятники»; именно его принято цитировать в научных исследованиях (см. Лотман 1980б, 221; Михайлова 1999, 331; и др.).
378 Наблюдение Лернера без необходимых оговорок повторили Д. И. Чижевский (Čiževsky 1953, 241) и Ю. М. Лотман (1980б, 221), которому иногда приписывают это открытие (Михайлова 1999, 331; и др.). То ли излишний лаконизм Чижевского («The joke originated with Chamfort»), то ли неточная ссылка Лернера (обсуждаемый фрагмент помещен в «Характерах и анекдотах», а не в «Максимах и мыслях», как указывал исследователь) ввели в заблуждение В. В. Набокова, также не пожелавшего сослаться на труды предшественников: «В Шамфоровых Maximes et pensées, — сообщает комментатор, — я нашел <...> следующее: „Je mettrais volontiers sur la porte du Paradis le vers que le Dante a mis sur celle de l’Enfer“ <= „Я охотно написал бы на вратах рая стих, который Данте начертал на вратах ада“>» [Nabokov 1964, 368—369; ср. Chamfort 1812, 19 («Maximes et pensées», chapître II)]. Очевидно, что второе mot не имеет никакого отношения к пушкинскому.
379 Глаголы entrer и entrare в значении ʽcoire’ (vs ʽfutuere’) могут употребляться без предложного дополнения и относиться к лицам обоего пола. Ср. также глаголы со значениями ʽвходить; совокупляться’ в семитских языках: араб. daḫala (دَخَلَ) и др.-евр. bā’ (בָּא; √בוא), которое является характерной лингвистической приметой Книги Бытия (Быт 6, 4; 16, 2—4; 29, 21—23, 30; 30, 3—4; и др.) и неоднократно встречается в других местах Библии (Суд 16, 1; Руф 4, 13; и др.). В Септуагинте для передачи этого слова применяются глаголы εἰσπορεύομαι (Быт 6, 4) или, чаще, εἰσέρχομαι (πρός τινα) ʽвходить (к кому-л.)’, которым в церковнославянском тексте соответствуют глаголы входи́ти (Быт 6, 4) и вни́ти (къ кому). Вульгата в этих случаях, как правило, использует глагол ingredior (ad quem) ʽвходить (к кому-л.)’. По всей видимости, романское словоупотребление (entrer dans qn, entrer avec qn, entrare
- 231 -
in qd, entrare con qd) развивалось без опоры на библейскую фразеологию. О «похабности» языка Библии Пушкин писал Вяземскому в первых числах декабря 1823 г. (Пушкин 1926, 60), то есть всего за пару месяцев до начала работы над 3-й главой «Онегина».
380 ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 933, л. 14. Ср. здесь же: «Lasciate ogni speranza (voi chí entrate.) Dan<te>» (л. 13 об.; с неточностью: Пушкин 1937, 6: 580—581). Стро́фы 3, XXII—XXIII в рукописи значатся под номерами XXV—XXVI.
381 Ср.: «Le Sonnet LXIX fut écrit lorsque le temps commençait déjà à flétrir la beauté de Laure, et que l’on s’étonnait de la constance de Pétrarque pour une femme qui n’excitait plus le ravissement de ceux qui la voyaient». Сисмонди указывает номер сонета по изданию Ф. Соаве (Petrarca 1805, 1: 78; ср. McKenzie 1912, xi). Этой же нумерацией «Canzoniere» пользовались Женгене и Батюшков (см. наст. изд., с. 65).
382 Вот как об этом говорит Батюшков: «Италіянскіе критики <...> на каждый стихъ Петрарки написали цѣлыя страницы толкованій <...> только въ тѣхъ земляхъ, гдѣ умѣютъ такимъ образомъ уважать отличныя дарованія, родятся великіе авторы». «Часто умные люди отказывали ему <Петраркѣ> въ уваженіи! Умъ нерѣдко бываетъ тупой судія произведеній сердца». «Я нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Петрарки въ Освобожденномъ Іерусалимѣ. Такого рода похищенія доказываютъ уваженіе и любовь Тасса къ Петраркѣ» (1816б, 172—173, 189, 190 примеч. * [к с. 189]). Ср. у Пушкина: «Отделенные друг от друга временем, обстоятельствами жизни, политическим положением отечества, они <Петрарка и Ломоносов> сходствуют твердостию, неутомимостью духа, стремлением к просвещению, наконец уважением, которое умели приобрести от своих соотечественников» (1949, 11: 48).
383 О двойственном отношении Пушкина к Петрарке см. также Picchio 1989, 241, 249.
384 Определения полуромантикъ (о Сисмонди) и классикъ («Буде кто заслуживаетъ имя Классика въ обидномъ значеніи слова, это Петрарка») принадлежат самому Катенину (1830, № 44: 63; № 41: 36; ср. Тынянов 1926б, 240—243; Пильщиков 2000а, 16; 2000б, 29 примеч. 33).
Глава седьмая
385 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24 об.; ср. Фридман 1964б, 311; 1971, 203; Горохова 1978, 140; Вацуро 1994, 226—227; и мн. др.
386 РНБ, ф. 197, оп. 1, ед. хр. 38, л. 24. В окончательном тексте стихотворения 156 строк.
387 Перевод: Роковой оракул Эпидавра, // Ты мне вещал: «Листья лесов // У тебя на глазах еще пожелтеют; // Но это в последний раз». Слово oracle ʽоракул, прорицатель; оракул, прорицание’ Мильвуа употребляет в первом смысле (Вацуро, Мильчина 1989, 641), тогда как Батюшков ошибочно понял во втором.
- 232 -
388 «Умирающий Тасс» здесь и далее цитируется по первой публикации (Батюшков 1817а, ч. II: 254—256).
389 Мильвуа умер в 1816 г.; в 1822 г. вышло в свет посмертное собрание его сочинений.
390 По поводу «Умирающего Тасса» Пушкин пишет на полях «Опытов»: «Я не видал элегии, давшей Б<атюшко>ву повод к своему стихотворению <...>» (Пушкин 1949, 12: 283; Семенко 1977, 490—491; Королева, Рак 1979, 715—716; Горохова 1979, 38—44); в публикации Майкова: «Я не видалъ Французской элегіи <...>» (Майков 1894, 552; ср. 1899, 313).
391 «Песня молодости» представляет собой три октосиллабических шестистишия AAbCCb.
392 Чередование 6- и 5-стопных ямбов в «Умирающем Тассе» идеально соответствует чередованию гексаметров и пентаметров в элегических дистихах. Из тогдашних поэтов этим «античным» размером «элегии писал один Кюхельбекер <...> однако тенденция к соединению более длинных строк с более короткими в русской элегии всё же чувствуется»: среди стихотворений этого жанра, относящихся к 1801—1840 гг., «неравностопными строчками написано 84 произведения <...> это почти на 10% больше среднестатистической нормы» (Шапир 1994а, 71; 2000, 306).
393 Имеется в виду 25-й стих элегии: Полуразрушенный, онъ видитъ грозный часъ <...> Эпитет полуразрушенный Батюшков применил не только к Тассо, но и к самому себе; в марте 1817 г. он писал Гнедичу: «Ты знаешь меня, бѣгалъ-ли я за похвалами? Но знаешь меня, люблю славу. И теперь, полуразрушенный, далъ бы всю жизнь мою съ тѣмъ, чтобы написать что нибудь путное! Впрочемъ, неужели мнѣ суждено быть неудачливымъ во всемъ?» (Ефремов 1883, кн. VII: 41; ср. Майков 1886, III: 424—425; Фридман 1971, 205).
394 Quel benedetto во всех изданиях, кроме последнего, переводится как «это благословенное». Конечно, benedetto может употребляться иронически (в значении ʽmaledetto’), но перевод «проклятье!» (Зорин 1989, 450 примеч. 1) вряд ли допусти́м.
395 Ср. еще 42-й стих из канцоны «Spirto gentil»: <...> Et dice: Roma mia sarà anchor bella = <...> И говорит: мой Рим будет еще прекрасным (Roma ʽРим’ — имя женского рода).
396 Это стихотворение публиковалось под тремя разными заглавиями: «Il ritorno» («Возвращение»), «Dopo la battaglia di Marengo» («После битвы при Маренго»), «Per la liberazione d’Italia» («На освобождение Италии»). Монти вернулся из французской эмиграции после того, как в 1800 г. Наполеон вытеснил русско-австрийские войска из Северного Пьемонта и Ломбардии. Вряд ли Батюшков подразумевает сонет «All’Italia» («К Италии»), хотя в нём Монти называет Италию donna.
397 Замечу, кстати, что это — первое или второе из трех упоминаний Монти у Батюшкова. В тетради «Чужое: мое сокровище!», датированной «1817. Деревня — лѣто» (РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 2), среди выписок из Сисмонди есть запись:
- 233 -
«Монти. Феррарецъ. Италїя признаетъ его первымъ поэтомъ» (Там же, л. 15 об.). В неаполитанском письме от 3 октября 1819 г. (нового стиля) Батюшков рассказывает А. И. Тургеневу: «Монти, Протей въ Политикѣ и Гигантъ въ Поэзіи, старѣется» (ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 124, л. 229 об.).
398 Ср. также: <...> прадед мой Арап <...> думал в охлажденны леты // О дальней Африке своей <...> [«К Языкову» («Издревле сладостный союз...»), 1824 (Пушкин 1948, 3, кн. 1: 323)].
399 Ср. тассианско-батюшковскую тему «молодого изгнанника» в лирике Баратынского (Пильщиков 2002в, 79).
400 Автограф письма не сохранился. Ефремов прочел это место: «<...> къ Луцинію». Майков воспроизвел ефремовское чтение в основном корпусе писем, но исправил его в списке опечаток: «<...> къ Луцилію» (Майков 1886, III: 455, 804).
401 Лагарп разбирает его в «Лицее» (ч. I, кн. I, гл. VII, раздел II), где предлагает собственный стихотворный перевод Горация и сравнивает его произведение с «Ode à la Fortune» Ж.-Б. Руссо (см. La Harpe 1799, II: 109—114).
402 Менее убедительными кажутся предположения, что Батюшков имел в виду Epist. mor. 13 [Майков 1887а, I: 441 (2-й пагинации)] или Epist. mor. 18 (Зорин 1989, 644).
403 А. Л. Зорин всё же предлагает обратиться к «Чистилищу»: «песня XVI, ст<ихи> 64—82» (Зорин 1989, 644); однако в этих стихах говорится не о Фортуне, а о предоставленной человеку свободе выбора между добро́м и злом (<...> lume v’è dato a bene ed a malizia // E libero voler <...>). В связи с Фортуной ср. еще Inf. XV, 95—96 (<...> giri Fortuna la sua rota // Come le piace = <...> вертит Фортуна свое колесо, // Как ей нравится <...>).
404 Точный французский перевод этих строк, который мог служить Батюшкову подспорьем, см. у Женгене (Ginguené 1812, V: 219).
405 Ср.: Signor, nel precipizio ove mi spinse // Fortuna, ognor più caggio in ver gli abissi, // Né quinci ancora alcun mio prego udissi, // Né volto di pietà per me si pinse = Государь, в пропасти, куда меня столкнула // Фортуна, я всё больше опускаюсь в пучины; // Отсюда ни одна мольба моя еще не была услышана, // И ничей лик сострадания не изобразился для меня.
406 Ср. в сонете «Aspirava, Signor, novo Fentone...» («Уповал, Государь, новый Фаэтон...»): Quando ecco vidi fulminar la fronte // Di Giove irato e ’l ciel turbarsi intorno, // E fulminato caddi <...> = Когда я вдруг увидел, как сверкает молнией чело // Разгневанного Юпитера и как небо вокруг подвиглось, // И я пал, пораженный молнией <...> Ср. также третий сонет Венка к Маргерите Гонзага д’Эсте («Faccia la sua prigione in questo loco...»), сонет «Me novello Issïon rapida aggira...» и др.
407 А. Л. Зорин указывает, что обсуждаемый фрагмент из «Умирающего Тасса» якобы представляет собой «неточн<ый> перевод из „Освобожденного Иерусалима“ <...> (песнь 4, строфа 3)» (Зорин 1989, 644). Согласиться с таким допущением
- 234 -
нельзя: во-первых, «Иерусалим» — это эпопея, а Батюшков, как мы помним, ссылался на «слова самаго Тасса въ одной его канцонѣ»; во-вторых, в октаве «Chiama gli abitator...» Тассо говорит не «о себѣ», а об обитателях ада; наконец, в этой октаве нет и намека на выражения, использованные Батюшковым.
408 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 24 об.
409 Об изданиях и адаптациях книги Мансо «Vita di Torquato Tasso» см. Maillat 1988, 457 n. 2. Далее «Vita di Tasso» цитируется по изданию Manso 1724.
410 Ср., помимо прочего, у Вольтера: «Il <le Tasse> commença la Jérusalem à l’âge de vingt-deux ans»; «Quelques chants de son poëme avaient déjà paru sous le nom de Godefroi; il le donna tout entier au public à l’âge de trente ans, sous le titre <...> de la Jérusalem délivrée» = «Онъ <Тассъ> началъ Іерусалимъ двадцати двухъ лѣтъ»; «Нѣкоторыя пѣсни его поемы показались подъ имянемъ Годфреда; всю же ее издалъ тридцати лѣтъ, назвавши освобожденный Іерусалимъ» (Остолопов 1802, 81—82); у Батюшкова: «До тридцатилѣтняго возраста кончилъ онъ безсмертную поэму Іерусалима <...>» (Батюшков 1808б, 63 примеч. 4).
411 «Заметка» Сюара была напечатана в качестве предисловия к переработанному изданию «Jérusalem délivrée» в переложении Лебрена (Suard 1803). Переводом Сюара является очерк Мерзлякова «Изображение жизни и характера Тасса», предпосланный его стихотворному переложению «Освобожденного Иерусалима» (Мерзляков 1828, ч. I: I—XLIV)]. Мерзляков несколько сократил французский текст: он опустил две вступительных и три заключительных страницы, исключил фрагменты, посвященные Триссино, Боярдо, Ариосто и Ронсару, а также снял некоторые цитаты и примечания. Исследователи ошибочно считали очерк Мерзлякова оригинальным произведением, «не лишенным черт автобиографизма» (Лотман 1958, 52; 1992, 263) и основанным на исследовании Серасси (Горохова 1978, 123).
412 Ср. у Сюара — Мерзлякова: «Le fils de Bernardo, âgé seulement de neuf ans, fut compris nominativement dans la proscription de son père, et fut obligé de sortir du royaume de Naples» (Suard 1803, viij) = «Сынъ Бернарда, девяти лѣтъ, осужденный къ одинакому жребію съ отцемъ своимъ, долженъ былъ удалиться изъ Неаполитанскаго Королевства» (Мерзляков 1828, ч. I: IV). Эта ошибка тем более удивительна, что Сюар был осведомлен о недостоверности сведений Мансо: «Jean-Baptiste Manso <...> a écrit une Vie du Tasse <...> L’Abbé Serassi y a relevé beaucoup d’erreurs graves» (Suard 1803, lviij n. 1) = «Жанъ-Баптистъ Манзо <...> описалъ жизнь Тасса <...> Аббатъ Серасси нашèлъ въ ней много важныхъ ошибокъ» (Мерзляков 1828, ч. I: XL примеч. 1).
413 Женгене в эссе 1789 г. предполагает, что Тассо начал писать стихи «в восемь или девять лет (à huit ou neuf ans)» (Ginguené 1789, № 18: 19), а в «Литературной истории Италии» повторяется сообщение Мансо о том, что Тассо сочинял «с семилетнего возраста (dès l’âge de sept ans)» (Ginguené 1812, V: 155).
414 Здесь же Майков замечает: «<...> но читалъ ли <Батюшковъ> <...> извѣстную трагедію Гёте, это мы не можемъ утверждать положительно» [Майков 1887а,
- 235 -
I: 231 (1-й пагинации); 1896, 176]. Д. Д. Благой (1934, 522) и затем Н. В. Фридман немотивированно высказали другое мнение — что трагедия Гёте «Торквато Тассо», «вероятно, была известна Батюшкову» (Фридман 1971, 210). Вопрос этот решается однозначно. Еще в 1886 г. Майков опубликовал письмо Батюшкова Вяземскому (январь 1817 г.), которое совпадает по времени написания с началом работы над «Умирающим Тассом» и в котором цитируются стихи из Гётева «Torquato Tasso» (см. примеч. 218 на с. 210):
«—Tröstlich
Ist es für uns, den Mann gerühmt zu wissen,
Der als ein grosses Muster vor uns steht.Я только что прочиталъ ето, когда получилъ твое письмо» (РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 26; ср. Майков 1886, III: 416).
415 Это выразительное выделение опущено во всех републикациях «Примечания».
416 Ср. у Сисмонди: «Герцог <...> заключил его <Тасса> в Св. Анну, больницу для сумасшедших в Ферраре (le fit enfremer à Sainte-Anne, hôpital des fous de Ferrare) <...> это наказание было следствием политики герцога <...> В действительности он хотел выставить Тасса сумасшедшим, чтобы оправдать свою суровость» (Sismondi 1813, II: 166).
417 Ср.: «Pour ajouter encore à son malheur, son poëme fut imprimé, sans sa permission, sur une copie imparfaite; les éditions se multiplièrent, toujours sans son consentement, à l’époque même où il était resserré comme fou» = «В дополнение к его несчастью, его поэма была напечатана без разрешения, по несовершенной копии; издания множились, всегда без его согласия, в то самое время, когда он был заточен, словно сумасшедший» (Sismondi 1813, II: 167).
418 Ср.: «In un somigliante accesso di male convien che s’ imbattesse a trovare il Tasso anche il celebre Michele di Montagna, allor che fu a vederlo nel mese di Novembre del 1580., giacchè parlando del nostro Poeta nel cap. 12. del libro II. de’ suoi famosi Saggi dice: I’eu<s> plus de despit encore que de compassion <...> et soy & ses ouvrages ec., dalle quali parole si vede, che vi andò prevenuto dalla falsa opinione della sua pazzía. Peraltro è molto savio e ragionevole il giudizio, ch’ ei fa in questo stesso luogo del merito del nostro Tasso» = «При этом неблагоприятном стечении обстоятельств случилось, что с Тассо встретился также знаменитый Мишель де Монтень, который видел его в Ноябре месяце 1580 г. и который говорит о нашем Поэте в гл. 12-й II книги своих знаменитых Опытов: Я чувствовал больше досады, чем сострадания <и далее до слов:> и себя, и свои произведения и т. д., из каковых слов видно, что он укрепился в ложном мнении о безумии поэта. Однако очень благоразумно и основательно то суждение, которое он сделал в этом самом месте о достоинствах нашего Тассо» (Serassi 1790, II: 74—75 n. 4).
419 «Воображеніе<,> — продолжает Батюшков, — главная пружина его таланта и злополучій, нигдѣ ему не измѣняло. И въ узахъ онъ сочинялъ безпрестанно»
- 236 -
(1817а, ч. II: [VI]). Здесь автор «Умирающего Тасса» опирается не на Женгене, а на Попова: «Но всего было удивительнѣе, что при толь плачевномъ состоянїи духъ Стихотворный (son genie Poëtique) не оставлялъ его никогда. Во все теченїе своея жизни Тассъ не преставалъ дѣлать стихи»; «<...> несчастїя Тассовы не возмогли утушить Стихотворческаго ево духа <...> въ самой жестокости своихъ напастей не престалъ онъ дѣлать стиховъ» (Попов 1772, ч. I: XVII, XX; Mirabaud 1724, I: lxxiij, lxxvij). О «воображении» как характерной черте, определяющей, согласно Батюшкову, артистическую индивидуальность Тассо, см. наст. изд., с. 103—104 и примеч. 259 на с. 215—216. Любопытно, что эта характеристика была перенесена биографами на самого́ Батюшкова: «Воображеніе преобладало въ немъ надъ всѣми другими способностями (что́, замѣтимъ мимоходомъ, по мнѣнію врача, лѣчившаго впослѣдствіи его душевный недугъ, было первымъ источникомъ этой страшной болѣзни и съ самаго рожденія Константина Николаевича составляло зародышъ ея)» (Грот 1887, 5; ср. Розанов 1914, 273).
420 Это место Женгене перевел из Серасси: «<...> gli ordini del duca <...> a cavarlo di prigione, e a metterlo finalmente in libertà. Torquato <...> era già libero, e ciò dopo sette anni, due mesi, e qualche giorno d’ infelice e miserabile prigionía» = «<...> приказы герцога <...> освободить его из тюрьмы, и отпустить его, в конце концов, на свободу. Торквато <...> стал свободен, и это произошло после семи лет, двух месяцев и нескольких дней злосчастного и злополучного заточения» (Serassi 1790, II: 144—145).
421 Ср.: «On a écrit et répété qu’on n’avoit gravé sur le tombeau du Tasse que ces mots: Ossa Torquati Tassi. On s’est trompé. L’épitaphe qu’on lit sur le monument de St.-Onufre est très-longue et d’un style élégant. C’est sur la tombe du père du Tasse qu’on a mis pour inscription, Ossa Bernardi Tassi» = «Пишут и повторяют, что на могиле Тассо высечены только следующие слова: Ossa Torquati Tassi (Кости Торквата Тасса). Это заблуждение. Эпитафия, которая читается на памятнике в монастыре Св. Онуфрия, довольно длинная и <написана> изящным слогом. Это на могиле отца Тассо сделана надпись Ossa Bernardi Tassi (Кости Бернарда Тасса)» (Suard 1803, lxvj n. 1).
422 РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 25. Майков, не имея на то никаких оснований, предполагал, что «экземпляръ» книги Сисмонди «Батюшковъ пріобрѣлъ, вѣроятно, за границей», то есть в 1813—1814 гг. (Майков 1885, II: 531; о книгах, действительно купленных Батюшковым во время заграничного похода, см. Янушкевич 1990, 5—13).
423 М. Ф. Варезе по недоразумению рассматривает эти эксцерпты как оригинальный текст, содержащий, помимо прочего, цитаты из Сисмонди (Varese 1970, 102—103).
424 Батюшков цитирует Альфьери по памяти в статье «Петрарка» (см.: Батюшков 1816б, с. 181 примеч. *) и в тетради «Чужое: мое сокровище!» (см.: РНБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 10, л. 34).
- 237 -
425 См.: Там же, л. 11 об.—15 об. Идущие вслед за этой фразой тексты итальянских стихотворений (л. 16—18 об.) скопированы из Сисмонди. Год спустя Батюшков включил «De la littérature du midi» в число книг, приготовленных для итальянского вояжа: «Reichard у меня есть. Жингене и Сисмонди есть. Нѣтъ ли Исторїи Неаполя? Краткой но вѣрной» [Н. М. и Е. Ф. Муравьевым, 9 августа 1818 г. (ГАРФ, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 324, л. 70; дата выставлена в автографе (Там же, л. 70 об.); во всех публикациях письмо датировано 3 августа (Бартенев 1867, № 11: стб. 1530; Майков 1886, III: 527, 762; Зорин 1989, 513].
Вместо заключения
426 Так назвал ее сам автор в письме Гнедичу от конца апреля 1811 г. (Ефремов 1883, кн. IV: 109; Майков 1886, III: 120).
427 Имеется в виду стихотворение Байрона «The Lament of Tasso» (1817).
428 В письме П. А. Вяземскому от 25 мая и около середины июня 1825 г. Пушкин утверждает, что романтизм «возникъ» «въ Италіи», в связи с чем также указывает на Ариосто и «предшественник<овъ> его начиная отъ Buovo d’Antona до Orlando inamorato» (Пушкин 1926, 132), а в «Письме к издателю „Московского вестника“» (1828) Пушкин протестует против включения Ариосто «в классическую фалангу» (1949, 11: 67). При этом сохраняется восходящее к Батюшкову противопоставление Ариосто и Тассо, с одной стороны, и Данте и Петрарки, с другой (см. Берков 1970, 39—40; Пильщиков 2000а, 8—9, 18—20; 2000б, 8 и далее).
429 Библиографию вопроса см. в примеч. 262 на с. 216.
430 Об отношении Пушкина к Данте см. Розанов 1928; Благой 1967; 1973; Лотман 1980а; Гаспаров 1983; Асоян 1989, 38—62; Вацуро 1995; и др.
431 Действительно, эта строфа Ариосто [вместе со следующей строфой (Orl. fur. I, xlii—xliii)] представляет собой перевод последней реплики девушек из эпиталамия Катулла (Cat. LXII, 39—47).
432 МК РГБ, шифр XIX/8°Б (1-й экз.; инв. МК IV-11871). Перевод итальянской цитаты: То, что я вам должен, могу словами // Частично оплатить, и трудом чернильным; // Да не буду обвинен я, что даю вам мало; // Ведь сколько я могу дать, всё вам даю.
- 238 -
БИБЛИОГРАФИЯ
Аверинцев, С. С.: 1972, ‘Филология’, Краткая литературная энциклопедия, Москва, т. 7: «Советская Украина» — Флиаки, стб. 973—979.
Автухович, Т. Е.: 2001, ‘Рим в русской поэзии первой половины XIX века: эмблема — аллегория — символ — образ’, Образ Рима в русской литературе: Международный сборник научных работ, Рим — Самара, 53—75.
Акимова, М. В.: 2000а, ‘«...Переводить Данте in rima terza ... ужасно»: История текста катенинских переводов «<I>nferno»’, Дантовские чтения. 1998, Москва, 33—70.
Акимова, М. В.: 2000б, Стихотворное наследие Катенина: Вопросы текстологии и научного комментирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва (Московский государственный университет; Филологический факультет).
Алексеев, М.: 1928, ‘[Рецензия на книгу: Пушкин, Письма, Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, Москва — Ленинград 1926, т. I: (1815—1825)]’, Известия по русскому языку и словесности, Ленинград, т. I, кн. 1, 309—325.
Алексеев, М. П.: 1967, Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения, Ленинград.
Алексеев, М. П.: 1970, ‘Первое знакомство с Данте в России’, От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 6—62.
Алексеев, М. П.: 1972, Пушкин: Сравнительно-исторические исследования, Ленинград.
Алексеев, М. П.: 1977, ‘Заметки на полях’, Временник Пушкинской комиссии. 1974, Ленинград, 98—113.
Алексеев, М. П.: 1982, Русско-английские литературные связи: (XVIII век — первая половина XIX века), Москва (= Литературное наследство; Т. 91).
- 239 -
Альтшуллер, М. Г.: 1974, Н. И. Гнедич, ‘Письма к К. Н. Батюшкову’, Публикация М. Г. Альтшуллера, Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год, Ленинград, 78—92.
Альтшуллер, М. Г.: 1977, ‘Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века’, А. Н. Радищев и литература его времени, Ленинград, 113—136 (= XVIII век; Сб. 12).
Андреев, М. Л.: 1994, ‘Итальянское возрождение: от стиля к жанру’, Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания, Москва, 297—325.
Андреев, М. Л.: 1998, ‘Культура Возрождения’, История мировой культуры: Наследие Запада: Античность; Средневековье; Возрождение: Курс лекций, Москва, 319—411.
Андреев, М. Л., Р. И. Хлодовский: 1988, Итальянская культура зрелого и позднего Возрождения, Москва.
Арапов, П.: 1861, Летопись русского театра, С.-Петербург.
Аристов, В. В.: 1992, Первое литературное общество Поволжья: (К истории Казанского общества любителей отечественной словесности в 1806—1818 гг.), Казань.
Арзамас — Арзамас: Сборник в 2 книгах, Под общей редакцией В. Э. Вацуро и А. Л. Осповата, Москва 1994, кн. I—II.
Асоян, А. А.: 1989, Данте и русская литература, Свердловск.
Ахингер, Г.: 1999, ‘Лирика Сент-Бёва как фактор порождения лирического текста у Пушкина’, Университетский пушкинский сборник, Москва, 395—415.
Баратынский, Е.: 1844, ‘Дядьке Итальянцу’, Современник, т. XXXV, 217—221.
Бартенев, П. И.: 1867, ‘Константин Николаевич Батюшков: Его письма и очерки его жизни’, Русский Архив, № 10, стб. 1342—1360; № 11, стб. 1440—1536. Без подписи.
Бартенев, П. И.: 1870, ‘Из бумаг В. А. Жуковского’, [Публикация и примечания П. И. Бартенева], Русский Архив, № 8/9, стб. 1682—1728.
Бартенев, П.: 1875, ‘Из бумаг В. А. Жуковского’, [Предисловие Н. Елагина, Публикация, примечания и послесловие П. Бартенева], Русский Архив, № 11, 317—375.
Баткин, Л. М.: 1979, ‘Зрелище мира у Джаноццо Манетти: К анализу ренессансного понятия «varietas»’, Театральное пространство: Материалы научной конференции (1978), Москва, 114—143.
Батюшков, К.: 1805а, ‘Послание к стихам моим’, Новости Руской Литтературы, ч. XIII, № 4, 61—64.
Батюшков, К.: 1805б, ‘Стихи к М.: Amica! tu sei la rosa della primave<r>a: (с Италиянского)’, Северный Вестник, ч. VIII, Месяц Ноябрь, 167—168. Без подписи.
Батюшков, К.: 1808а, ‘Пастух и Соловей: Басня. Владиславу Александровичу Озерову’, Драматический Вестник, ч. III, № 72, 145—146. Подпись: К. Б—въ.
Батюшков, К.: 1808б, ‘К Тассу; Пустынник Петр говорил в верховном совете...: [Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима»]’, Драматический Вестник, ч. VI, 62—72. Подпись: N. N. N.
- 240 -
Батюшков, К.: 1809а, ‘Послание к Н. И. Гн<едич>у’, Цветник, ч. II, № 5, 184—192. Подпись: К. Б.
Батюшков, К.: 1809б, ‘Отрывок из X<VIII> песни Освобожденного Иерусалима’, Цветник, ч. II, № 6, 342—356. Подпись: К. Б.
Батюшков, К.: 1809в, ‘Стихи Г. Семеновой’, Цветник, ч. III, № 9, 409—412. Подпись: К. Б.
Батюшков, К.: 1809г, ‘Тибуллова Елегия. IIIя из IIIй книги’, Вестник Европы, ч. XLVIII, № XXIII, 198—199. Подпись: К.
Батюшков, К.: 1810а, ‘XI Тибуллова Элегия из I книги. (Вольный перевод)’, Вестник Европы, ч. L, № 8, 277—280.
Батюшков, К.: 1810б, ‘Счастливец. (Подражание Касти: Odi le rapide ruote sonanti)’, Вестник Европы, ч. LIII, № 17, 52—53. Подпись: К— Б—.
Батюшков, К.: 1810в, ‘На смерть Лауры. (Из Петрарка)’, Вестник Европы, ч. LIII, № 17, 54. Подпись: К. Б.
Батюшков, К.: 1810г, ‘Вечер. (Подражание Петрарке. Canzone IX)’, Вестник Европы, 1810, ч. LIV, № 21, 37—39. Подпись: К. Б.
Батюшков, К.: 1810д, ‘К Мальвине’, Собрание Руских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев Российских и из многих Руских журналов, Изданное В. Жуковским, Москва, ч. II, 196. Без подписи.
Батюшков, К.: 1811а, ‘Сон ратников. <(>Вольный перевод из поемы Аснель <sic!> и Аслега)’, Вестник Европы, 1811, ч. LV, № 3, 178—180. Подпись: Констант. Б.—
Батюшков, [К.]: 1811б, ‘Щастливец’, Собрание Руских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев Российских и из многих Руских журналов, Изданное В. Жуковским, Москва, ч. V, 159—161.
Батюшков, [К.]: 1814а, ‘На смерть Лауры’, Муза новейших Российских стихотворцев, Москва, 53—54.
Батюшков, [К.]: 1814б, ‘Вечер’, Муза новейших Российских стихотворцев, Москва, 58—59.
Батюшков, [К.]: 1814в, ‘Элегия: На развалинах замка в Швеции’, Пантеон Русской Поэзии, Издаваемый П. Никольским, С.-Петербург, ч. II, кн. 4, 217—223.
Батюшков, [К.]: 1815а, ‘Вечер. (Подражание Петрарке)’, Собрание Руских стихотворений, взятых из лучших Российских стихотворцев, Дополнение к изданию Г. Жуковского, Москва, ч. VI, 294—295.
Батюшков, [К.]: 1815б, ‘Щастливец. Подражание Касти’, Собрание образцовых Руских сочинений и переводов в стихах, Изданное Обществом любителей отечественной словесности, С.-Петербург, ч. I, 127—129.
Батюшков, [К.]: 1815в, ‘Тибуллова Элегия. (Книга 1. Элегия 3.)’, Пантеон Русской Поэзии, Издаваемый П. Никольским, С.-Петербург, ч. IV, кн. 8, 204—211.
Батюшков, [К.]: 1815г, ‘Щастливец. Подражание Касти’, Пантеон Русской Поэзии, Издаваемый П. Никольским, С.-Петербург, ч. VI, кн. 12, 191—194.
Батюшков, К.: 1816а, ‘Италиянские стихотворцы: Ариост и Тасс’, Вестник Европы, ч. LXXXVI, № 6, 107—121. Подпись: N. N. N.
- 241 -
Батюшков, К.: 1816б, ‘Петрарка’, Вестник Европы, ч. LXXXVI, № 7, 171—192. Подпись: N. N.
Батюшков, [К.]: 1816в, ‘Тибуллова Элегия. (III из I книги)’, Собрание образцовых Руских сочинений и переводов в стихах, Изданное Обществом любителей отечественной словесности, С.-Петербург, ч. V, 52—57.
Батюшков, К.: 1816г, ‘Речь: О влиянии легкой Поэзии на образованность языка’, Труды Общества любителей Российской словесности при Императорском Московском университете, ч. 6, 45—62 (1-й пагинации).
Батюшков, [К.]: 1816д, ‘Последняя весна’, Вестник Европы, ч. LXXXVII, № 11, 181—183.
Батюшков, К.: 1816е, ‘Пробуждение’, Вестник Европы, ч. LXXXVII, № 11, 183. Подпись: Б.
Батюшков, К.: 1817а, Опыты в Стихах и Прозе, С.-Петербург, ч. I—II.
Батюшков, К.: 1817б, ‘Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей’, С Итальянск<ого> Б<атюшков>, Вестник Европы, ч. XCIV, № 15/16, 165—172.
Батюшков, К.: 1817в, ‘Слава и блаженство Италии, из г-жи Сталь’, Вестник Европы, ч. XCIV, № 15/16, 197—204. Подпись: N.
Батюшков, К.: 1817г, ‘Олинд и Софрония: (Отрывок из II песни Освобожденного Иерусалима)’, Вестник Европы, ч. XCV, № 17/18, 3—17. Подпись: Б.
Батюшков, К.: 1817д, ‘Исступление Орланда. Конец песни XXIII, и начало XXIV: [Из Ариоста]’, Вестник Европы, ч. XCV, № 17/18, 17—29. Подпись: Б.
Батюшков, К.: 1819, ‘Моровая зараза во Флоренции: (Из Боккачьо)’, Труды Высочайше утвержденного Вольного Общества Любителей Российской Словесности, ч. V, кн. I, 39—50 (= Соревнователь Просвещения и Благотворения).
Батюшков, К.: 1822, ‘Отрывок из X<VIII> песни Освобожденного Иерусалима’, Собрание образцовых Руских сочинений и переводов в стихах, Издание 2-е, исправленное, умноженное, С.-Петербург, ч. VI, 269—275.
Батюшков, К.: 1826, ‘Подражание Ариосту. (La virginella è simile alla rosa)’, Северные Цветы на 1826 год, собранные Бароном Дельвигом, С.-Петербург, 63 (2-й пагинации).
Батюшков, К. Н.: 1827а, ‘Письма К. Н. Батюшкова’, Памятник Отечественных Муз, Изданный на 1827 год Б. Федоровым, С.-Петербург, 24—46 (1-й пагинации).
Батюшков, К. Н.: 1827б, ‘Отрывки из писем К. Н. Батюшкова к А. И. Т<ургеневу>’, Памятник Отечественных Муз, Изданный на 1827 год Б. Федоровым, С.-Петербург, 106—116 (1-й пагинации).
Батюшков, К.: 1827в, ‘Письмо к С<еверину> из Готенбурга. Июня 19, 1814 года’, Северные Цветы на 1827 год, Изданы Бароном Дельвигом, С.-Петербург, 30—48 (1-й пагинации).
Батюшков, К.: 1834, Сочинения в прозе и стихах, С.-Петербург, Издание 2-е, ч. II: [Стихи].
Белецкий, И.: 1975, Антонио Вивальди, 1678—1741: Краткий очерк жизни и творчества: Популярная монография, Ленинград.
- 242 -
Белинский, В.: 1835, ‘[Рецензия на книги: К. Батюшков, Сочинения в прозе и стихах, С.-Петербург 1834, ч. I—II; [В. Ушаков], Досуги Инвалида, Москва 1835, ч. II: Поручик Любимец; Н. Щ[укин], Ангарские пороги: Сибирская быль, С.-Петербург 1835]’, Молва, ч. IX, № 13, стб. 204—213. Подпись: — он — инскій.
Белинский, В.: 1841а, ‘Разделение Поэзии на Роды и Виды’, Отечественные записки, т. XV, № 3, отд. II, 13—64.
Белинский, В.: 1841б, ‘[Рецензия на книгу: [И.-В.] Гёте, Римские Элегии, Перевод [А.] Струговщикова, С.-Петербург 1840]’, Отечественные записки, т. XVII, № 8, отд. V, 23—48. Без подписи.
Белинский, В.: 1841б, ‘[Рецензия на книги: Древние Российские Стихотворения, собранные Киршею Даниловым, и вторично изданные, Москва 1818; Древние русские стихотворения..., Собранные М. Сухановым, С.-Петербург 1840; Сказания русского народа, Собранные И. Сахаровым, С.-Петербург 1841, т. I, кн. 1—4; Русские народные сказки, Издание И. Сахарова, С.-Петербург 1841, ч. I]: Статья I: Общая идея народной поэзии’, Отечественные записки, т. XVIII, № 9, отд. V, 1—18. Без подписи.
Белинский, В.: 1842, ‘Русская литература в 1841 году’, Отечественные записки, т. XX, № 1, отд. V, 1—52. Без подписи.
Белинский, В.: 1843, ‘Сочинения Александра Пушкина. Санктпетербург. Одиннадцать томов. mdcccxxxViii—mdcccxli: Статья третья’, Отечественные записки, т. XXX, № 10, отд. V, 61—88. Без подписи.
Белый, А.: 1913, ‘Петербург: Роман. [Гл. I—II]’, Сирин, С.-Петербург, сб. 1, 1—148.
Бен де Сен-Виктор, Ж.-М.-Б.: 1807, ‘Жалкая судьба Стихотворцев: [Из Grands Poètes malheureux]’, Минерва, ч. VI, 81—119. Без подписи.
Берков, П. Н.: 1970, ‘Пушкин и итальянская культура’, Istituto universitario orientale. Annali. Sezione slava, Napoli, [vol.] XIII, 1—46.
Бессонов, Н. А.: 1885, ‘Заметки Батюшкова на принадлежавшем ему экземпляре Gerusalemme liberata’, К. Н. Батюшков, Сочинения, С.-Петербург, т. II: [Проза], 460—465.
Бестужев, А.: 1823, ‘Взгляд на старую и новую Словесность в России’, Полярная Звезда: Карманная книжка для любительниц и любителей Руской Словесности на 1823 год, С.-Петербург, 1—44.
Благой, Д. Д.: 1934, К. Н. Батюшков, Сочинения, Редакция, статья и комментарии Д. Д. Благого, Москва — Ленинград.
Благой, Д. Д.: 1950, Творческий путь Пушкина: (1813—1826), Москва — Ленинград.
Благой, Д. Д.: 1967, ‘Данте в сознании и в творчестве Пушкина’, Историко-филологические исследования: Сборник статей к семидесятилетию академика Н. И. Конрада, Москва, 237—246.
Благой, Д. Д.: 1973, ‘Il gran’ padre: (Пушкин и Данте)’, Дантовские чтения. 1973, Москва, 9—64.
- 243 -
Бонди, С.: 1934, ‘Историко-литературные опыты Пушкина’, Литературное наследство, Москва, № 16/18, 421—442.
Бродский, Н. Л.: 1932, Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», Москва (= Комментарии к памятникам художественной литературы; Вып. I).
Бронфин, Е. Ф.: 1973, Джоакино Россини: Жизнь и творчество в материалах и документах, Москва.
Брюсов, В.: 1908, ‘Знал ли Пушкин по итальянски?’, Русский Архив, № 12, 583—591.
Букалов, А. М.: 1988, ‘«Язык Петрарки и любви»: (Из наблюдений над итальянскими записями А. С. Пушкина)’, Болдинские чтения, Горький, 107—118.
Булаховский, Л. А.: 1954, Русский литературный язык первой половины XIX века: Фонетика; Морфология; Ударение; Синтаксис, Москва.
Бунаков, Н.: 1855, ‘К. Н. Батюшков: (Критико-биографический очерк)’, Москвитянин, т. VI, № 23/24, 89—112.
Бутырский, Н.(?): 1806, ‘Ода. На междоусобную войну в Италии: Из творений Петрарха’, Лицей, ч. III, кн. I, 3—7. Без подписи.
Бутырский, [Н.] и др.: 1819, ‘Разбор эпической Поэмы Торквата Тасса: Освобожденный Иерусалим’, Сын Отечества, ч. 56, № XXXIV, 18—33.
Бухарский, А.: 1792, ‘Подражание Катулловой Елегии: Lugete o Veneres. С Французского перевода’, Зритель, ч. II, Месяц Август, 303—304. Подпись: А... Б...
Бычков, И.: 1887, ‘Бумаги В. А. Жуковского’, Разобраны и описаны И. Бычковым, Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1884 год, С.-Петербург, 1—199 (2-й пагинации).
Бычков, И. А.: 1903, Дневники В. А. Жуковского, С примечаниями И. А. Бычкова, С.-Петербург.
Васильев, В.: 1998, Всемирная эпиграмма: Антология: В 4 т., Составитель В. Васильев, С.-Петербург, т. II.
Васильев, В. Е., и др.: 1975, Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в., Составление, подготовка текста и примечания В. Е. Васильева, М. И. Гиллельсона, Н. Г. Захаренко, Ленинград.
Вацуро, В.: 1981, ‘Примечания’, А. Пушкин, Повести Белкина. 1830/1831, Москва, 325—368.
Вацуро, В. Э.: 1985, ‘Литературная школа Лермонтова’, Лермонтовский сборник, Ленинград, 49—90.
Вацуро, В. Э.: 1987, «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина, Москва.
Вацуро, В. Э.: 1994, Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа», С.-Петербург.
Вацуро, В. Э.: 1995, ‘Пушкин и Данте’, Лотмановский сборник, Москва, [вып.] 1, 375—391.
Вацуро, В. Э., В. А. Мильчина: 1989, ‘Комментарии’, Французская элегия XVIII— XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры, Москва, 606—676.
- 244 -
Венгеров, С.: 1891, ‘Батюшков, Константин Николаевич’, С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней), С.-Петербург, т. II, вып. 22—30: Бабаджано<в> — Бензенгр, 227—256, 289—295.
Верховский, Ю.: 1909, ‘Пушкин и итальянский язык: (По поводу заметки Ф. Е. Корша)’, Пушкин и его современники: Материалы и исследования, С.-Петербург, [т. III], вып. XI, 101—106.
Верховский, Н. П.: 1941, ‘Батюшков’, История русской литературы, Москва — Ленинград, т. V: Литература первой половины XIX века. Часть I, 392—417.
Виноградов, В. В.: 1935, Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка, Москва — Ленинград.
Виноградов, В. В.: 1941, Стиль Пушкина, Москва.
Виноградов, В. В.: 1949, ‘Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева’, Материалы и исследования по истории русского литературного языка, Москва — Ленинград, т. I, 161—278.
Винокур, Г.: 1923, ‘[Рец. на кн.: Н. Сетницкий, Статистика, литература и поэзия: К вопросу о плане исследования, Одесса 1922]’, Накануне, 17 апреля, № 273, 5.
Винокур, Г. О.: 1981, ‘Введение в изучение филологических наук: (Выпуск первый. Задачи филологии)’ [1944—1946], Проблемы структурной лингвистики. 1978, Москва, 3—58.
Винницкий, И. Ю.: 1997, Утехи меланхолии, Москва (= Ученые записки Московского Культурологического лицея № 1310, Серия: Филология; Вып. 2, 103—289).
Воейков, А.: 1819, ‘Отрывок из поэмы: Искусства и Науки’ [1817], Вестник Европы, ч. CIV, № 8, 248—255.
Воейков, А.: 1821а, ‘Историческое и критическое обозрение Российских Журналов, выходивших в свет в прошлом 1820 году: (Продолжение)’, Сын Отечества, ч. 66, № 4, 145—176. Без подписи.
Воейков, [А.]: 1821б, ‘Подземелье. (Отрывок из IV песни Делиллевой Поэмы: Воображение)’, Сын Отечества, ч. 69, № 19, 227—232.
Воейков, А. Ф., 1971, ‘Дом сумасшедших’ [1814—1817], Поэты 1790-х — 1810-х годов, Вступительная статья и составление Ю. М. Лотмана, Подготовка текста М. Г. Альтшуллера, Вступительные заметки, биографические справки и примечания Ю. М. Лотмана и М. Г. Альтшуллера, Ленинград, 292—302, 793—805.
Возтоков [= А. Востоков]: 1802, ‘Цирцея<,> кантата Жан Баттиста Руссо’, Свиток муз, С.-Петербург, кн. I, 56—61.
Востоков, А.: 1805, ‘Цирцея. Седьмая кантата Жан Баттиста Руссо’, А. Востоков, Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах, С.-Петербург, ч. I, 78—81.
Востоков, А.: 1806, ‘На смерть воробья. (Подражани<е> Катуллу)’, А. Востоков, Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах, С.-Петербург, ч. II, 62.
Востоков, А.: 1814, ‘Государю Императору Александру Павловичу на возвращение Его Императорского Величества в Россию по заключении всеобщего мира’, Сын Отечества, ч. 15, № 29, 118—119.
- 245 -
Вулих, Н.: 1996, Овидий, Москва.
Вяземский, П.: 1827, ‘[Рецензия на книгу:] A. Mickiewicz, Sonety, Moskwa 1826’, Московский Телеграф, ч. XIV, № 7, отд. I, 191—222. Подпись: Князь Вяземскій.
Вяземский, П. А.: 1884, Полное собрание сочинений, С.-Петербург, т. IX: Старая записная книжка. 1813—1852 гг.
Галинковский Я.: 1804, ‘Торкват Тасс’, Корифей, или Ключ литтературы, ч. III, кн. X: Урания, 84—232.
Гардзонио, С.: 1979, ‘Роль Катенина в становлении русского метрического эквивалента итальянского эндекасиллаба’, La traduzione letteraria dal russo nelle lingue romanze e dalle lingue romanze in russo, Milano, 159—171.
Гардзонио, С.: 1989а, ‘Малоизвестные русские переводы Петрарки в XVIII веке’, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, t. 35, fasc. 1/2, 19—31.
Гардзонио, С.: 1989б, ‘Стих русских поэтических переводов итальянских оперных либретто. XVIII век’, Russian Verse Theory: Proceedings of the 1987 Conference at UCLA, Columbus, Ohio, 107—132 (= UCLA Slavic Studies; Vol. 18).
Гардзонио, С.: 1996, ‘Заметки по истории русской музыкальной поэзии’, XVIII век, сб. 20, 223—230.
Гардзонио, С.: 1999, ‘Метастазио в русской поэзии XVIII — начала XIX в.: Кантата Amor Timido’, Поэтика; История литературы; Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова, Москва, 102—114.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).
Гаспаров, М. Л.: 1975, ‘Подстрочник и мера точности’, Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков: Материалы всесоюзной научной конференции, Москва, ч. 1, 119—122.
Гаспаров, М. Л.: 1977, ‘Первый кризис русской рифмы: (к статье [Ю. И.] Минералова)’, Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 420, 59—70.
Гаспаров, Б.: 1983, ‘Функции реминисценций из Данте в поэзии Пушкина: (статья первая)’, Russian Literature, vol. XIV, № IV, 317—350.
Гаспаров, М. Л.: 1984, Очерк истории русского стиха: Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика, Москва.
Гаспаров, М. Л.: 1989а, ‘Три типа русской романтической элегии: (индивидуальный стиль в жанровом стиле)’, Контекст-1988: Литературно-теоретические исследования, Москва, 39—63.
Гаспаров, М. Л.: 1989б, ‘И. Анненский — переводчик Эсхила’, Классическая филология как компонент высшего гуманитарного образования, Москва, 61—69 (= Сборник научных трудов Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза; Вып. 347).
Гаспаров, М. Л.: 1989в, Очерк истории европейского стиха, Москва.
Гаспаров, М.: 1992, ‘Точные методы и проблемы перевода’, Литература и перевод: проблемы теории: Международная встреча ученых и писателей. Москва. 27 февраля — 1 марта 1991 г., Москва, 73—78.
- 246 -
Гаспаров, М. Л.: 1999, Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти, Москва.
Георгиевский, П.: 1836, Руководство к изучению Русской Словесности, содержащее общие понятия об Изящных Искусствах, теорию Красноречия, Пиитику и краткую Историю Литературы, С.-Петербург, ч. IV: [История литературы].
Гиллельсон, М. И.: 1977, Молодой Пушкин и арзамасское братство, Москва.
ГИМ — Государственный исторический музей. Отдел письменных источников (Москва).
Гиривенко, А. Н.: 2002, Из истории русского художественного перевода первой половины XIX века: Эпоха романтизма: Учебное пособие, Москва.
Глумов, А.: 1950, Музыкальный мир Пушкина, Москва — Ленинград.
Гнедич, Н.: 1829, Илиада Гомера, Переведенная Н. Гнедичем, С.-Петербург, ч. I—II.
Гнедич, Н.: 1832, Стихотворения, С.-Петербург.
Голенищев-Кутузов, И. Н.: 1965, ‘Александрийский стих на Западе’, Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова, Москва, 357—365.
Голенищев-Кутузов, И. Н.: 1966, ‘Александрийский стих в России XVIII в.’, Русско-европейские литературные связи: Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева, Москва — Ленинград, 415—422.
Голенищев-Кутузов, И. Н.: 1971, Творчество Данте и мировая культура, Москва.
Горновский, И. А.: 1905, ‘К столетию театральных представлений в Одессе (1804—1904)’, Библиотека театра и искусства, Февраль, кн. 6, 26—31.
Горохова, Р. М.: 1973, ‘Торквато Тассо в России XVIII века: (Материалы к истории восприятия)’, Россия и Запад: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 105—163.
Горохова, Р. М.: 1974, ‘Ариосто в России: (Материалы к истории его изучения и восприятия)’, Русская литература, № 4, 115—126.
Горохова, Р. М.: 1975, ‘Из истории восприятия Ариосто в России: (Батюшков и Ариосто)’, Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 236—272.
Горохова, Р. М., 1976, ‘Пушкин, Батюшков, Тассо: (К истории одного образа)’, Сравнительное изучение литератур: Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева, Ленинград, 248—252.
Горохова, Р. М.: 1978, ‘Образ Тассо в русской романтической литературе’, От романтизма к реализму: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 117—188.
Горохова, Р. М.: 1979, ‘Пушкин и элегия К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс»: (К вопросу о заметках Пушкина на полях «Опытов» Батюшкова)’, Временник Пушкинской комиссии. 1976, Ленинград, 24—45.
Горохова, Р. М.: 1980, ‘Торквато Тассо в России конца XVIII века: (Материалы к истории восприятия)’, Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы, Ленинград, 127—161.
- 247 -
Горохова, Р. М.: 1983, ‘Ариосто в России’, Л. Ариосто, Неистовый Роланд, Перевод свободным стихом М. Л. Гаспарова, Издание подготовили М. Л. Андреев, Р. М. Горохова, Н. П. Подземская, Москва, [т. II]: Песни XXVI—XLVI, 457—480.
Горохова, Р. М.: 1986, ‘«Напев Торкватовых октав»: (об одной итальянской теме в русской поэзии первой половины XIX века)’, Русская литература и зарубежное искусство: Сборник исследований и материалов, Ленинград, 82—123.
Гревенец, П.: 1883, ‘Константин Николаевич Батюшков в 1853 г.’, Русская Старина, т. XXXIX, кн. IX, 545—550.
Греч, Н.: 1818, ‘[Рец. на кн.]: Освобожденный Иерусалим, поэма Торквата Тасса, Перевел с Италиянского подлинника А. Ш[ишков], С.-Петербург 1818, ч. I’, Сын Отечества, ч. 48, № 34, 81—85.
Григорьева, А. Д.: 1964, ‘Поэтическая фразеология конца XVIII — начала XIX века (именные сочетания)’, Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху, Москва, 3—121.
Григорьева, А. Д.: 1969, ‘Поэтическая фразеология Пушкина’, Поэтическая фразеология Пушкина, Москва, 5—292.
Гринкруг, О.: 1996, ‘К. Н. Батюшков в Италии’, Русская филология: Сборник научных работ молодых филологов, Тарту, [вып.] 7, 90—98.
Громбах, С. М.: 1974, ‘Примечания Пушкина к «Евгению Онегину»’, Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка, т. 33, № 3, 222—233.
Гроссман, Л.: 1925, ‘Поэтика сонета’, Проблемы поэтики: Сборник статей, Под редакцией В. Я. Брюсова, Москва — Ленинград, 115—140.
Грот, Я. К.: 1887, ‘Очерк личности и поэзии Батюшкова’, Торжественное собрание Отделения русского языка и словесности 22-го ноября 1887 года, посвященное чествованию К. Н. Батюшкова, С.-Петербург, 1—17 (= Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук; Т. XLIII, № 1).
Гуковский, Г.: 1933, ‘Примечания’, Державин, Стихотворения, [Ленинград], 421—552.
Густова, Л. И.: 1996, ‘«Язык Италии златой»: Итальянские мотивы в творчестве Пушкина’, Материалы международной Пушкинской конференции 1—4 октября 1996 г., Псков, 33—38.
Данченко, В. Т.: 1973, Данте Алигьери: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке: 1762—1972, Москва.
Данченко, В. Т.: 1986, Франческо Петрарка: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке, Составитель В. Т. Данченко, Москва.
Державин, Г.: 1806, ‘Цирцея’, Вестник Европы, ч. XXV, № 3, 164—167. Подпись: Д—нъ.
Державин, [Г.]: 1808, Сочинения, С.-Петербург, ч. I—III.
Державин, [Г.]: 1812, ‘О лирической поэзии: (Продолжение)’, Чтение в Беседе Любителей Руского сло́ва, чтение VI, 3—27.
- 248 -
Джулиани, Р.: 1987, ‘П. А. Катенин и итальянская литература’, Le romantisme russe et les littératures néo-latines, Firenze, 89—119.
Дмитриев, И.: 1797, ‘Подражание Петрарку’, Аониды, или Собрание разных, новых стихотворений, Москва, кн. II, 251—252. Подпись: ***.
Добродомов, И. Г., И. А. Пильщиков: 2001, ‘Из заметок о лексике и фразеологии «Евгения Онегина»’, Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования, Москва, 252—270 (= Материалы и исследования по истории русской культуры; Вып. 7).
Додолев, М. А.: 2000, ‘Итальянская опера в России в двадцатые годы XIX века’, Россия и Италия, Москва, вып. 4: Встреча культур, 166—177.
Егунов, А. Н.: 1964, Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков, Москва — Ленинград.
Елина, Н. Г.: 1959, ‘Данте в русской литературе, критике и переводах’, Вестник истории мировой культуры, № 1 (13), 105—121.
Елина, Н. Г.: 1968, ‘Петрарка (Petrarca), Франческо’, Краткая литературная энциклопедия, Москва, т. 5: Мурари — Припев, стб. 717—720.
Ефремов, П. А.: 1871, ‘К. Н. Батюшков: Письма его к Гнедичу: [1808—1809 гг.]’, Сообщены П. А. Ефремовым, Русская Старина, т. III, кн. II, 208—236.
Ефремов, П. А.: 1874, К. Н. Батюшков, ‘Письма к Николаю Ивановичу Гнедичу: [1810]’, Сообщены П. А. Ефремовым, Русская Старина, т. X, кн. VI, 383—398.
Ефремов, П. А.: 1883, ‘Константин Николаевич Батюшков в письмах к Ник. Ив. Гнедичу: [1810—1821 гг.]’, Сообщил П. А. Ефремов, Русская Старина, т. XXXVII, кн. III, 653—664; т. XXXVIII, кн. IV, 107—122; кн. V, 333—350; кн. VI, 525—540; т. XXXIX, кн. VII, 21—42; кн. VIII, 237—250.
Живов, В. М.: 1996, Язык и культура в России XVIII века, Москва.
Жуковский, В.: 1802, ‘Сельское кладбище, Греева Элегия, переведенная с Английского’, Вестник Европы, ч. VI, № 24, 319—325.
Ж[уковск]ий, В.: 1807, ‘Вечер’, Вестник Европы, ч. XXXI, № 4, 278—281.
Заборов, П. Р.: 1963, ‘«Литература-посредник» в истории русско-западных литературных связей XVIII — XIX вв.’, Международные связи русской литературы, Москва — Ленинград, 64—85.
Заборов, П. Р.: 1970, ‘Вольтер в России конца XVIII — начала XIX века’, От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 63—194.
Заборов, П. Р.: 1972, ‘Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века’, Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы, Ленинград, 168—221.
Заборов, П. Р.: 1978, Русская литература и Вольтер: XVIII — первая треть XIX века, Ленинград.
Заборов, П. Р.: 2000, ‘Переводы-посредники в истории русской литературы’, Res traductorica: Перевод и сравнительное изучение литератур: К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина, С.-Петербург, 38—50.
Загвозкина, В. Г.: 1985, Е. А. Боратынский и Казань, Казань.
- 249 -
Замбржицкий, В. Л.: 1963, ‘К истории изменения значения слова «зараза»’, Лексикографический сборник, Москва, вып. VI, 160—163.
Зорин, А. Л.: 1988, ‘К. Н. Батюшков в 1814—1815 гг.’, Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка, т. 47, № 4, 368—382.
Зорин, А. Л.: 1989, К. Н. Батюшков, Сочинения, Составление, подготовка текста, комментарии А. Л. Зорина, Разделы <Листы из записной тетради 1809—1810 гг.> и <Наброски и планы незавершенных произведений> подготовлены В. А. Кошелевым, Москва, т. II: Из записных книжек; Письма.
Зорин, А. Л.: 1997, ‘Батюшков и Германия’, Arbor mundi = Мировое древо, Москва, вып. 5, 144—164.
Зорин, А. Л., А. М. Песков, О. А. Проскурин: 1986, К. Н. Батюшков, Избранные сочинения, Составление А. Л. Зорина и А. М. Пескова, Вступительная статья А. Л. Зорина, Комментарий А. Л. Зорина и О. А. Проскурина, Москва.
Зубков, Н.: 1987, ‘Опыты на пути к славе’, А. Зорин, А. Немзер, Н. Зубков, Свой подвиг свершив..., Москва, 265—350.
Зубков, Н. Н.: 1997, ‘Ранние книжные манифестации поэзии К. Н. Батюшкова’, Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, т. 56, № 3, 32—36.
Зубков, Н. Н.: 1999а, ‘Батюшков и Вольтер’, Вольтер и Россия, Москва, 52—57.
Зубков, Н.: 1999б, ‘Наперегонки со смертью: Константин Батюшков’, Персональная история, Москва, 74—123.
Иванов, [Ф.]: 1815, ‘Меланхолия’, Амфион, кн. I, 98—102.
Иванова, И. Н.: 1969, ‘Поэтическая «глагольная» перифраза у Пушкина’, Поэтическая фразеология Пушкина, Москва, 293—372.
Ивинский, Д. П.: 1999, Пушкин и Мицкевич: Материалы к истории литературных отношений. 1826—1829, Москва.
Измайлов, Н. В.: 1952, ‘Мицкевич в стихах Пушкина: (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов»)’, Ученые записки Чкаловского государственного педагогического института им. Чкалова, вып. 6, 171—214.
Измайлов, Н. В.: 1971, ‘Из истории русской октавы’, Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова, Ленинград, 102—110.
Илюшин, А. А.: 1968, ‘Реминисценции из «Божественной Комедии» в русской литературе XIX века’, Дантовские чтения. 1968, Москва, 146—168.
Ионин Г. Н.: 1989, ‘Анакреонтика К. Н. Батюшкова и Г. Р. Державина’, Венок поэту: Жизнь и творчество К. Н. Батюшкова, Вологда, 15—27.
ИРЛИ — Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (С.-Петербург).
Истомин, В.: 1893, ‘Главнейшие особенности языка и слога произведений Константина Николаевича Батюшкова’, Русский Филологический Вестник, т. XXX, № 4, Педагогическое отд., 49—83.
Каплинский, В. Я.: 1929, ‘Теория эпоса молодого Тассо’, Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, т. VII, вып. III: Педагогический факультет, 237—249.
- 250 -
Карамзин, Н.: 1791а, ‘[Рецензия на книгу]: Неистовый Роланд, Героическая Поэма Г. Ариоста, Переведена с Французского [П. Молчановым], Москва 1791, кн. I’, Московской Журнал, ч. II, кн. III, 322—325. Без подписи.
Карамзин, Н.: 1791б, ‘[Рецензия на книгу]: Достопамятная жизнь девицы Кларисы Гарлов, сочиненная на Английском языке Ричардсоном, С.-Петербург 1791, ч. I’, Московский Журнал, ч. IV, кн. I, 108—115. Без подписи.
Карамзин, Н.: 1797, ‘Дарования’, Аониды, или Собрание разных, новых стихотворений, Москва, кн. II, 337—370. Без подписи.
Карамзин, Н.: 1798, ‘Армидин сад: Перевод из Тассова Освобожденного Иерусалима’, Пантеон Иностранной Словесности, Москва, кн. I, 229—252. Без подписи.
Карамзин, Н.: 1799, ‘Протей, или Несогласия стихотворца’, Аониды, или Собрание разных новых стихотворений, Москва 1798/1799, кн. III, 325—357. Без подписи.
Карамзин, [Н.]: 1820, ‘Пантеон Российских авторов’, Карамзин, Сочинения, Издание 3-е, исправленное и умноженное, Москва, т. 7, 283—325.
Катенин, П.: 1822, ‘Письмо к Издателю’, Сын Отечества, ч. 76, № 14, 303—309.
Катенин, П. А.: 1830, ‘Размышления и разборы. Статья V. [§] 7. О поэзии Итальянской’, Литературная Газета, т. II, № 40, 28—31; № 41, 36—40; № 42, 43—47; № 43, 52—55; № 44, 61—64.
Кафанова, О. Б.: 1986, ‘«Пантеон иностранной словесности» Н. М. Карамзина’, Проблемы метода и жанра, Томск, вып. 13, 11—24.
Кац, Б. А.: 1985, ‘«Звуки италианские!»’, Временник Пушкинской комиссии. 1981, Ленинград, 168—173.
Кибальник, С. А.: 1983, ‘Катулл в русской поэзии XVIII — первой трети XIX века’, Взаимосвязи русской и зарубежной литератур, Ленинград, 45—72.
Кибальник, С. А.: 1990, Русская антологическая поэзия первой трети XIX века, Ленинград.
Кибальник, С. А.: 1998, Художественная философия Пушкина, С.-Петербург (= Studiorum Slavicorum Monumenta; T. 16).
Козлов, В.: 1817, ‘[Рецензия на книгу: К. Батюшков, Опыты в Стихах и Прозе, С.-Петербург 1817, ч. I: Проза]’, Русский Инвалид, 7 Июля, № 156, 625—626. Подпись: К.
Комарович, В.: 1934, ‘Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова’, Литературное наследство, Москва, № 16/18, 885—904.
Королева, Н. В., В. Д. Рак [= М. Г. Альтшуллер]: 1979, ‘Примечания’, В. К. Кюхельбекер, Путешествие; Дневник; Статьи, Ленинград, 646—768.
Корш, Ф.: 1908, ‘Мелочи’, Пушкин и его современники: Материалы и исследования, С.-Петербург, [т. II], вып. VII, 51—59.
Космолинская, Г. А.: 1997, ‘Константин Батюшков — редактор «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева’, Рукописи; Редкие издания; Архивы: Из фондов библиотеки Московского университета, Москва, 143—168.
- 251 -
Костров, Е.: 1787, Гомерова Илиада, Переведенная Е. Костровым, С.-Петербург.
Кошелев, В. А.: 1985, К. Н. Батюшков, Нечто о поэте и поэзии, Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии В. А. Кошелева, Москва.
Кошелев, В. А.: 1986, Творческий путь К. Н. Батюшкова: Учебное пособие к спецкурсу, Ленинград.
Кошелев, В. А.: 1987, Константин Батюшков: Странствия и страсти, Москва.
Кошелев, В. А.: 1989, К. Н. Батюшков, Сочинения, Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии В. А. Кошелева, Москва, т. I: «Опыты в стихах и прозе»; Произведения, не вошедшие в «Опыты в стихах и прозе».
Кошелев, В. А.: 1993, ‘Пушкин и «Бова Королевич»’, Русская литература, № 4, 17—34.
Кошелев, В. А.: 1994, П. А. Вяземский, ‘Письма к К. Н. Батюшкову’, Публикация В. А. Кошелева, Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли, С.-Петербург, 118—143.
Кошелев, В. А.: 1995, В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века, [Псков — Невель].
Кошелев, В. А.: 1996, ‘«Образ Крылова» в восприятии К. Н. Батюшкова’, XVIII век, С.-Петербург, сб. 20, 281—291.
Кошелев, В. А.: 1997, Первая книга Пушкина, Томск.
Кравчуновский, Ф.: 1817, Новой и полной толкователь слов Славянских, Греческих, Латинских, Немецких, Италианских, Французских, Жидовских, Турецких и других, употребляемых в Российском языке, Харьков.
Крюкова, О. С.: 2002, Италия в русской поэзии XIX века, С предисловием профессора А. П. Лободанова.
Кузичева, М. В.: 2001, ‘О слоге дружеских писем К. Н. Батюшкова’, Научные доклады высшей школы: Филологические науки, № 2, 31—40.
Кулешов, В. И.: 1977, Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина), Москва.
Кюхельбекер, В.: 1820а, ‘Поэты’, Труды Высочайше утвержденного Вольного Общества Любителей Российской Словесности, ч. X, кн. IV, 71—78 (= Соревнователь Просвещения и Благотворения).
Кюхельбекер, В.: 1820б, ‘О Греческой Антологии’, Сын Отечества, ч. 62, № 23, 145—151.
Кюхельбекер, В. К.: 1883, ‘Дневник Вильгельма Карловича Кюхельбекера. 1831—1845 гг.: VI’, Русская Старина, т. XXXIX, кн. VIII, 251—272.
Лагарп, [Ж.-Ф.]: 1817, Послание Лагарпа к Графу Андрею Петровичу Шувалову, о действиях сельской природы и о Поэзии описательной, С присовокуплением рассуждений о сем роде Поэзии, из сочинений Сен-Ламберта, С Французского, Москва: В типографии Н. С. Всеволожского.
Лазарчук, Р. М.: 1996, ‘Письма А. С. Пушкина: (к проблеме генезиса прозаического стиля)’, Материалы международной Пушкинской конференции 1—4 октября 1996 г., Псков, 189—194.
- 252 -
Левин, Ю. Д.: 1963, ‘Об исторической эволюции принципов перевода: (К истории переводческой мысли в России)’, Международные связи русской литературы, Москва — Ленинград, 5—63.
Левин, В. Д.: 1965, ‘Карамзин, Батюшков, Жуковский — редакторы сочинений М. Н. Муравьева’, Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова, Москва, 182—191.
Лернер, Н. О.: 1935, ‘Пушкинологические этюды’, Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, Москва — Ленинград, [т.] V, 44—187.
Ливанова, Т.: 1960, Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века, Составила Т. Ливанова, Москва, вып. I: 1801—1825.
Лобанов, В. В.: 1981, Библиотека В. А. Жуковского: (Описание), Составитель В. В. Лобанов, Томск.
Ломоносов, М. В.: 1959, Полное собрание сочинений, Москва — Ленинград, т. 8: Поэзия; Ораторская проза; Надписи, 1732—1764 гг.
Лотман, Ю.: 1958, ‘А. Ф. Мерзляков как поэт’, А. Ф. Мерзляков, Стихотворения, Ленинград, 5—54.
Лотман, Ю. М.: 1959, ‘Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский’, XVIII век, Москва — Ленинград, сб. 4, 230—256.
Лотман, Ю. М.: 1980а, ‘К проблеме «Данте и Пушкин»’, Временник Пушкинской комиссии. 1977, 88—91.
Лотман, Ю. М.: 1980б, Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя, Ленинград.
Лотман, Ю. М.: 1992, Избранные статьи: В 3 т., Таллин, т. II: Статьи по истории русской литературы XVIII — первой половины XIX века.
Майков, Л. Н.: 1885—1887а, К. Н. Батюшков, Сочинения, Со статьею о жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примечаниями, составленными им же и В. И. Саитовым. С.-Петербург 1887, т. I; 1885, т. II; 1886, т. III.
Майков, Л. Н.: 1887б, ‘Характеристика Батюшкова как поэта’, Торжественное собрание Отделения русского языка и словесности 22-го ноября 1887 года, посвященное чествованию К. Н. Батюшкова, С.-Петербург, 18—38 (= Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук; Т. XLIII, № 1).
Майков, Л.: 1894, ‘Пушкин о Батюшкове’, Русский Архив, № 4, 528—555.
Майков, Л. Н.: 1896, Батюшков: Его жизнь и сочинения, Издание 2-е, вновь пересмотренное, С.-Петербург.
Майков, Л. Н.: 1899, Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки, С.-Петербург.
Маркович, В. М.: 1989, ‘«Повести Белкина» и литературный контекст’, Пушкин: Исследования и материалы, Ленинград, т. XIII, 63—87.
Матяш, С. А.: 1979, ‘Метрика и строфика К. Н. Батюшкова’, Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов, Москва, 97—114.
- 253 -
Мейлах, Б.: 1937, ‘Лицейские лекции: (По записям А. М. Горчакова)’, Вводная статья [и публикация] Б. Мейлаха, Красный архив, № 1 (80), 75—206.
Мейлах, Б. С.: 1941, К. Н. Батюшков, Стихотворения, Вступительная статья, редакция и примечания Б. С. Мейлаха, Ленинград.
Мерзляков, А.: 1808а, ‘Олинт и Софрония. (Эпизод из Тасса): Стан<сы> XIII— LIV’, Вестник Европы, ч. XXXVIII, № 8, 279—292. Подпись: Мрзлкв.
Мерзляков, А.: 1808б, ‘Адской совет. (Отрывок из Тассова Иерусалима.) IV Песнь’, Вестник Европы, ч. XXXIX, № 11, 160—167. Подпись: Мрзлкв.
Мерзляков, А.: 1811, ‘Единоборство Танкреда с Аргантом. (Отрывок из VI книги Тассова Иерусалима)’, Вестник Европы, ч. LVI, № 5, 33—42. Подпись: Мрзлквъ.
Мерзляков, [А.]: 1812, ‘Эрминия. (Отрывок из Тасса)’, Труды Общества Любителей Российской Словесности при Императорском Московском Университете, ч. III, кн. VI, 35—42 (2-й пагинации).
Мерзляков, [А.]: 1814, ‘Ерминия’, Муза новейших Российских стихотворцев, Москва, 158—164.
Мерзляков, А.: 1815а, ‘Отрывки из Тассова Иерусалима. (Песнь Iя)’; ‘Послание Армиды. (Из песни четвертой)’, Амфион, кн. VIII, 6—22, 23—31. Подписи: Мерзлкв., Мрзлквъ.
Мерзляков, А.: 1815б, ‘Смерть Клоринды. (Отрывок из 12 книги Освоб<ожденного> Иерусалима)’, Амфион, кн. X/XI, 155—167. Подпись: Мерзлкв.
Мерзляков, [А.]: 1816, ‘Смерть Клоринды. (Отрывок из 12 книги Освоб<ожденного> Иерусалима)’, Труды Общества Любителей Российской Словесности при Императорском Московском Университете, ч. VI, кн. X, 17—28 (2-й пагинации).
Мерзляков, А.: 1820, ‘Отрывки из 16й книги Тассова Иерусалима. Сад Армиды’, Труды Вольного Общества Любителей Российской Словесности при Императорском Московском Университете, ч. XVIII, кн. XXVIII, 13—32 (2-й пагинации).
Мерзляков, [А.]: 1821, ‘Из четвертой песни Освобожденного Иерусалима. — Послание Армиды в стан Христианских воинов’, Н. Остолопов, Словарь древней и новой поэзии, С.-Петербург, ч. I, 492—495.
Мерзляков, А.: 1828, Освобожденный Иерусалим, поэма Торквата Тасса, Переведенная с Итальянского А. Мерзляковым, Москва, ч. I—II.
Михайлова, Н. И.: 1999, ‘Дама’, Онегинская энциклопедия, Москва, т. I: А — К, 331.
МК РГБ — Российская государственная библиотека. Научно-исследовательский отдел истории книги, редких и особо ценных изданий (Музей книги; Москва).
Модзалевский, Б. Л.: 1910, Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание), С.-Петербург (= Пушкин и его современники: Материалы и исследования; [Т. III], вып. IX/X).
Молчанова, В. В.: 1990, ‘Русская рецепция «Декамерона» Боккаччо’, Италия и славянский мир: Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto, Москва, 46—48.
- 254 -
Морозов, П.: 1915, ‘Пушкин и Сент-Бев’, Русский библиофил, № VII, 82—90.
Москотильников, С.: 1819, Освобожденный Иерусалим, героическая поэма Торквата Тасса, Перевод С. Москотильникова, Москва, ч. I—II.
Москотильников, С.: 1820, ‘От переводчика’, Освобожденный Иерусалим, героическая поэма Торквата Тасса, Перевод С. Москотильникова, 2-е, исправленное издание, Москва, ч. I, III—VI.
Муравьев, М. Н.: 1815, Обитатель предместия и Эмилиевы письма, С.-Петербург.
Мурьянов, М. Ф.: 1973, ‘Из комментариев к пушкинским произведениям’, Временник Пушкинской комиссии. 1971, Ленинград, 73—82.
Мурьянов, М. Ф.: 1974, ‘Пушкин и Песнь песней’, Временник Пушкинской комиссии. 1972, Ленинград, 47—65.
Мурьянов, М. Ф.: 1995, Пушкинские эпитафии, Москва.
Мурьянов, М. Ф.: 1996, Из символов и аллегорий Пушкина, Москва (= Пушкин в XX веке; Вып. II).
Мурьянов, М. Ф.: 1997, ‘О сложных прилагательных у Пушкина и Тютчева’, Philologica, т. 4, № 8/10, 145—151.
Мурьянов, М. Ф.: 1999, ‘Жизнь как «süsse Gewohnheit»: (Об одной немецкой цитате у Пушкина)’, Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, т. 58, № 3, 71—75.
Надеждин, Н. И.: 1830, ‘[Рецензия на книгу:] А. Пушкин, Евгений Онегин: Роман в стихах, С.-Петербург 1830, гл. VII’, Вестник Европы, № 7, 183—224. Подпись: Съ Патріаршихъ Прудовъ.
Налимов, А.: 1899, ‘Отзвуки итальянской поэзии у Пушкина: (Историко-литературная заметка)’, Образование, № 5/6, 54—60.
Настопкене, В.: 1981, ‘Опыт исследования точности перевода количественными методами’, Literatra, [t.] XXIII, № 2, 53—70.
НБ МГУ — Научная библиотека Московского государственного университета. Отдел редких книг.
НБ ТГУ — Научная библиотека Томского государственного университета. Отдел редких книг.
Неклюдова, М. С., А. Л. Осповат: 1997, ‘Окно в Европу: Источниковедческий этюд к «Медному Всаднику»’, Лотмановский сборник, Москва, [вып.] 2, 255—272.
Некрасов, А. И.: 1911, ‘Батюшков и Петрарка’, Известия Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. XVI, кн. 4, 182—215.
Непомнящий, В. С.: 1996, ‘Из наблюдений над текстом «Евгения Онегина»’, Московский пушкинист, Москва, вып. II, 135—165.
Никитенко, А.: 1839, ‘Батюшков. Из характеристики русских поэтов’, Одесский альманах на 1840 год, Одесса, 458—462.
Норов, [Абр.]: 1818, ‘Отрывок из Послания Ла Гарпа к Графу Шувалову, о действиях сельской природы и о Поэзии описательной’, Благонамеренный, ч. IV, № X, 14—19.
- 255 -
ОА — Остафьевский архив князей Вяземских, Под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова, С.-Петербург 1899/1901, т. I—II.
Оксман, Ю.: 1917, ‘Сюжеты Пушкина: (Отрывочные заметки)’, Пушкин и его современники: Материалы и исследования, Петроград, [т. VII], вып. XXVIII, 73—95.
Олин, В.: 1820, ‘Первое письмо к приятелю о двух прозаических переводах Г. А. Ш[ишкова] и С. Москотильникова, героической Тассовой Поэмы: Освобожденный Иерусалим’, Сын Отечества, ч. 61, № XVIII, 233—253. Подпись: В. О.
Орлов, В.: 1935, ‘Примечания’, [А.] Востоков, Стихотворения, [Ленинград], 363—426.
Остолопов, Н.: 1802, Опыт Волтера на Поезию Епическую, С описанием жизни и творений Гомера, Виргилия, Лукана, Триссина, Камоенса, Тасса, Дон Алонза Д’Ерсиллы и Мильтона, Перевел Н. Остолопов, С.-Петербург.
Остолопов, Н.: 1819, ‘Части дня и ночи, описанные Т. Тассом в Поэме его Освобожденный Иерусалим: (Перевод буквальный)’, Благонамеренный, ч. VII, № XVIII, 346—362
Остолопов, Н.: 1820, ‘Об Аллегории Поэм эпических: (Отрывок из Словаря древней и новой поэзии): [Т. Тасс, Allegoria del Poema: Отрывок]’, С Итальянск<ого> Н. Остолопов, Сын Отечества, ч. 64, № XXXVII, 155—161.
Остолопов, Н.: 1821, Словарь древней и новой поэзии, С.-Петербург, ч. I, III.
Паламарчук, П. Г.: 1987, К. Батюшков, Избранная проза, Составление, послесловие и примечания П. Г. Паламарчука, Москва.
Паперно, И. А.: 1975, ‘О двуязычной переписке пушкинской поры’, Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 358, 148—156.
Перцов, Н. В.: 1998, ‘Сонетный триптих Пушкина’, Московский пушкинист, Москва, вып. V, 217—253.
Петрарка, Ф.: 1982, Эстетические фрагменты, Перевод, вступительная статья и примечания В. В. Бибихина, Москва.
Пильщиков, И. А.: 1994, ‘Литературные цитаты и аллюзии в письмах Батюшкова: (Комментарий к академическому комментарию. 1—2)’, Philologica, т. 1, № 1/2, 205—239.
Пильщиков, И. А.: 1995а, ‘Литературные цитаты и аллюзии в письмах Батюшкова: (Комментарий к академическому комментарию. 3—4)’, Philologica, т. 2, № 3/4, 219—258.
Пильщиков, И. А.: 1995б, ‘О роли версий-посредников при создании переводного текста: (Дмитриев — Лагарп — Скалигер — Тибулл)’, Philologica, т. 2, № 3/4, 87—111.
Пильщиков, И. А.: 1997, ‘Из истории русско-итальянских литературных связей: (Батюшков и Тассо)’, Philologica, т. 4, № 8/10, 7—80.
Пильщиков, И. А.: 1999а, ‘Четыре заметки о литературных цитатах в произведениях Батюшкова’, Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, т. 58, № 2, 54—58.
- 256 -
Пильщиков, И. А.: 1999б, ‘Авзония’, Онегинская энциклопедия, Москва, т. I: А — К, 13—14.
Пильщиков, И. А.: 1999в, ‘Армида’, Онегинская энциклопедия, Москва, т. I: А — К, 62—64.
Пильщиков, И. А.: 1999г, Батюшков и литература Италии: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва.
Пильщиков, И. А.: 2000а, ‘Из истории русско-итальянских литературных связей: (Батюшков, Петрарка, Данте)’, Дантовские чтения. 1998, Москва, 8—32.
Пильщиков, И. А.: 2000б, ‘Пушкин и Петрарка: (из комментариев к «Евгению Онегину»)’, Philologica, 1999/2000, т. 6, № 14/16, 7—36.
Пильщиков, И. А.: 2001, ‘Батюшков — переводчик Тассо: (К вопросу о роли версий-посредников при создании переводного текста)’, Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика: Материалы международной конференции 23—27 июня 1998 г., Москва, 345—353.
Пильщиков, И. А.: 2002а, ‘Пушкин и Тассо: (несколько замечаний)’, Страницы истории русской литературы: Сборник статей: К семидесятилетию профессора Валентина Ивановича Коровина, Москва, 133—141.
Пильщиков, И. А.: 2002б, ‘Из истории русско-итальянских культурных связей: (Итальянские темы в письмах Батюшкова)’, Антропология культуры, Москва, вып. 1, 276—307.
Пильщиков, И. А.: 2002в, ‘Финские элегии Баратынского: Материалы для академического комментария’, К 200-летию Боратынского: Сборник материалов международной научной конференции, состоявшейся 21—23 февраля 2000 г. (Москва — Мураново), Москва, 69—91.
Пильщиков, И. А.: 2002г, ‘[Ответы на анкету «Филологи о Данте»]’, Дантовские чтения. 2001, Москва, 33—36.
Пильщиков, И. А.: 2003, ‘Из истории русской тибуллианы: («Сельская Элегия» Баратынского)’, Colloquia classica et indogermanica = Классическая филология и индоевропейское языкознание, С.-Петербург, [вып]. III (в печати).
Пильщиков, И. А., М. И. Шапир: 2002, А. С. Пушкин, Тень Баркова: Тексты; Комментарии; Экскурсы, Издание подготовили И. А. Пильщиков и М. И. Шапир, Москва.
Плаксин, В. Т.: 1836, ‘Батюшков, Константин Николаевич’, Энциклопедический лексикон, С.-Петербург, т. V: Бар — Бин, 96—97. Подпись: В. Т. П.
Плетнев, П.: 1817, ‘О сочинениях г. Батюшкова’, Вестник Европы, ч. XCVI, № 23/24, 204—208. Подпись: П—въ.
Плетнев, [П.]: 1823, ‘Разбор элегии Батюшкова: Умирающий Тасс’, Журнал изящных искусств, ч. I, № 3, 210—227.
Полуяхтова, И. К.: 1984, ‘Петрарка в русских переводах начала XIX века’, Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературе: Межвузовский сборник научных трудов, Красноярск, 3—19.
Полуяхтова, И. К.: 1987, ‘Эпиграф к шестой главе «Евгения Онегина»: (Из истории русского Петрарки)’, Проблема традиций и взаимовлияния в литературах
- 257 -
стран Западной Европы и Америки (XIX—XX вв.): Межвузовский сборник, Горький, 71—78.
Попов, М.: 1772, Освобожденный Иерусалим, ироическая поема Италиянского Стихотворца Тасса, Переведена с Французского М. Поповым, С.-Петербург, ч. I—II.
Проскурин, О.: 1987, ‘«Победитель всех Гекторов халдейских»: (К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX века)’, Вопросы литературы, вып. 6, 60—93.
Проскурин, О. А.: 1996, ‘Батюшков и поэтическая школа Жуковского: (Опыт переосмысления проблемы)’, Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро, Москва 1995/1996, 77—116.
Проскурин, О.: 2000, Литературные скандалы пушкинской эпохи, Москва (= Материалы и исследования по истории русской культуры; Вып. 6).
Пушкин, В.: 1815, ‘К Кн. Петру Андреевичу Вяземскому’, Российский Музеум, ч. I, № 2, 135—137.
Пушкин, А.: 1825, Евгений Онегин: Роман в стихах, С.-Петербург 1825, [гл. I].
Пушкин, А.: 1826, Стихотворения, С.-Петербург.
Пушкин, А.: 1827—1828, Евгений Онегин: Роман в стихах, С.-Петербург 1827, гл. III; 1828, гл. VI.
Пушкин, А.: 1830, ‘Сонет. (Сонет)’, Московский Вестник, 1830, ч. II, № VIII, 315.
Пушкин, А.: 1831, Повести покойного Ивана Петровича Белкина, Изданные А. П[ушкиным], С.-Петербург.
Пушкин, А.: 1833, Евгений Онегин: Роман в стихах, [Издание 2-е], С.-Петербург.
Пушкин, А.: 1834, Повести, Изданные А. Пушкиным, С.-Петербург.
Пушкин, А.: 1837, Евгений Онегин: Роман в стихах, Издание 3-е, С.-Петербург.
Пушкин: 1926, Письма, Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, Москва — Ленинград, т. I: 1815—1825.
Пушкин: 1937—1949, Полное собрание сочинений, [Москва — Ленинград] 1937, т. 6, 13; 1940, т. 8, [кн.] 1—2; 1947, т. 2, [кн.] 1; 1948, т. 3, [кн.] 1; т. 5, 7; 1949, т. 3, [кн.] 2; т. 11, 12.
Пыпин, А. Н.: 1899, История русской литературы, С.-Петербург, т. IV: Времена имп. Екатерины II; Девятнадцатый век; Пушкин и Гоголь; Утверждение национального значения литературы.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГБ — Российская государственная библиотека. Научно-исследовательский отдел рукописей (Москва).
Реморова, Н. Б.: 1971, ‘Вопросы западноевропейской культуры средних веков и Возрождения в статьях и заметках А. С. Пушкина: (статья вторая)’, Сборник трудов молодых ученых, Томск, [вып. 1], 100—119.
Репин, И. Е., В. В. Стасов: 1948, Переписка, Москва — Ленинград, [т.] I: 1871—1876, Письма подготовлены к печати и примечания к ним составлены А. К. Лебедевым и Г. К. Буровой, Под редакцией А. К. Лебедева (= Письма И. Е. Репина; [Т. I]).
РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (С.-Петербург).
- 258 -
Розанов, И. Н.: 1914, Русская лирика: От поэзии безличной — к исповеди сердца: Историко-литературные очерки, Москва.
Розанов, М.: 1928, ‘Пушкин и Данте’, Пушкин и его современники: Материалы и исследования, Ленинград, [т. X], вып. XXXVII, 11—41.
Розанов, М.: 1930, ‘Пушкин и Петрарка’, Московский пушкинист, Москва, [вып.] II, 116—154.
Розанов, М. Н.: 1937а, ‘Пушкин и итальянские писатели XVIII и начала XIX века’, Известия АН СССР. Отделение общественных наук, № 2/3, 337—368.
Розанов, М. Н.: 1937б, ‘Пушкин, Тассо, Аретино’, Известия АН СССР. Отделение общественных наук, № 2/3, 369—374.
Розанов, М. Н.: 1937в, ‘Пушкин и Ариосто’, Известия АН СССР. Отделение общественных наук, № 2/3, 375—412.
РП — Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты, Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский и Т. Г. Зенгер, Москва — Ленинград 1935.
Рутенбург, В. И.: 1968, ‘Культурные и общественные связи России и Италии: (XVIII и XIX века)’, Россия и Италия: Из истории русско-итальянских культурных и общественных связей, Москва, 5—24.
САР — Словарь Академии Российской, С.-Петербург 1789, ч. I; 1790, ч. II; 1792, ч. III.
Савченко, С.: 1926, ‘Элегия Ленского и французская элегия’, Пушкин в мировой литературе, Ленинград, 64—98, 361—364.
Сандомирская, В. Б.: 1968, ‘К. Н. Батюшков’, История русской поэзии: В 2 т., Ленинград, т. I, 266—281.
Санников, В. З.: 1999, Русский язык в зеркале языковой игры, Москва.
Светлова, М.: 1934, ‘Пушкин по документам архива С. А. Соболевского: I. Пушкин в переписке С. А. Соболевского’, Публикация М. Светловой, Литературное наследство, Москва, № 16/18, 725—756.
Семевский, М.: 1887, ‘Константин Николаевич Батюшков: Очерк его жизни и деятельности; Заметки о полном собрании его сочинений’, Русская Старина, т. LIV, кн. V, 505—548.
Семенко, И. М.: 1977, К. Н. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, Издание подготовила И. М. Семенко, Москва.
Семенников, В. П.: 1913, Собрание старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768—1783 г.г.: Историко-литературное исследование, С.-Петербург.
Сенека, Луций Анней: 1977, Нравственные письма к Луцилию, Издание подготовил С. А. Ошеров, Москва.
Сергеева-Клятис, А.: 2001, Русский ампир и поэзия Константина Батюшкова, Москва, ч. II (= Ученые записки Московского Культурологического лицея № 1310, Серия: Литература; [Ненумерованный вып.]).
Серман, И. З.: 1939, ‘Поэзия К. Н. Батюшкова’, Ученые записки Ленинградского государственного университета, № 46: Серия филологических наук. Вып. 3, 229—283.
- 259 -
Серман, И. З.: 1959, ‘В. В. Капнист и русская поэзия начала XIX века’, XVIII век, Москва — Ленинград, сб. 4, 289—303.
Серман, И. З.: 1972, ‘Батюшков в исследованиях последних лет’, Русская литература, № 2, 232—236.
Сидоров, Е.: 1901, ‘Литературное общество «Арзамас»: [Окончание]’, Журнал Министерства Народного Просвещения, ч. CCCXXXVI, № 7, отд. 2, 46—92.
Синявер, Л.: 1964, Джоакино Россини, Москва.
Сиповский, В.: 1902, Пушкинская юбилейная литература 1899—1900 г.г.: Критико-библиографический обзор, С.-Петербург.
Скакун, А. А.: 1996, ‘Генезис и эволюция легенды о Лафонтене во Франции’, XVII век в европейском литературном развитии: Материалы Международной научной конференции под эгидой ЮНЕСКО «Вторые Лафонтеновские чтения» (12—14 апреля 1996 г.), С.-Петербург, 11—14.
Скальковский, А. А.: 1858, Биографический очерк Одесского театра, Одесса.
Скальковский, А.: 1894, ‘Из портфеля первого историка г. Одессы’, Из прошлого Одессы: Сборник статей, Одесса, 190—261.
Соколов, А. Н.: 1955, Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века, Москва.
Солонович, Е.: 1979, ‘Петрарка в России: история вопроса и некоторые проблемы перевода’, La traduzione letteraria dal russo nelle lingue romanze e dalle lingue romanze in russo, Milano, 315—327.
Сомов, О.: 1827, ‘Обзор российской Словесности за 1827 год’, Северные Цветы на 1828 год, Изданы Бароном Дельвигом, С.-Петербург, 3—82.
Смирнов-Сокольский, Н.: 1962, Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина..., Москва.
Стасов, В.: 1898, Русские и иностранные оперы<,> исполнявшиеся на Императорских театрах в России в XVIII-м и XIX-м столетиях, С.-Петербург.
Степанов, Н. Л.: 1926, ‘Дружеское письмо начала XIX в.’, Русская проза, Ленинград, 74—101.
Степанов, Н. Л.: 1965, ‘Письма Пушкина как литературный жанр’, Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова, Москва, 450—456.
Степанов, Ю. С.: 1994, ‘Слово: Из статьи для Словаря концептов («Концептуария») русской культуры’, Philologica, т. 1, № 1/2, 11—31.
Строганов, М. В.: 1999, ‘«Язык Петрарки и любви»’, Проблемы современного пушкиноведения: Памяти Евгения Александровича Маймина, Псков, 88—96.
Стурдза, А.: 1851, ‘Беседа любителей Русского слова и Арзамас, в царствование Александра I-го<,> и мои воспоминания’, Москвитянин, ч. VI, № 21, кн. 1, [отд. I.], 3—22.
Сурат, И. З.: 1998, ‘«Сонет»’, Наука в России, № 5, 85—87.
СЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века, Ленинград 1984, вып. 1; С.-Петербург 1992, вып. 7; 1995, вып. 8; 1997, вып. 9.
Титаренко, С. Д.: 1985, ‘Ф. Петрарка и русский сонет конца XVIII — первой трети XIX вв.’, Проблемы метода и жанра, Томск, вып. 11, 76—100.
- 260 -
Тоддес, Е.: 1987, ‘Перечитывая Батюшкова’, К. Батюшков, Опыты в стихах, Москва, 311—344.
Томашевский, Б. В.: 1931, ‘Пиндемонте’, А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений: В 6 т., Москва — Ленинград, т. VI: Путеводитель по Пушкину, кн. 12, 280. Без подписи.
Томашевский, Б. В.: 1934, ‘Из пушкинских рукописей’, Литературное наследство, Москва, [т.] 16/18, 273—318.
Томашевский, Б.: 1937а, ‘Пушкин и французская литература’, Литературное наследство, Москва, [т.] 31/32, 1—76.
Томашевский, Б. В.: 1937б, ‘Пушкин и Лафонтен’, Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, Москва — Ленинград, [вып.] 3, 215—254.
Томашевский, Б.: 1948, К. Батюшков, Стихотворения, Вступительная статья, редакция и примечания Б. Томашевского, [Ленинград].
Томашевский, Б. В.: 1956, Пушкин, Москва — Ленинград, кн. I: (1813—1824).
Томашевский, Б. В.: 1957, ‘Примечания’, А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений: В 10 т., Издание 2-е, Москва, т. III: Стихотворения. 1827—1836, 479—537.
Томашевский, Б. В.: 1960, Пушкин и Франция, Ленинград.
Томашевский, Б. В.: 1961, Пушкин, Москва — Ленинград, кн. II: Материалы к монографии (1824—1837).
Томашевский, Н.: 1974, ‘Франческо Петрарка в русской поэзии’, Ф. Петрарка, Избранное: Автобиографическая проза; Сонеты, Москва, 390—402.
Томашевский, Н.: 1981, ‘Два эпизода из истории русского Петрарки’, Н. Томашевский, Традиция и новизна: Заметки о литературе Италии и Испании, Москва, 174—185.
Томашевский, Н.: 1987, ‘Пушкин — читатель Ариосто: (Заметки)’, Альманах библиофила, Москва, вып. XXIII: Венок Пушкину (1837—1987), 107—112.
Топоров, В. Н.: 1969, ‘«Источник» Батюшкова в связи с «Le torrent» Парни’, Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 236, 306—334.
Топоров, В. Н.: 1990, ‘Италия в Петербурге’, Италия и славянский мир: Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto, Москва, 49—81.
Топтунова, А. Е.: 1999, ‘Москотильников, Савва Андреевич’, Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь, Москва, т. 4: М — П, 140—142.
Туманский, В. И.: 1819, ‘Новости. (Из Письма к Издателю): [Париж, 14 Ноября н. с.]’, Благонамеренный, ч. VIII, № XXIII/XXIV, 339—344.
Тургенев, А. И.: 1842, ‘Хроника Русского в Париже’, Современник, т. XXV, 5—14 (1-й пагинации). Подпись: Э. А. [= Эолова Арфа].
Тургенев, А. И.: 1867, ‘Письма Александра Ивановича Тургенева к И. И. Дмитриеву’, [Публикация и примечания П. И. Бартенева], Русский Архив, № 4, стб. 639—670.
Тынянов, Ю.: 1926а, ‘Пушкин и Тютчев’, Поэтика: Временник Отдела словесных искусств Государственного института истории искусств, Ленинград, вып. I, 107—126.
- 261 -
Тынянов, Ю.: 1926б, ‘Архаисты и Пушкин’, Пушкин в мировой литературе, Ленинград, 215—286, 384—393.
Тынянов, Ю.: 1939, ‘Безыменная любовь’, Литературный критик, кн. 5/6, 160—189 (1-й пагинации).
Улей 1811 — ‘Начало поэмы Т. Тасса: Освобожденный Иерусалим. (Опыт перевода с Италиянского подлинника’, Улей, ч. I, № II, Месяц Февраль, 81—95. Без подписи.
Улей 1812 — ‘Продолжение опыта перевода Поемы: Освобожденный И<е>русалим, Тасса’, ч. IV, № XXI, Месяц Сентябрь, 163—174. Без подписи.
Флейшман, Л. С.: 1968, ‘Из истории элегии в пушкинскую эпоху’, Пушкинский сборник, Рига, 24—53 (= Ученые записки Латвийского государственного университета им. П. Стучки; Т. 106).
Фомичев, С. А.: 1986, ‘Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 832: (Из текстологических наблюдений)’, Пушкин: Исследования и материалы, Ленинград, т. XII, 224—242.
Фридман, Н. В.: 1948, ‘Творчество Батюшкова в оценке русской критики 1817—1820 гг.’, Ученые записки Московского государственного университета, вып. 127: Труды кафедры русской литературы. Кн. III, 179—199.
Фридман, Н. В.: 1955а, ‘Новые тексты К. Н. Батюшкова: (К 100-летию со дня смерти поэта)’, Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, т. XIV, вып. 4, 364—371.
Фридман, Н. В.: 1955б, К. Н. Батюшков, Сочинения, Вступительная статья Л. А. Озерова; Подготовка текста и примечания Н. В. Фридмана, Москва.
Фридман, Н. В.: 1964а, ‘Основные проблемы изучения творчества К. Н. Батюшкова’, Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка, т. XXIII, вып. 4, 305—316.
Фридман, Н. В.: 1964б, К. Н. Батюшков, Полное собрание стихотворений, Вступительная статья, подготовка текста и примечания Н. В. Фридмана, Москва — Ленинград.
Фридман, Н. В.: 1965, Проза Батюшкова, Москва.
Фридман, Н. В.: 1970, ‘Неизвестные письма К. Н. Батюшкова’, Русская литература, № 1, 183—191.
Фридман, Н. В.: 1971, Поэзия Батюшкова, Москва.
Херасков, М.: 1795, Пилигримы, или Искатели щастия, Москва.
Херасков, М.: [1796], Творения, вновь исправленные и дополненные, [Москва], ч. I: [Россияда].
Хлодовский, Р. И.: 1976, ‘Пушкинская концепция классического национального стиля и его исторического развития’, Типология стилевого развития нового времени: Классический стиль; Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле, Москва, 175—213.
Хлодовский, Р. И.: 1982, Декамерон: Поэтика и стиль, Москва.
Хлодовский, Р. И.: 1993, ‘Пушкин и «Италия златая»’, Россия и Италия, Москва, [вып. 1], 96—117.
- 262 -
Хлодовский, Р. И.: 1999, ‘Пушкин и Петрарка: гуманизм и гуманность Пушкина’, Вестник Российского гуманитарного научного фонда, № 1, 308—316.
Цявловский, М. А.: 1996, ‘Комментарии [к балладе А. Пушкина «Тень Баркова»]’ [1930—1931, 1937], Публикация Е. С. Шальмана, Подготовка текста и примечания И. А. Пильщикова, Philologica, т. 3, № 5/7, 159—286.
Чебышев, А. А.: 1911, Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину: (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века), Со вступительною статьею и примечаниями А. А. Чебышева, С.-Петербург.
Чернышев, В. И.: 1914, Правильность и чистота русской речи: Опыт русской стилистической грамматики, Издание 2-е, исправленное и дополненное, С.-Петербург, вып. 1: Фонетика.
Шайтанов, И. О.: 1987, К. Н. Батюшков, Стихотворения, Составление, вступительная статья и примечания И. О. Шайтанова, Москва.
Шамфор: 1966, Максимы и мысли; Характеры и анекдоты, Издание подготовили П. Р. Заборов, Ю. Б. Корнеев, Э. Л. Линецкая, Москва — Ленинград.
Шанский, Н. М.: 1999, ‘Краткий лингвистический комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: [Главы V—VI]’, Русский язык в школе, № 2, 121—128. Без подписи.
Шапир, М. И.: 1993, ‘Из истории русского «балладного стиха»: Пером владеет как елдой’, Russian Linguistics, vol. 17, № 1, 57—84.
Шапир, М. И.: 1994а, ‘Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина: (О формально-семантической деривации стихотворных размеров)’, Philologica, т. 1, № 1/2, 43—107.
Шапир, М. И.: 1994б, ‘Auctoribus nostris’, Philologica, т. 1, № 1/2, 275—276. Без подписи.
Шапир, М. И.: 1996, ‘Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец: Комментарий к стиховедческому комментарию’, Русский стих: Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика: В честь 60-летия М. Л. Гаспарова, Москва, 271—310.
Шапир, М. И.: 1997, ‘[Предисловие к работе Б. И. Ярхо «Распределение речи в пятиактной трагедии: (К вопросу о классицизме и романтизме)»]’, Philologica, т. 4, № 8/10, 201.
Шапир, М. И.: 1999, ‘«...Хоть поздно, а вступленье есть»: («Евгений Онегин» и поэтика бурлеска)’, Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, т. 58, № 3, 31—35.
Шапир, М. И.: 2000, Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков, Москва, кн. 1 (= Philologica russica et speculativa; T. I).
Шапир, М. И.: 2001, ‘Язык этики или этика языка? О деонтологии науки’, Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова, Москва, 257—266.
Шапир, М. И.: 2002а, ‘Барков и Державин: Из истории русского бурлеска’, А. С. Пушкин, Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы, Москва, 397—457.
Шапир, М. И.: 2002б, ‘Филология как фундамент гуманитарного знания: Об основных направлениях исследований по теоретической и прикладной филологии’, Антропология культуры, Москва, вып. 1, 56—67.
- 263 -
Шапир, М. И.: 2003а, ‘Три реформы русского стихотворного синтаксиса: (Ломоносов — Пушкин — Иосиф Бродский)’, Вопросы языкознания, 2003, № 3 (в печати).
Шапир, М. И.: 2003б, ‘Октава’, Онегинская энциклопедия, Москва, т. II: Л — Я (в печати).
Шапир, М. И.: 2003в, ‘Стих’, Онегинская энциклопедия, Москва, т. II: Л — Я (в печати).
Шебунин, А. Н.: 1936, Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, [Издание подготовил А. Н. Шебунин при участии С. Я. Гессена], Москва — Ленинград.
Шишков, А.: 1818, Освобожденный Иерусалим, поэма Торквата Тасса, Перевел с Италиянского подлинника А. Ш[ишков], С.-Петербург, ч. I.
Щеголев, П.: 1916, ‘Неизданная статья Пушкина об альманахе «Северная лира»’, Пушкин и его современники: Материалы и исследования, Петроград, [т. VI], вып. XXIII/XXIV, 1—8.
Эйгес, И.: 1937, ‘Итальянская опера в Одессе и Россини’, И. Эйгес, Музыка в жизни и творчестве Пушкина, Москва, 149—164.
Эткинд, Е.: 1968, ‘Поэтический перевод в истории русской литературы’, Мастера русского стихотворного первода, Ленинград, кн. 1, 5—72.
Эткинд, Е.: 1973, Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина, Ленинград.
Яковлев, Н. В.: 1926, ‘Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина’, Пушкин в мировой литературе, Ленинград, 113—159, 366—376.
Якубович, Д.: 1941, ‘Неизвестные автобиографические записи Пушкина’, Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, Москва — Ленинград, [вып.] 6, 30—35.
Яновский, Н. М.: 1806, Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Содержащий разные в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины, значение которых не всякому известно, С.-Петербург, ч. III: от О до Ѳ. Без подписи.
Янушкевич, А. С.: 1990, ‘Книги К. Н. Батюшкова в библиотеке В. А. Жуковского’, Русская книга в дореволюционной Сибири: Читательские интересы сибиряков, Новосибирск, 3—26.
Alfieri, V.: 1967, Vita, A cura di G. Dossena, Torino (= Nuova Universale Einaudi; [Vol.] 81).
[Anonyme]: an IX [= 1800], ‘[Compte rendu du livre: J. Delille, Poésies diverses. On y trouve quelques pièces inédites, Paris an IX (1800)]’, Mercure de France, 16 brumaire [= 7 novembre], 281—283. Без подписи.
Arnault, A. V.: 1825, Œuvres, Paris, [t. IV]: Fables et poésies diverses.
Austin, R. G.: 1955, P. Vergili Maronis Aeneidos liber quartus, Edited with a commentary by R. G. Austin, Oxford.
Austin, R. G.: 1977, P. Vergili Maronis Aeneidos liber sextus, Edited with a commentary by R. G. Austin, Oxford.
Baour-Lormian, P. L. M. F.: 1796, [T. Tasse], La Jérusalem délivrée, En vers françois, par P. L. M. F. Baour-Lormian, Paris, t. I—II.
- 264 -
Baour-Lormian, P. L. M.: 1819, [T. Tasse], La Jérusalem délivrée, Traduite en vers français par P. L. M. Baour-Lormian, 2e édition, Paris, t. I, III.
Battaglia, S.: 1961—1968, Grande dizionario della lingua italiana, Torino 1961, [vol.] I; 1962, [vol.] II; 1968, [vol.] V.
Beall, Ch. B.: 1942, La Fortune du Tasse en France, Eugene, Oreg. (= University of Oregon Monographs. Studies in Literature and Philology; № 4).
Benedetto, L. F.: 1912, ‘Jean-Jacques Rousseau tassofilo’, Scritti vari di erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier, Torino — Milano — Roma, 371—389.
Beni, P.: 1607, Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato, et a chi di loro si debba la palma nell’ heroico poema, Padova.
Besterman, T.: 1963—1964, Voltaire’s Correspondence, Edited by T. Besterman, Genève 1963, vol. LXXXIX; 1964, vol. XCI.
Biolato Mioni, A.: 1937, ‘Puškin e l’Italia’, Alessandro Puškin nel primo centenario della morte, Roma, 247—297.
Binet, [R.]: 1808, ‘Description des Enfers selon Virgile’, Virgile, Œuvres, Traduites en français ... par M. Binet. 2e édition. Paris, t. III, 195—205.
Blanc, L. G.: 1852, Vocabolario Dantesco<,> ou Dictionnaire critique et raisonné de la Divine Comédie de Dante Allighieri <sic!>, Leipsic.
Bömer, F.: 1976—1982, P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Kommentar von F. Bömer, Heidelberg 1976, Buch IV—V; 1980, Buch X—XI; 1982, Buch XII—XIII.
Boillat, M.: 1976, Les Métamorphoses d’Ovide: Thèmes majeurs et problèmes de composition, Frankfurt a. M. (= Publications Universitaires Européennes. Série XV; Vol. 8).
Bouvy, É.: 1898, Voltaire et l’Italie, Paris.
Bright, D. F.: 1978, Haec mihi fingebam: Tibullus in his World, Leiden (= Cincinatti Classical Studies. New Series; Vol. III).
Brown, W. E.: 1986, A History of Russian Literature of the Romantic Period, Ann Arbor, vol. 1.
Brunelli, B.: 1953—1965, P. Metastasio, Tutte le opere, 2a edizione, A cura di Bruno Brunelli, [Milano — Verona] 1953, vol. I; 1965, vol. II.
Buttura, A.: 1836, L’Orlando furioso e le Satire di Lodovico Ariosto, Con note di diversi, per diligenza e studio di A. Buttura, Parigi, t. IV.
Cairns, F.: 1979, Tibullus, a Hellenistic Poet at Rome, Cambridge etc.
Cantarini, A.: 1978, ‘Alcune traduzioni slave di un gioco di parole petrarchesco’, Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama = Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb — Dubrovnik, 87—91.
Carducci, G.: 1898, ‘L’Ariosto e il Voltaire’, G. Carducci, Opere, Bologna, t. [X]: Studi, saggi e discorsi, 131—147.
Casti, G. B.: 1810, Poesie liriche, Genova.
Castrogiovanni, G.: 1858, Fraseologica poetica e Dizionario generale della Divina Commedia, Palermo.
Catalogue — Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotèque nationale: Auteurs, Paris 1954, t. CLXXXII: Tal — Tasso.
Catford, J. C.: 1965, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics, London.
- 265 -
Certo, V.: 1926, ‘Puškin e la lingua italiana’, Rivista di Letterature Slave, vol. I, fasc. I/II, 257—265.
Cesarotti, M.: 1786—1794, L’Iliade d’Omero, Recata poeticamente in verso sciolto italiano dall’ab. M. Cesarotti, insieme col Volgarizzamento letterale del Testo in prosa ... illustrato da una scelta delle Osservazioni ... de’ ... Critici ... e da quelle del Traduttore, Padova, t. I—IX.
Cesarotti, M.: 1801, Poesie di Ossian, figlio di Fingal, antico poeta celtico, [Trasportate in italiano dall’ab. M. Cesarotti, 3a edizione, con correzioni, nuove dissertazioni ed aggiunte], Pisa, t. I—IV (= Opere dell’abate M. Cesarotti; T. II—V).
Chamfort: 1812, Œuvres complètes, 3e édition, Paris, t. II.
Chateaubriand, F. A.: An X = 1802, Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne, Paris, t. II.
Chiappelli, F.: 1957, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze.
Chiappelli, F.: 1981, Il Conoscitore del Caos: Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, Roma (= Strumenti di ricerca; № 31/32).
Cioranescu, Al.: 1939, L’Arioste en France: Des origines à la fin du XVIIIe siècle, Paris, t. II (= Publications de l’École Roumaine en France; [t.] II).
Contieri, N.: 1956, ‘Mickiewicz e il Petrarca’, Ricerche slavistiche, 1955/1956, vol. IV, 47—55.
Contieri, N.: 1959, ‘Batjuškov e il Petrarca’, Istituto universitario orientale. Annali. Sezione slava, Napoli, [vol.] II, 163—182.
Cordié, C.: 1971, ‘Prima metà dell’Ottocento’, Il Boccaccio nella cultura francese, Firenze, 395—446.
Cordié, C.: 1974, ‘L’Ariosto nella critica della Staël, del Ginguené e del Sismondi (1800—1813)’, Italianistica, № 3, 171—188.
Cordié, C.: 1977a, ‘Torquato Tasso nella critica della Staël, del Ginguené e del Sismondi (1800—1813)’, Studi Tassiani, № 26, 39—93.
Cordié, C.: 1977b, ‘Il Petrarca nella critica della Staël, del Ginguené e del Sismondi (1800—1813)’, Atti e memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze. Nuova Serie. Anni 1973—75, Arezzo, vol. XLI, 412—458.
Cordié, C.: 1985, ‘Dante Alighieri nella critica della Staël, del Ginguené e del Sismondi (1799—1832)’, Studi Danteschi, vol. LVII, 161—269.
Cottaz, J.: 1942a, Le Tasse et la conception épique, Paris.
Cottaz, J.: 1942b, L’Influence des théories du Tasse sur l’épopée en France, Paris.
Counson, A.: 1905, ‘Dante et les Romantiques français’, Revue d’Histoire littéraire de la France, № 3, 361—408.
Counson, A.: 1906, ‘Dante en France’, Romanische Forschungen, [1906]/1908, Bd. XXI, H. 1, 1—275.
Counson, A.: 1921, ‘Le réveil de Dante’, Revue de littérature comparée, 362—387.
Cranfield, C. E. B.: 1977, The Gospel according to Saint Mark, An introduction and commentary by C. E. B. Cranfield, Cambridge etc.
Čiževsky, D.: 1953, A. S. Pushkin, Evgenij Onegin: A Novel in Verse, The Russian text edited with introduction and commentary by D. Čiževsky, Cambridge, Mass.
- 266 -
Dacier, [A.]: 1711, L’Iliade d’Homere, Traduite en françois, avec des remarques, par Madame Dacier, Paris, t. II.
DAF — Dictionnaire de l’Académie françoise, dedié au Roi, Paris 1694, t. II: M — Z.
De Charnes, J. A.: 1690, La Vie du Tasse, Paris. Без подписи.
Delille, J.: 1804, [Virgile], L’Énéide, Traduite par J. Delille, Paris, t. III.
Delille, J.: 1806, L’Imagination: Poëme, Accompagné de notes historiques et littéraires, par J. Esménard, Paris, t. I—II (= Œuvres de J. Delille; T. [XIV]—[XV]).
Delvau, A.: 1864, Dictionnaire érotique moderne, Freetown [= Bruxelles].
Donadoni, E.: 1946, Torquato Tasso, 3. edizione, Firenze.
Dufrénoy, [A. G. Billet]: 1812, ‘La Mort du Tasse’, Almanach des Muses, Paris, 203—207. Подпись: Mme Dufrénoy.
Durante, S.: 1992, ‘La clemenza di Tito and Other Two-Act Reductions of the Late 18th Century’, Bericht über den Internationalen Mozart-Kongreß, Salzburg 1991, Kassel — Basel, 733—741 (= Mozart-Jahrbuch 1991).
Eisenberger, H.: 1960, ‘Der innere Zusammenhang der Motive in Tibulls Gedicht 1.3’, Hermes, Bd. 88, H. 3, 188—197.
Farinelli, A.: 1908, Dante e la Francia: Dall’età media al secolo di Voltaire, Milano, vol. I—II.
Farmer, H. G.: 1960, ‘Voltaire as Music Critic’, The Music Review, vol. XXI, № 4, 317—319.
Fay, E. A.: 1888, Concordance of the Divina Commedia, Cambridge, Mass. — Bos-ton — London.
Friederich, W. P.: 1950, Dante’s Fame Abroad: 1350—1850: The Influence of Dante Alighieri on the Poets and Scholars of Spain, France, England, Germany, Switzerland and the United States: A Survey of the Present State of Scholarschip, Rome (= Storia e letteratura; № 31).
Gallagher, M.: 1938, Baour-Lormian: Life and Works, Philadelphia.
Garzonio, S.: 1984a, La poesia italiana in Russia: Materiali bibliografici, Firenze.
Garzonio, S.: 1984b, ‘Deržavin traduttore di Petrarca’, Istituto universitario orientale. Annali del Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale. Sezione Letterario-Artistica, Nuova Serie, [vol.] 2 (XXIII), 143—153.
Garzonio, S.: 1988, ‘Petrarca nelle traduzioni russe del XVIII secolo’, Le lingue del mondo, № 6, 33—42.
Geiger, H.: 1978, Interpretationen zur Gestalt Amors bei Tibull, Zürich.
Getto, G.: 1968, Nel mondo della «Gerusalemme», Firenze.
Ginguené, P. L.: 1788, ‘Réflexions sur l’Arioste’, Mercure de France, 26 Avril, № 17, 166—186. Подпись: M. G***.
Ginguené, [P. L.]: 1789, ‘Sur le Tasse’, Mercure de France, 2 Mai, № 18, 19—38; 9 Mai, № 19, 60—94.
Ginguené, P. L.: 1811—1812, Histoire littéraire d’Italie, Paris, t. I—V.
Giunta, M. da: 1857, Antologia epigrammatica italiana, Preceduta da un discorso sull’ epigramma di M. da Giunta, Firenze.
Grandsen, K. W.: 1976, ‘Commentary’, Virgil, Aeneid, Book VIII, Cambridge etc., 77—187.
- 267 -
Graziani, F.: 1988, ‘Les Discours du Tasse, une défence et illustration de la pensée poétique’, Revue de littérature comparée, № 4 (248), 563—567.
Gros, É.: 1926, Philippe Quinault: Sa vie et son œuvre, Paris.
Grossi, P.: 1998, ‘Quelques aperçus sur les chapitres dantesques de l’Histoire littéraire d’Italie de Pierre-Louis Ginguené’, Studi Medievali e Moderni, № 2, 43—58.
Grossi, P.: 2001, ‘Ginguené «corrompu» par le Tasse’, Studi francesi, 251—267.
Güntzschel, D.: 1972, Beiträge zur Datierung des Culex, Münster (= Orbis antiquus; H. 27).
Haumant, É.: 1910, La culture française en Russie (1700—1900), Paris.
Haupt, H.: 1974, Bild- und Anschauungswelt Torquato Tassos, München.
Hazard, P.: 1910, La Révolution française et les lettres italiennes. 1789—1815, Paris.
Hollander, R.: 1993, ‘Le opere di Virgilio nella Commedia di Dante’, Dante e la «bella scola» della poesia: Autorità e sfida poetica, Ravenna, 247—343.
Hucke, H.: 1987, ‘L’«Achille in Sciro» di Domenico Sarri e l’inaugurazione del teatro di San Carlo’, Il Teatro di San Carlo. 1737—1987, Napoli, vol. II: L’opera, il ballo, 21—32.
Hunwick, A.: 1977, La Critique littéraire de Jean-François de La Harpe (1739—1803), Berne — Frankfurt a. M. — Las Vegas (= Publications Universitaires Européennes, Série XIII; Vol. 45).
Jonard, N.: 1984, ‘L’Érotisme dans la «Jérusalem délivrée»’, Studi Tassiani, № 32, 43—62.
Jovicevich, A.: 1973, Jean-François de La Harpe, adepte et renégat des lumières, South Orange.
Kažoknieks, M.: 1968, Studien zur Rezeption der Antike bei Russischen Dichtern zu Beginn des XIX. Jahrhunderts, München.
Keyser, S.: 1933, Contribution à l’étude de la fortune littéraire de l’Arioste en France, Leiden.
Knittel, H.: 1971, Vergil bei Dante: Beobachtungen zur Nachwirkung des sechsten Äneisbuches: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br., Konstanz.
La Harpe, [J. F.] de: 1776, ‘[Discours de réception à l’Académie françoise]’, Discours prononcés dans l’Académie françoise, Le Jeudi XX Juin M. DCC. LXXVI. A la réception de M. de La Harpe, Paris, 3—20.
La Harpe, [J. F.] de: 1778, Œuvres, Paris, t. II, VI.
La Harpe, [J. F.] de: 1779, ‘Éloge de M. Colardeau’, [C. P.] Colardeau, Œuvres, Paris, t. I, xix—xliv.
La Harpe, [J. F.] de: 1780, ‘Tasse (les Malheurs et le Triomphe du)’, Encyclopédie poétique, ou Recueil complet de chef-d’œuvres <sic!> de Poésie sur tous les sujets possibles, depuis Marot, Malherbe, &c., jusqu’à nos jours, présentés dans l’ordre alphabétique, Dédié à M. de Voltaire... Par M. de Gaigne, ancien Officier d’Infanterie, & Censeur Royal, Paris, t. XVII, 177—186.
Laharpe [= La Harpe], J. F.: An VII [= 1799], Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne, Paris, t. II, V—VI, VIII.
- 268 -
Laharpe [= La Harpe], J. F.: An IX = 1801, Correspondance littéraire, adressée à son Altesse Impériale M.gr le Grand-Duc, aujourd’hui Empereur de Russie, et à M. le Comte André Schowalow, Chambellan de l’Impératrice Catherine II, Depuis 1774 jusqu’à 1789, Paris, t. I—II.
La Harpe, [J. F.] de: 1806, Œuvres choisies et posthumes, Paris, t. II—III.
Lauer, R.: 1968, ‘Die Anfänge des Alexandriners in Rußland’, Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongreß in Prag 1968, München, 475—495.
Lauer, R.: 1975, Gedichtform zwischen Schema und Verfall: Sonett, Rondeau, Madrigal, Ballade, Stanze und Triolet in der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts, München.
Lachmann, R.: 1968, ‘<«>Pokin’, Kupido, strely<»>: Bemerkungen zur Topik der russischen Liebesdichtung des 18. Jahrhunderts’, Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968, München, 449—474.
Lebrun, C. F.: 1774, Jérusalem délivrée: Poëme du Tasse, Nouvelle traduction, [Par C. F. Lebrun], Paris, t. I—II.
Lebrun, C. F.: An XI = 1803, [T. Tasse], Jérusalem délivrée: Poëme, Traduit de l’italien [par C. F. Lebrun], Nouvelle édition revue et corrigée, Enrichie de la Vie du Tasse, [Par J.-B.-A. Suard], Paris, t. I—II.
Lettere — ‘Lettere diverse scritte dal S. Torquato Tasso et da altri in materia della Gierusalemme Liberata’, T. Tasso, Apologia, Ferrara 1586, 116—175 (1-й пагинации).
Loewenberg, A.: 1955, Annals of Opera. 1597—1940, Compiled from the original sources by A. Loewenberg, With an introduction by E. J. Dent, 2nd edition, revised and corrected, Genève, vol. I: Text.
Lo Gatto, E.: 1931, ‘L’Italia nelle letterature slave’, Studi di letterature slave, vol. III, 131—228.
Lo Gatto, E.: 1971, Russi in Italia: Dal secolo XVII ad oggi, Roma.
Lovera, L., et al.: 1975, Concordanza della Commedia di Dante Alighieri, A cura di L. Lovera con collaborazione di R. Bettarini e A. Mazzarello, Torino, [vol.] I.
Lühning, H.: 1983, Titus-Vertonungen im 18. Jahrhundert: Untersuchungen zur Tradition der Opera seria von Hasse bis Mozart, Laaber (= Analecta musicologica; Bd. 20).
Maillat, G.: 1988, ‘Les Vies du Tasse: l’abbé de Charnes adaptateur de Manso’, Revue de littérature comparée, № 4 (248), 455—465.
Manso, G.: 1724, ‘Vita di Torquato Tasso’ [1600], T. Tasso, La Gierusalemme liberata, Londra, vol. I, 1—152 (1-й пагинации).
Marchetti, A.: 1717, Di Tito Lucrezio Caro della Natura delle cose libri sei, Tradotti da A. Marchetti, Londra.
Markiewicz, Z.: 1978, ‘La poésie de Pétrarque en Pologne au XIXe siècle’, Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama = Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb — Dubrovnik 1978, 319—325.
Marmontel, [J. F.]: 1763, Poétique françoise, Paris.
Matthisson, [F.]: 1802, Gedichte, 5. Auflage, Zürich.
Maver Lo Gatto, A.: 1978, ‘Primi poeti russi traduttori del Petrarca’, Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama = Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb — Dubrovnik, 327—334.
- 269 -
McKenzie, K.: 1912, Concordanza delle rime di Francesca Petrarca, Compilata da K. McKenzie, Oxford 1912.
Mercereau, J., Jr.: 1967, Baron Delvig’s Northern Flowers, 1825—1832: Literary Almanac of the Pushkin Pleiad, Carbondale — Edwardsville — London — Amsterdam.
Meyer, R.: 2000, ‘Die Rezeption der Opernlibretti Pietro Metastasios’, Pietro Metastasio — uomo universale (1698—1782): Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum 300. Geburstag von Pietro Metastasio, Wien, 311—352.
Mickiewicz, A.: 1826, Sonety, Moskwa.
Millevoye, C.: 1812, Élégies, suivies d’Emma et Éginard, Poëme; et d’autres Poésies, la plupart inédites, Paris.
Mincione, G.: 1968, L’oltretomba di Virgilio in relazione con quello di Omero e di Dante, Pescara.
Minghini, A.: 1999, ‘A proposito delle musiche di Johann Christian Bach conservate nell’Archivio musicale dell’Accademia Virgiliana di Mantova’, Musicaaa!, № 13, 7—10.
Mirabaud, J.-B.: 1724, Jerusalem délivrée: Poëme héroïque du Tasse, Nouvellement traduit en François [par J.-B. Mirabaud], Paris, t. I—II.
Mondolfi, A.: 1962, ‘Paisiello, Giovanni’, Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Basel — London — New York, Bd. 10: Oper — Rappresentazione, 639—647.
Moog-Grünewald, M.: 1988, ‘Le Veglie di Tasso: Une supercherie romantique’, Revue de littérature comparée, № 4 (248), 467—476.
Moore, E.: 1896, Studies in Dante, First Series: Scripture and Classical Authors in Dante, Oxford.
Mooser, R.-A.: 1945, Opéras<,> intermezzos, ballets<,> cantates, oratoires<,> joués en Russie durant le XVIII siècle: Essai d’un répertoire alphabétique et chronologique, Genève.
Mortier, R.: 1974, La Poétique des ruines en France: Ses origines, ses variations de la Renaissance à Victor Hugo, Genève.
Murrin, M.: 1980, The Allegorical Epic: Essays in its Rise and Decline, Chicago — London.
Nabokov, V.: 1964, A. Pushkin, Eugene Onegin: A Novel in Verse, Translated from the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov: In 4 vols., New York, vol. 2 (= Bollingen Series; LXXII).
Naves, R.: [1938], Le Goût de Voltaire, Paris.
Neville, D.: 1992, ‘Metastasio, [Trapassi], Pietro (Antonio Domenico Bonaventura)’, The New Grove Dictionary of Opera, London — New York, vol. III: Lon — Rod, 351—361.
Noero, C.: 1965, ‘Il notturna nella «Gerusalemme liberata»’, Studi Tassiani, № 14/15, 35—40.
Norden, E.: 1966, ‘Orpheus und Eurydike’, E. Norden, Kleine Schriften zum klassischen Altertum, Berlin, 468—532.
- 270 -
Oelsner, H.: 1898, Dante in Frankreich bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Berlin (= Berliner Beiträge zur germanischen und romanischen Philologie; [Bd.] XVI: Romanische Abteilung, № 9).
Osborne, R.: 1992, ‘Italiana in Algeri, L’’, The New Grove Dictionary of Opera, London — New York, vol. II: E — Lom, 833—836.
Ouvaroff, S.: 1817, ‘Essais en vers et en prose par M. Batuchkoff’, Le Conservateur impartial, 16/28 Octobre, № 83, 414. Без подписи.
Panckoucke, C.: 1785, [T. Tasse], Jérusalem délivrée, Nouvelle traduction, Dédiée à Monseigneur le Comte de Vergennes, [Par C. Panckoucke], Paris, t. I, V.
Petrarca, F.: 1805, Le Rime, Illustrate con note dal P. F. Soave C. R. S., Milano, vol. 1—2.
Petrarca, F.: 1819—1820, Le Rime, [A cura di A. Marsand], Padova 1819, vol. I; 1820, vol. II.
Petrocchi, P.: 1902, Novo dizionario universale della lingua italiana, Milano, vol. I: A — K.
Picchio, R.: 1989, ‘«La lingua di Petrarca e dell’amore»: Osservazioni sulla poetica dell’Onegin’, Alessandro Puškin nel 150o anniversario della morte: Atti del convegno tenuto il 16—17—18 novembre 1987, Milano, 237—255.
Pil’ščikov, I.: 1995a, ‘L’Italia e la letteratura italiana nelle opere e nelle lettere di Konstantin Batjuškov’, I Russi e l’Italia, Milano, 125—131.
Pilshchikov, I.: 1994a, ‘Notes and Queries in Poetics: [Introduction; I. Baratynsky and Delille; II. Batyushkov and La Harpe]’, Essays in Poetics, vol. 19, № 1, 104—108.
Pilshchikov, I.: 1994b, ‘Notes and Queries in Poetics: Batyushkov and French Critics of Tasso’, Essays in Poetics, vol. 19, № 2, 114—125.
Pilshchikov, I.: 1995b, ‘Notes and Queries in Poetics: Batyushkov and Quinault’, Essays in Poetics, vol. 20, 230—234.
Pilshchikov, I.: 1997, ‘Notes and Queries in Poetics: [I. Ivan Dolgorukov reworking Piron’s Ode; II. On Batyushkov’s ellipsis in a letter to Gnedich]’, Essays in Poetics, vol. 22, 258—263.
Pil’shchikov, I. А., T. H. Fitt: 1999, ‘Konstantin Nikolaevich Batiushkov’, Russian Literature in the Age of Pushkin and Gogol: Poetry and Drama, Detroit — Washington, D. C. — London, 20—37 (= Dictionary of Literary Biography; Vol. 205).
Plate, R.: 1917, Voltaire als Epentheoretiker und Dichter der Henriade: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der königlichen Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr., Danzig.
Potthoff, W.: 1978, ‘Russische Rom-Dichtung im 19. Jahrhundert’, Studien zu Literatur und Aufklärung in Osteuropa: Aus Anlaß des VIII. Internationalen Slavistenkongresses in Zagreb, Gießen, 357—413 (= Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen; Bd. 13).
Puglisi Pico, M.: 1896, Il Tasso nella critica francese, Acireale.
Quérard, J.-M.: 1838, La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles, Paris, t. IX: Se — U.
- 271 -
Quinault, P.: 1685, Roland: Tragedie en musique, Paris. Без подписи.
Quinault, P.: 1686, Armide: Tragedie en musique, Paris. Без подписи.
Régaldo, M.: 1973, ‘Ginguené, fondateur de l’Histoire littéraire’, Missions et démarches de la critique: Mélanges offerts au J.-A. Vier, Paris, 77—90.
Registres — Les Registres de l’Académie françoise: 1672—1793, Paris 1895, t. III: 1751—1793.
Rehm, W.: 1960, Europäische Romdichtung, 2. Auflage, München.
Ronconi, A.: 1975, ‘Echi virgiliani nell’opera dantesca’, Enciclopedia dantesca, vol. 5: San — Z, 1044—1049.
Rousseau, J.-B.: 1743, Œuvres, Nouvelle édition, Bruxelles, t. I.
Rousseau, J.-J.: 1792, ‘Lettre sur la musique françoise’ [1753], Œuvres complètes, Nouvelle édition, classée par ordre de matières, [Paris], t. XIX: Écrits sur la musique. T. I, 341—426.
Scartazzini, G. A.: 1899, Enciclopedia Dantesca: Dizionario critico e ragionato di quanto concerne la vita e le opere di Dante Alighieri, Milano, vol. II: M — Z.
Scholz, F.: 1984, ‘Zu K. N. Batjuškovs Elegie Umirajuščij Tass’, Text — Symbol — Weltmodel: Johannes Holthausen zum 60. Geburtstag, München, 515—531 (= Sagners Slavistische Sammlung; Bd. 6).
Scoppa, A.: An XI = 1803, Traité de la poésie italienne, rapportée à la poésie française, Paris — Versailles.
Seaman, G.: 1994, ‘Nineteenth Century Italian Opera as seen in the Contemporary Russian Press’, New Zealand Slavonic Journal, 145—152.
Segre, C.: [1954], ‘Nota critica al testo delle opere minori’, L. Ariosto, Opere minori, Milano — Napoli, 1165—1188.
Serassi, P.: 1790, La vita di Torquato Tasso, 2. edizione corretta ed accresciuta, Bergamo, t. I—II.
Serman, I. Z.: 1974, Konstantin Batyushkov, New York (= Twayne’s World Authors Series; [Vol.] 287).
Setaioli, A.: 1970, Alcuni aspetti del VI libro dell’Eneide, Bologna.
Seyffert, O.: 1957, A Dictionary of Classical Antiquities: Mythology; Religion; Literature; Art, Revised and edited by H. Nettleship and J. E. Sandys, New York.
Shapiro, Marianne and Michael: 1993, ‘Pushkin and Petrarch’, American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August — September 1993: Literature. Linguistics. Poetics, Columbus, Ohio, 154—169.
Shaw, J. T.: 1975, Batiushkov: A Dictionary of the Rhymes & A Concordance to the Poetry, Madison, Wis. — London (= Wisconsin Slavic Publications; № 2).
Sheldon, E. S., A. C. White: 1905, Concordanza delle opere italiane in prosa e del canzoniere di Dante Alighieri, A cura di E. S. Sheldon coll’aiuto di A. C. White, Oxford.
Sismondi, J. C. L., Simonde de: 1813, De la littérature du midi de l’Europe, Paris, t. I—II.
Sismondi, J. C. L., Simonde de: 1819, De la littérature du midi de l’Europe, 2e édition, revue et corrigée, Paris, t. I.
- 272 -
Sismondi, J. C. L., Simonde de: 1829, De la littérature du midi de l’Europe, 3e édition, revue et corrigée, Paris, t. I
Solmsen, F.: 1972, ‘The World of Death in Book 6 of the Aeneid’, Classical Philology, vol. 67, 31—41.
Sommer-Mathis, A.: 2000, ‘Achille in Sciro — eine europäische Oper? Drei Aufführungen von Metastasios dramma per musica in Wien, Neapel und Madrid’, Pietro Metastasio — uomo universale (1698—1782): Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum 300. Geburstag von Pietro Metastasio, Wien, 221—250.
Staël-Holstein, [G.] de: [1800], De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Paris, t. I.
Staël-Holstein, [G.] de: 1807, Corinne, ou l’Italie, Londres.
Stendhal, De: 1824, Vie de Rossini, Ornée des Portraits de Rossini et de Mozart, 2e édition, Paris.
Stephens, W. C.: 1958, ‘Descent to the Underworld in Ovid’s Metamorphoses’, The Classical Journal, vol. 53, № 4, 177—183.
Suard, [J.-B.-A.]: an XI = 1803, ‘Notice sur la vie et le caractère du Tasse’, [T. Tasse], Jérusalem délivrée: Poëme, Traduit de l’italien [par C. F. Lebrun], Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, t. I, iii—lxx.
Todd, C.: 1972, Voltaire’s Disciple: Jean-François de La Harpe, London (= MHRA Dissertation Series; Vol. 7).
Todd, W. M., III: 1976, The Familiar Letter as a Literary Genre in the Age of Pushkin, Princeton.
Todd, C.: 1979, Bibliographie des œuvres de Jean-François de La Harpe, Oxford (= Studies on Voltaire and the Eighteenth Century; Vol. 181).
Trésor — Trésor de la langue française: Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789—1960), Publié sous la direction de P. Imbs, Paris 1979, t. 7: (Désobstruer — Épicurisme).
Varese, M. F.: 1968, ‘Konstantin N. Batjuškov e la letteratura italiana’, Rassegna della letteratura italiana, № 72, 358—367.
Varese, M. F.: 1969, ‘Il Tasso nella poesia e nella critica di uno scrittore russo dell’ ottocento: K. N. Batjuškov’, Studi Tassiani, № 19, 17—37.
Varese, M. F.: 1970, Batjuškov: un poeta tra Russia e Italia, Padova.
VUB RS — Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius (Библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей).
Vigenère-Bourbonnais, B. de: 1595, La Hierusalem du Sr. Torquato Tasso, Rendu Françoise par B. D[e] V[igenere] B[ourbonnois], Paris.
Vivaldi, V.: 1893, Sulle fonti della Gerusalemme liberata, Catanzaro, vol. I.
Voltaire: 1785, Œuvres complètes, [Kehl], t. X, XXI, XXXVIII, XL.
Wachtel, M.: 1998, The Development of Russian Verse: Meter and its Meanings, Cambridge.
Weinberg, B.: 1961, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, Chicago — London, vol. II.
- 273 -
Williams, R. D.: 1972, ‘Commentary’, Virgil, The Aeneid, Books 1—6, Basingstoke — London, 154—517.
Williams, R. D.: 1990, ‘The Sixth Book of the Aeneid’, Oxford Readings in Vergil’s Aeneid, Oxford — New York, 191—207.
Zini, M., 1930a: ‘Il Ginguené e la letteratura italiana: [Prima Parte]’, Giornale storico della letteratura italiana, 1930, vol. XCV, fasc. 285, 209—242.
Zini, M.: 1930b, ‘Il Ginguené e la letteratura italiana: (Seconda Parte)’, Giornale storico della letteratura italiana, 1930, vol. XCVI, fasc. 286/287, 1—38.
- 274 -
ПРИЛОЖЕНИЯ
В Приложении I помещены en regard тексты посланий к Тассу, принадлежащие Лагарпу и Батюшкову (сопоставительному анализу этих произведений посвящена первая глава книги).
Приложение II представляет собой таблицу соответствий между отрывком из I песни «Освобожденного Иерусалима» (октавы XXXII—XLI) и тремя переводами этого фрагмента: Попова, Лагарпа и Батюшкова (об их соотношении речь идет в главе второй). В таблице использована следующая система выделений: в итальянском тексте маркированы сегменты, соответствия которым есть у Батюшкова, но отсутствуют в переводах-посредниках; в текстах Попова и Лагарпа маркированы сегменты, заимствованные Батюшковым, но не находящие опоры в оригинале; в переводе Батюшкова маркированы сегменты, которым нет эквивалентов ни в одном из трех источников.
Приложение III заключает в себе выдержки из батюшковского перевода отрывка XVIII песни «Освобожденного Иерусалима» в сопоставлении с итальянским подлинником и параллельными фрагментами прозаических версий Попова и Лебрена (последняя цитируется в поздней редакции, которой пользовался русский поэт). В тексте Батюшкова выделены сегменты, на которых сказалось влияние, по меньшей мере, одного текста-посредника, а также их эквиваленты у Тассо, Попова и Лебрена (см. об этом во второй главе).
В Приложениях IV—VII переводы Батюшкова из Петрарки и Касти, рассмотренные в третьей главе книги, приводятся параллельно с их итальянскими оригиналами. Стихотворение «Вечер» (подражание Петрарковой канцоне «Ne la stagion che ’l ciel rapido inchina...») печатается по тексту Блудовской тетради (1815). Оба батюшковских подражания Касти — «Счастливец» и «Радость» — даны в окончательной редакции, известной по «Опытам в Стихах и Прозе» (1817). Остальные произведения Батюшкова цитируются по тексту первых публикаций.
- 275 -
I. «Épître au Tasse» Лагарпа и послание Батюшкова «К Тассу»
O toi que le destin, complice de l’envie,
Accabla d’un malheur égal à ton génie,
Toi qu’attendit la gloire au moment de la mort,
Victime des tyrans, de l’amour et du sort;
Aimable Torquato! si ton ombre appaisée
A bu l’heureux oubli, trésor de l’Élysée,
De tes longues douleurs le tableau retracé,
Ne t’offrira qu’un songe à jamais effacé.
Mais si près du bocage où toujours indignée,10 Didon en soupirant se détourna d’Énée,
Les Parques t’ont rejoint aux mânes amoureux,
Dont les eaux du Léthé n’ont pas éteint les feux;
Ah! permets que ma voix perçant la sombre rive,
Entretienne un moment ton ombre encor plaintive;
Heureux, si de ta muse empruntant les attraits,
Du récit de tes maux je charme tes regrets!
Позволь, священна тѣнь! безвѣстному пѣвцу
Коснуться къ твоему безсмертному вѣнцу
И сладость пѣнія твоей Авзонской Музы
Достойной береговъ прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лирѣ повторить
И новымъ языкомъ съ тобою говорить.
Среди Элизія, близъ древняго Омира,
Почіетъ тѣнь твоя, и Аполлона лира
Еще согласьемъ духъ поэта веселитъ!10 Рѣка забвенія и пламенный Коцитъ,
Тебя съ любовницей, о Тассъ, не разлучили!
Въ Элизіѣ теперь васъ Музы съединили:
Печалей нѣтъ для васъ, и скорбь протекшихъ дней,
Какъ сладостну мечту объемлете душей...Le ciel te réservait une infortune illustre;
Un an manquait encore à ton deuxième lustre,
Hélas! et tu fuyais un pouvoir oppresseur.20 Tes talens ont brillé dans la nuit du malheur.
La vengeance et la mort sont déja sur tes traces,
Et proscrit à neuf ans, tu chantes tes disgraces.
Ton partage honorable autant que rigoureux,
Fut d’être avant le tems et grand et malheureux.
Торквато! Кто изпилъ всѣ горкія отравы
Печалей и любви, и въ храмъ безсмертной славы,
Ведомый Музами, въ дни юности проникъ,
Тотъ преждевремянно несчастливъ и великъ.Ta voix se fait entendre, et soudain l’Ausonie
S’éveille à tes accords, à ta douce harmonie.
On s’empresse à t’offrir cet accueil caressant,
Qu’on aime à prodiguer au mérite naissant.
Son aurore est brillante, et l’envie en silence30 Attend en se cachant le jour de la vengeance.
Dans Ferrare, ô trop cher et trop fatal séjour!
Tu chantais, inspiré par la gloire et l’amour.
Ce double enthousiasme enflammait ton génie.
De l’Épopée alors la muse enorgueillie,
Du tombeau de Virgile, objet de ses douleurs,
Aux bords où Phaëton fut pleuré par ses sœurs,
Vola pour écouter tes chansons immortelles.
Sur ta tête sacrée elle étendit ses ailes.
Ты пѣлъ — и весь Парнасъ въ возторгѣ пробудился,
20 Въ Феррару съ Музами Фебъ юный низпустился,
Назонову тебѣ онъ лиру самъ вручилъ
И геній крыльями безсмертья осѣнилъ.
- 276 -
Sa main te couronna; tout l’Olympe applaudit;
40 Sur son double sommet le Pinde en retentit.
De ses chantres fameux les mânes se troublèrent;
Pour juger tes accords en foule ils s’assemblèrent.
Le vieillard qui d’Achille a chanté le courroux,
S’il eût été moins grand, allait être jaloux.
Combien il admira ces traits, ces caractères,
Ces ames de héros si tendres et si fières,
Ces tableaux tour-à-tour et touchans et pompeux,
Leur accord, leur contraste également heureux;
Du féroce Aladin la sombre tyrannie,50 Et la rage d’Argant dans le sang assouvie;
Ce superbe Sultan qui seul et détrôné,
Vers le ciel ennemi lève un front indigné;
Et Renaud, si brillant dans sa fougue indocile,
Le foudre de la guerre, et le rival d’Achille!Tu conduis ces guerriers au milieu des hasards;
La lyre est dans tes mains la trompette de Mars.
A ce signal, Bellone aux combats appelée,
Jette un cri formidable, et court dans la mêlée;
Elle court, sous ses pieds foulant les étendards;60 Elle traîne à travers les cadavres épars
Les lambeaux déchirés de sa robe sanglante.
J’entends les sons plaintifs d’une foule expirante.
Je marche dans le sang, j’erre parmi les morts.
Le Dieu qui t’inspira ces belliqueux transports,
Mars ouvre devant moi des scènes de carnage,
Me souffle tous ses feux, m’enivre de sa rage,
Et j’habite avec toi dans l’horreur des combats.
Возпѣлъ ты бурну брань, и блѣдны Эвмениды
Всѣхъ ужасовъ войны открыли мрачны виды,
Бѣгутъ среди полей и топчутъ знамена̀;
Свѣтильникомъ вражды ихъ ярость разжена̀,
Власы разтрепаны и ризы обагренны!...
Я самъ среди смертей....
и Марсъ со мною мѣдный...Mais quoi! ce bruit du fer, ce sinistre fracas,
Fuit loin de mon oreille et meurt par intervalle.70 La guerre est loin de moi: la flûte pastorale,
De l’épaisseur des bois qui répètent ses sons,
Vi<e>nt rassurer mes sens au doux bruit des chansons.
La discorde tonnait; c’est l’amour qui soupire.
Je vois ses tendres jeux et son fatal délire.
Il s’endort sur les fleurs, il sourit, et soudain
Le glaive à son réveil étincelle en sa main.
Près de toi, quel génie avec lui se présente,
Et semble s’applaudir de sa beauté changeante!
Quel docile Protée! il varie à ton choix
Но ужасы войны, мечей и копій звукъ
30 И гласы Марсовы... какъ сонъ изчезли вдругъ!
Я слышу въ далекѣ пастушечьи свирѣли
И чувствія душой ины<я> овладѣли.
Нѣтъ болѣе вражды, и Богъ любви младой
Спокойно спитъ въ цвѣтахъ подъ миртою густой.
Онъ всталъ, и мечь опять въ рукѣ твоей блистаетъ!
Какой Протей тебя, Торквато, премѣняетъ?
- 277 -
80 Ses traits, ses mouvemens, sa parure, sa voix.
Il porte tour-à-tour le sceptre et le tonnerre,Les roses de Vénus, les torches de Mégère,
Ou rayonnant de joie ou de larmes baigné,
Tantôt noirci de deuil, tantôt de fleurs orné,
Quels changemens, quels jeux, quel pouvoir, il rassemble!
Il pleure; je gémis: il menace; je tremble.
Il vole, et je le suis au bout de l’Univers,
Au palais de l’Olympe, aux cachots des enfers.
Tel le chantre d’Hector a peint le Dieu de l’onde,90 Atteignant en deux pas jusqu’aux bornes du monde.
Tel et plus prompt encor, son vol illimité,
Sans m’échapper jamais, parcourt l’immensité.
Ah! je la reconnais, cette puissante Fée;
Sa baguette en tes mains se joint au luth d’Orphée.
La reine des beaux-arts, guide de tes travaux,
L’imagination t’a remis ses pinceaux.
D’Armide dans les pleurs, d’Armide suppliante,
Le portrait épuisa sa palette brillante.
Non, jamais tant d’appas n’ont été mieux tracés.
100 Ses modestes regards vers la terre fixés,
Les larmes dont ses yeux gardent encor les traces,
Ce voile des douleurs soulevé par les Graces,
Le sourire enchanteur sur ses lèvres naissant,
Cet œil qui tour-à-tour ou fier, ou languissant,
En impose au désir et permet l’espérance,
Le charme de sa voix et l’art de son silence!
Grand peintre!... Tels aux yeux de l’Olympe surpris,
Homère et Praxytèle embellissaient Cypris.
Какой чудесной Богъ чрезъ дивныя мечты,
Разсѣялъ мрачныя и нѣжны красоты? —
То скиптръ въ его рукахъ, или перунъ зазженный,40 То розы юныя Кипридѣ посвященны,
Иль факелъ Эвменидъ иль лукъ златой любви;Въ глазахъ его любовь — вражда въ его крови.
Летитъ — и я за нимъ лечу въ предѣлы міра,
То въ адъ, то на Олимпъ! У древняго Омира
Такъ шагъ одинъ творилъ огромный Богъ морей
И досягалъ другимъ краевъ подлунной всей.
Армиды ча̀рами средь моря сотворенной,
Здѣсь тѣнью миртовой въ долинѣ осѣненной,
Риналдъ, младой герой, забывъ воинской гласъ,
50 Вкушаетъ прелести любови и заразъ...
А тамъ что зрятъ мои обвороженны очи?...
Близъ стана воинска, подъ кровомъ черной ночи,
При заревѣ бойницъ, пылающихъ огнемъ,
Два грозныхъ воина, вооружась мечемъ,
Неистовой рукой струятъ потоки крови.—
О, жертва ярости и плачущей любови!...
- 278 -
Постойте воины!... Увы!... одинъ падетъ...
Танкредъ въ врагѣ своемъ Клоринду узнаетъ
И моремъ слезъ теперь онъ платитъ, дерзновенной,
60 За каплю каждую сей крови драгоцѣнной...
Eh bien! quel fut le prix de ces efforts sublimes?...
110 Aurons-nous donc toujours à raconter tes crimes,
Inexorable Envie!... et que sert-il, hélas!
De retracer encor des maux qu’on ne plaint pas?
Чтожъ было для тебя наградою, Торкватъ?
За пѣсни стройныя? —
Зоиловъ острый ядъ,Quand l’a-t-on vu, ce monde indifférent, frivole,
S’intéresser au sort du talent qu’on immole?
Ce talent méconnu dans ses nobles travaux,
Jusque dans ses succès flétri par ses rivaux,
Détourné malgré lui dans une indigne arêne,
Reste en proie à l’outrage, en spectacle à la haine.
Que sert de rappeler les cris de tes censeurs,120 Tes juges ignorans et tes vils détracteurs?
Quelle oreille est ouverte à ces plaintes usées?
Artistes, renfermez vos douleurs méprisées.
Elles sont pour vous seuls; on ne les connaît pas.
Génie, astre du monde, éclaire des ingrats.
Притворная хвала и ласки царедворцевъ,
Отрава для души и самыхъ стихотворцевъ.Mais la nature, hélas! pour des maux plus terribles
Arrache un même cri de tous les cœurs sensibles;
Tous ont pitié des pleurs que l’amour a versés;
Des mêmes traits que toi tous ont été blessés;
Tous ont aimé, sans doute: ah! ton ame enivrée130 De ce fatal poison fut long-tems dévorée.
Du vase envenimé, source de tes malheurs,
Tu savouras d’abord les trompeuses douceurs.
La grandeur, la beauté te cédaient la victoire.
Oui, ce sexe, toujours amoureux de la gloire,
S’il ne peut l’obtenir, veut au moins la payer,
Fier de placer son myrte à côté du laurier.
Le mystère qui rend la passion plus tendre,
Ce serment mutuel qu’on ne peut trop entendre,
Любовь жестокая, източникъ золъ твоихъ,
Явилася тебѣ среди палатъ златыхъ —
И ты изъ рукъ ея взялъ чашу ядовиту,
Цвѣтами юными и розами увиту; —
Изпилъ... и упоенъ любовною мечтой
70 И лиру и себя повергъ предъ красотой.
- 279 -
De porter au tombeau sa chaîne et ses amours;
140 Serment qui toujours trompe et que l’on croit toujours;
Tels étaient tes plaisirs: qu’ils furent peu durables!
On déchira trop tôt les voiles favorables
Qui couvraient de ton sort le secret enchanteur.
Tes pas sont arrêtés aux pièges du malheur.
Quel ascendant sinistre à tes destins s’attache!
Tu pleures dans les fers le bonheur qu’on t’arrache.
Que dis-je? Le chagrin, ce morne destructeur,
Altère, égare enfin cet esprit créateur.
Du sort injurieux la longue tyrannie150 Osa-t-elle à ce point attenter au génie?
Esprit, raison, talens, flambeaux si lumineux,
Amour de l’univers, et chefs-d’œuvre des cieux,
Quelle nuit vient couvrir vos clartés éclipsées?
Où sont ces traits brillans, et ces hautes pensées?
Ce feu, qui si rapide avant d’être amorti,
S’élançait vers le ciel dont il était sorti;
Ce feu s’est-il éteint? et qui pourra décrire
Ce passage effrayant du génie au délire?...
Et vous dont le courroux contre lui s’est armé,
160 Approchez: le voilà, ce chantre renommé,
Qui conta les exploits des vainqueurs de Solyme,
Et qui sut aux héros prêter sa voix sublime.
De funestes vapeurs ses sens sont offusqués.
Par les plus noirs accès ses instans sont marqués.
Si quelquefois encor sa raison peut renaître,
Le plus grand de ses maux est de se reconnaître;
Il gémit de se voir, et sur lui retombé,
Dans un affreux silence il demeure absorbé.
Sous ce tourment nouveau ses organes s’affaissent;
170 Dans son esprit troublé les fantômes renaissent.
O ciel!... la haine encor lançait des traits perdus
Sur ce génie, hélas! qui déja n’était plus;
Et toi dans les lueurs de ta raison éteinte,
Tu repoussais encor leur méprisable atteinte.
Но радость наша, — ложь; но счастіе — крылато!
Завѣса раздрана! —
Ты узникъ сталъ, Торквато!
Въ темницу мрачную ты брошенъ какъ злодѣй,
Лишенъ и вольности и Фебовыхъ лучей. —
Печаль глубокая поэтовъ духъ сразила,
Изчезъ талантъ его и творческая сила,
И разумъ весь погибъ! —
О вы, которыхъ ядъ
Торквату далъ вкусить мученій лютыхъ адъ,
Придите зрѣлищемъ достойнымъ веселиться
80 И гибелью его таланта насладиться.
Придите! Вотъ поэтъ, превыше смертныхъ хвалъ,
Который говорить героевъ заставлялъ,
Проникнулъ взорами въ небесные чертоги —
Въ желѣзахъ, стонетъ здѣсь...
О милосерды Боги!
До колѣ жертвою, невинность, будешь ты
Безчестной зависти и адской клеветы?
- 280 -
Cet état que ma main retrace avec effort,
L’affront de la nature et le crime du sort,
Ce long cours d’infortune a-t-il enfin son terme?
Avant que de tes jours la carrière se ferme,
Un moment doit venir qui va les illustrer.
180 La fortune déja te laisse respirer.
On brise tes liens; ton ame consolée
Semble après un long trouble à la paix rappelée.
Cette ame se ranime en un corps affaibli;
Tes écrits, tes talens, qu’on laissait dans l’oubli,
Sont enfin regardés d’un coup-d’œil plus propice,
Et tu verras du moins le jour de la justice.
Rome t’appelle, Rome!... On la vit autrefois
Sous l’orgueil des faisceaux fouler l’orgueil des rois;
Le char de ses consuls et leur pompe guerrière190 Du haut du Capitole insultait à la terre.
Ce même Capitole où montaient ses héros
T’offre un plus doux triomphe et des lauriers plus beaux.
Il verra sur ta tête avant le tems blanchie,
La couronne des arts, la palme du génie.
Des mains d’un souverain les festons et les fleurs
Descendront sur ton front vieilli par les douleurs.
Ils auraient dû toujours embellir ta carrière.
Viens, triomphe... que dis-je! ô pompe mensongère!
O destin qui t’entraîne à ton dernier écueil!200 Il montrait la couronne, il ouvre le cercueil.
Un si beau jour se change en d’affreuses tenèbres,
L’étendard de la gloire en des linceuls funèbres.
Имѣло ли конецъ несчастіе поэта? —
Желѣзною рукой печаль и быстры лѣта
Уже безвременно бѣлятъ его власы;90 Въ единобразіи бѣгутъ, бѣгутъ часы;
Что день, то прежня скорбь, что ночь, — мечты ужасны...
Смягчился на конецъ завѣтъ судбы злосчастной,
Свободенъ сталъ поэтъ...
и солнца лучь златой
Льетъ въ хладну кровь его отраду и покой.
Онъ можетъ опочить на лонѣ свѣтлой славы...
Средь Капитолія, гдѣ стѣны обветшалы
И самый прахъ еще о Римлянахъ твердитъ,
Тамъ ждетъ его тріумфъ...
Увы!... тамъ смерть стоитъ...
Неумолимая беретъ вѣнокъ лавровый,100 Поэта увѣнчать изъ давныхъ лѣтъ готовый.
Премѣна жалкая столь радостнаго дни!
Гдѣ знамя почестей — тамъ смертны пелены,
Не увѣнчаніе, но лики погребальны...Tu meurs! et l’univers que tu viens de quitter,
Au char qui t’attendait ne t’a point vu monter.
Les peuples que dans Rome assembla cette fête,
N’ont point vu les lauriers ceindre et parer ta tête.
Tu meurs! et des destins il faut subir la loi...
Такъ кончились твои, безсмертный, дни печальны!
Нѣтъ болѣе тебя, божественный поэтъ!
- 281 -
Une autre apothéose est digne encor de toi.
O grande ombre! descends, parais dans ce Lycée;
210 Viens, la gloire l’habite et s’y voit encensée.
Ici des morts fameux l’auguste majesté
A reçu les tributs de la postérité.
Ici, plus d’une fois, la voix de l’éloquence
Aux mânes du grand homme offrit leur récompense.
C’est ici qu’elle est pure, et qu’après deux mille ans,
L’ombre de Marc-Aurèle obtint un digne encens.
Viens t’asseoir en ces lieux: de cet Aréopage
Le chantre de Henri t’apportera l’hommage.
Les favoris< >du goût, oracles de sa loi,220 Par l’heureux don de plaire immortels comme toi,
Te couvriront des fleurs qu’on offre à leur image,
Et Boileau même enfin te rendra son suffrage.
Но славы Тассовой изполненъ въ вѣки свѣтъ.
Едва ли прахъ одинъ остался древней Трои,
Не знаемъ и могилъ, гдѣ спятъ ея герои,
Скамандръ божественный вертепами течетъ —
110 Но въ памяти людей Омиръ еще живетъ,
Но человѣчество пѣвцемъ еще гордится,
Но міръ ему есть храмъ... И твой не сокрушится.
- 282 -
II. «Gerusalemme liberata» I, xxxii—xli в переводах Попова, Лагарпа и Батюшкова
Тассо
Перевод Попова
Qui tacque il veglio. Or quai pensier, quai petti
Son chiusi a te, Sant’Aura, e divo Ardore?
Inspiri tu de l’Eremita i detti,
E tu gl’imprimi a i cavalier nel core;
Sgombri gl’inserti, anzi gl’innati affetti
Di sovrastar, di libertà, d’onore:Sí che Guglielmo e Guelfo, i piú sublimi,
Chiamâr Goffredo per lor duce i primi.
Тако вѣщалъ святый старецъ. Божественное вдохновенїе! чїи сердца тебѣ не отверзутся? Ты словеса сїи вложило во уста сего пустынножителя: ты заставило вкусити ихъ сладость всѣхъ полководцевъ: ты угасило въ нихъ врожденную человѣкамъ любовь къ неподвластности: ты укротило сїю склонность, чувствуемую ими къ повелѣванїю другими. Вильгельмъ и Гельфъ, знаменитѣйшїе въ собранїи всѣхъ прочихъ, были первые провозгласившїе Годофреда своимъ Вожденачальникомъ.
L’approvâr gli altri: esser sue parti denno
Deliberare e comandare altrui.
Imponga a i vinti leggi egli a suo senno:
Porti la guerra, e quando vuole, e a cui:
Gli altri, già pari, ubbidïenti al cenno
Siano or ministri de gl’imperii sui.
Всѣ прочїе восплескали единодушно сему избранїю. Ему единому, вѣщали, подобаетъ впредь разполагать и повелѣвати. Да несетъ онъ войну, куда ему угодно, и когда самъ за благо разсудитъ. Да налагаетъ онъ на плѣнныхъ такїе законы, какїе самъ восхощетъ. Донынѣ были мы ему равны: но отднесь будемъ служебниками его велѣнїй.
Concluso ciò, fama ne vola; e grande
Per le lingue de gli uomini si spande.
Ei si mostra a i soldati: e ben lor pare
Degno de l’alto grado ove l’han posto:
E riceve i saluti e ’l militare
Applauso, in volto placido e composto.
Poi ch’a le dimostranze umili e care
D’amor, d’ubbidïenza ebbe risposto,
Impon che ’l dí seguente in un gran campo
Tutto si mostri a lui schierato il campo.Все воинство вскорѣ было извѣщенно объ учиненномъ начальниками избранїи.
Годофредъ явилъ себя воинамъ, и явился имъ достоинъ верховнаго сана, которымъ былъ онъ возвеличенъ. Новый Военачальникъ воспрїялъ ихъ поздравленїя и плесканїя видомъ кроткимъ и благороднымъ; и возблагодаря имъ самъ за оказанные знаки къ нему ихъ ревности, повелѣлъ быти на утрїе главному осмотрѣнїю всего воинства.
Facea ne l’orïente il sol ritorno,
Sereno e luminoso oltre l’usato,
Quando co’ raggi uscí del novo giorno
Sotto l’insegne ogni guerriero armatoСолнце восходило освѣщати Вселенную, день начиналъ являтися краснѣйшимъ и прїятнѣйшимъ обыкновеннаго, какъ узрѣли всѣхъ воиновъ въ прелестнѣйшемъ убранствѣ, шествующихъ во всемъ ихъ вооруженїи, и строю-
- 283 -
Перевод Лагарпа
Перевод Батюшкова
Pierre n’en dit pas plus: ô puissance invisible!
O du cœur des humains moteur irrésistible,
Esprit dont le vieillard vient de dicter les lois,
Tu rendis tous les cœurs dociles à sa voix,
Étouffas de l’orgueil la jalouse semence,
Et des pouvoirs rivaux la sombre concurrence!
Guelfe, Raymond, Guillaume et Dudon, les premiers,
Proclament Godefroi: les plus grands chevaliers,
Et Tancrède et Renaud y joignent leur suffrage.
Скончалъ пустынникъ рѣчь! — Небесно вдохновенье!
Не скрыто отъ тебя сердечное движенье.
Ты въ старцовы уста глаголъ вложило сей
И сладость онаго влило въ сердца Князей.
Ты укротило въ нихъ бунтующія страсти,
Духъ буйной вольности, любовь врожденну къ власти. —
Вилгелмъ и мудрый Гелфъ, первѣйши изъ вождей,
Готфреда нарекли вождемъ самихъ царей,Tous à leurs général déja rendent hommage.
Tous se sont écriés: «Qu’il règle tous nos pas,
Le travail, le repos, les marches, les combats.
Que lui seul à son choix agisse et délibère,
Qu’il décide en quels lieux on doit porter la guerre.
Tous à ses volontés sont prêts à concourir:
Nous jurâmes de vaincre, et jourons d’obéir.»
И плески шумные избранье увѣнчали!
Ему единому, всѣ ратники вѣщали,
Ему единому вести ко славѣ насъ,
Законы пусть даетъ его единый гласъ!
До селѣ равные, — его послушны волѣ,
Подъ знаменемъ святымъ пойдемъ на бранно пол<е>,
Паганство буйное святынѣ покоримъ,
Награда небо намъ: умремъ иль побѣдимъ!De ce choix éclatant la nouvelle est semée.
Bouillon sort du conseil, et se montre à l’armée.
Il paraît digne à tous de ce rang glorieux.
Au milieu des soldats, calme et majestueux,
Il reçoit sans fierté les honneurs militaires,
Accueille d’un souris ces tributs volontaires,
Payés par le respect bien moins que par l’amour.
Il donne l’ordre aux chefs; il veut qu’avec le jour,
Son armée, à leur voix, dans les champs étendue,
Se range à ses drapeaux, et défile à sa vue.
Узрѣли воины начальника избранна
И властію почли достойно увѣнчанна.
Онъ плески радостны отъ войска возпріялъ;
Но видъ величія спокойнаго являлъ;
Клялися всѣ его повиноваться волѣ.
На утро онъ велѣлъ полкамъ сбираться въ полѣ,
Чтобъ рать подъ знамена священны притекла!
И слава царское велѣнье разнесла.Jamais l’astre du jour s’élevant dans les cieux,
Ne fit voir à la terre un front plus radieux.
Déja vingt nations, à ce signal dociles,
En bataillons serrés, en escadrons agiles,
Торжественнѣй въ сей день явилось надъ морями
Свѣтило дня, лучи ліющее рѣками!
Христово воинство въ порядкѣ потекло
И долъ обширнѣйшій строями облегло.
- 284 -
E si mostrò quanto poté piú adorno
Al pio Buglion, girando in largo prato.
S’era egli fermo, e si vedea davanti
Passar distinti i cavalieri e i fanti.щихся подъ знаменами своими. Они разпро-странилися по обширной долинѣ. Прибывшу туда Годофреду, все воинство предъ нимъ учинило свое шествїе; во первыхъ конница, и за оною пѣхота.
Mente, de gli anni e de l’oblio nemica,
De le cose custode e dispensiera,
Vagliami tua ragion, sí ch’io ridica
Di quel campo ogni duce ed ogni schiera:
Suoni e risplenda la lor fama antica,
Fatta da gli anni omai tacita e nera;
Tolto da’ tuoi tesori, orni mia lingua
Ciò ch’ascolti ogni età, nulla l’estingua.Память, побѣдительница годовъ и забвенїя: ты, хранилище всего случившагося въ мїрѣ, украси мой слогъ богатствами неизмѣримыхъ твоихъ сокровищъ: прескажи мнѣ имена каждаго ополченїя и его вождя: устрой меня воздати ихъ достоинствамъ блистанїе, помраченное столѣтїями, да пребудетъ оно напредь безопасно отъ нападенїя временъ.
Prima i Franchi mostrârsi:
il duce loro
Ugone esser solea, del re fratello.
Ne l’Isola de Francia eletti fôro,
Fra quattro fiumi, ampio päese e bello.
Poscia che Ugon morí, de’ gigli d’oro
Seguí l’usata insegna il fier drappello
Sotto Clotàreo, capitano egregio,
A cui, se nulla manca, è il nome regio.Первые явившїеся были Французы, въ числѣ тысящи мужей, вооруженные отъ главы до ногъ. Сїи прибыли отъ острова Францїи, прїятныя и пространныя страны, лежащїя по средѣ четырехъ рѣкъ. Гугъ, братъ ихъ Царя, начальствовалъ прежде надъ ними: но по смерти сего Князя поставили они надъ собою главнымъ Клотарїя, полководца рѣдкаго достоинства, и коему недоставало лишъ Царскаго рожденїя; подъ предводительствомъ сего то храбраго мужа шествовала тогда благородная Хоругвь Трехъ Лилїй.
Mille son di gravissima armatura;
Sono altrettanti i cavalier seguenti,
Di disciplina a i primi e di natura
E d’armi e di sembianza indifferenti;
Normandi tutti: e gli ha Roberto in cura,
Che principe nativo è de le genti.Непосредственно за сими слѣдовали Нормандцы; они были въ равномъ числѣ Французамъ, снарядами и одѣянїемъ съ ними единообразны; не находилося между ими ни коея разности, ни во образѣ ихъ, ниже въ вооруженїи; Робертъ, великїй Князь Нормандскїй, ими повелѣвалъ.
Poi duo pastor di popoli spiegaro
Le squadre lor, Guglielmo ed Ademaro.Вильгельмъ и Адемаръ, священные пастыри народовъ, шествовали по немъ предъ войсками своими.
- 285 -
Développent leur rang aux yeux de Godefroi.
O combien d’étendards arborés sous sa loi!
Развились знамена и копья заблистали;
Скользящіе лучи сталь гладку зажигали.
Но войско двигнулось — передъ вождемъ течетъ
Тяжела конница и ей пѣхота въ слѣдъ.Toi qui perces des tems la nuit injurieuse,
O toi du noir oubli toujours victorieuse!
Mémoire, ouvre pour moi tes antiques dépôts;
Redis-moi tous les noms des chefs et des héros,
Tous ces peuples divers ne formant qu’une armée.
Parle, et que désormais leur longue renommée,
Par l’outrage des ans ne pouvant se ternir,
Arrive entière et pure aux siècles à venir.О память свѣтлая! Тобою озаренны
Протекши времяна и подвиги забвенны;
О память! Мнѣ свои хранилища открой!
Чьи ратники сіи? Кто славной ихъ герой?
Повѣждь — да слава ихъ утраченна вѣками,
Твоими возблеститъ небренными лучами!
Увѣковѣчи пѣснь нетл<ѣ>ніемъ своимъ
И время сокрушитъ желѣзо передъ нимъ.Les Français les premiers, sous le brave Clotaire,
Portaient du lys royal l’enseigne héréditaire.
Venus des champs heureux qu’embrassent de leurs eaux
Quatre fleuves unis par de nombreux canaux,
Hugues que moissonna cette guerre homicide,
Le frère de leur roi, fut autrefois leur guide.
Clotaire le remplace, et né du même sang,
Porte le nom des rois s’il n’en a pas le rang.Явились первые неустрашимы Галлы,
Ихъ грудь облечена въ сліянные металлы,
Оружіе зв<е>нитъ тяжелое въ рукахъ.
Гугъ, царскій братъ, сперва былъ вождемъ въ сихъ полкахъ,
Онъ умеръ, и хоругвь трехъ лилій благородныхъ
Не въ длани перешла ея царей природныхъ,
Но къ мужу славному по доблести своей:
Клотарій избранъ былъ въ преемники царей.
Счастливой Иль де Франсъ, обильной, многоводной,
Вождя и ратниковъ страною былъ природной.Mille guerriers chargés d’une armure pesante,
Accompagnent des lys la bannière imposante;Нормандцы грозные текутъ симъ войскамъ въ слѣдъ,
Робертъ, ихъ кровный царь, ко брани днесь ведетъ.Et semblable de traits, et d’armes et d’habits,
Suivent en nombre égal les escadrons hardis,
Que Robert amena des rives de Neustrie.
На Галловъ сходствуетъ оружье ихъ и нравы,
Какъ Галлы не щадятъ себя для царской славы.
Adhémar et Guillaume, honneur de leur patrie,
Вилгелмъ и Адемаръ ихъ войски въ брань ведутъ,
Народовъ пастыри за вѣру кровь ліютъ.
- 286 -
L’uno e l’altro di lor, che ne’ divini
Ufficii già trattò pio ministero,
Sotto l’elmo premendo i lunghi crini,
Esercita de l’arme or l’uso fèro.
Da la città d’Orange e da i confini
Quattrocento guerrier scelse il primiero;
Ma guida quei di Poggio in guerra l’altro,
Numero egual, né men ne l’arme scaltro.Оба они посвятили было жизнь свою олтареслуженїю, но святое рвенїе возбудило ихъ препоясати мечъ, и воспрїяти шлемъ и щитъ. Сей привелъ отъ града Пуїя, коего былъ онъ Епископъ, четыре ста всадниковъ избранныхъ; вторый, Епископъ Орангскїй, предводилъ толикоежъ число жителей своего града, и онаго окрестностей.
Baldovin poscia in mostra addur si vede
Co’ Bolognesi suoi quei del germano,
Ché le sue genti il pio fratel gli cede
Or ch’ei de’ capitani è capitano.
Il conte di Carnuti indi succede,
Potente di consiglio e pro’ di mano:
Van con lui quattrocento; e triplicati
Conduce Baldovin in sella armati.Булонцы, въ числѣ тысящи двухъ сотъ мужей, шествовали по нихъ. Годофредъ повелѣвавш<ї>й ими, ставъ избранъ главнѣйшимъ предводителемъ, уступилъ надъ ними начальство брату своему Бальдуину. Графъ Шартровъ, мужъ равно смысленный въ совѣтѣ и во исполненїи, имъ послѣдовалъ, предводительствуя четырью стами всадниковъ.
Occupa Guelfo il campo a lor vicino,
Uom ch’a l’alta fortuna agguaglia il merto:
Conta costui per genitor latino
De gli avi Estensi un lungo ordine e certo;
Ma, german di cognome e di domino
Ne la gran casa de’ Guelfoni è inserto:
Regge Carintia, e presso l’Istro e ’l Reno
Ciò che i prischi Süevi e i Reti avièno.
По семъ узрѣли предшествующа Гельфа, Государя уподобляющагося достоинствомъ высокому роду и великому своему счастїю. Начало его произтекало отъ того же кореня, отъ коего низшелъ знаменитый домъ Естскїй. Имя носимое имъ тогда было Германское, воспрїятое имъ по вступленїи его въ родъ Гельфовъ, по коихъ наслѣдовалъ онъ богатыя отчины въ Германїи. Онъ былъ Самодержецъ Каринтїи, и странъ лежащихъ вдоль Дуная и Рена, обитаемыхъ доселѣ Ретїанами и Свевами.
- 287 -
Tous deux du Dieu vivant pontifes et soldats,
Attachés aux autels, exercés aux combats,
Annoncent sa parole et vengent son injure.
Un casque a recouvert leur longue chevelure.
Tous deux devant Bouillon précèdent aujourd’hui,L’un les guerriers d’Orange, et l’autre ceux du Puy.
Кадильницу они съ булатомъ сочетали
И длинныя власы шеломами вѣнчали.
Святое рвеніе! — Ихъ мѣткая рука
Умѣетъ поражать враговъ изъ далека.
Четыреста мужамъ, въ Орангіи рожденнымъ,
Вилгелмъ предшествуетъ со знаменемъ священнымъ;
Но равное число идетъ изъ Пуйскихъ стѣнъ
И Адемаръ вождемъ той рати нареченъ.Baudouin vient ensuite, et conduit dans la guerre
Les Boulonais, accrus des troupes de son frère;
Et le comte de Chartre avance sur ses pas:
On prise ses conseils, on redoute son bras.
Се идетъ Бодоинъ съ Бол<о>нцами своими!
Покрыты чела ихъ шеломами златыми.
Готфреда воины за ними въ слѣдъ идутъ,
Вождемъ своимъ теперь царева брата чтутъ.
Корнутскій графъ по томъ, вождь мудрости избранной,
Четыреста мужей ведетъ на подвигъ бранной;
Но трижды всадниковъ толикое число
Подъ Бодоиновы знамена притекло.Guelfe paraît: son cœur digne de sa naissance,
Rehausse encore en lui l’éclat de la puissance.
Гелфъ славный возлѣ нихъ покрылъ полками поле,
Гелфъ славенъ счастіемъ, но мудростію болѣ.Des héros du sang d’Este illustre rejeton,
Des Guelfes non moins grands l’hereuse adoption
A joint à ses états tout ce vaste héritage
Du belliqueux Suève autrefois le partage,
Qui s’étend sur les bords du Danube et du Rhin,
De Guelfe et de son nom domaine souverain.
Изъ дома Эстскаго сей витязь родился,
Возпринятъ Гелфомъ былъ и Гелфомъ назвался;
К<а>ринтїей теперь богатой обладаетъ
И власть на ближнія долины простираетъ,
По коимъ катитъ Рейнъ свой сребреной кристалъ,
Свевъ дикій искони тамъ въ дѣтствѣ обиталъ.
- 288 -
III. «Gerusalemme liberata» XVIII, xii—xxxviii в переводах Попова, Лебрена и Батюшкова (извлечения)
Тассо
Переводы Попова и Лебрена
Перевод Батюшкова
Fra sé stesso pensava: oh quante belle
Luci il tempo celeste in sé raguna!
Ha il suo gran carro il dí; le aurate stelle
Spiega la notte e l’argentata luna;
Ma non è chi vagheggi o questa o quelleКолико красотъ изъявляетъ небо! рекъ онъ, безконечное число звѣздъ, проливающихъ тихїй свѣтъ, украшаютъ его во время нощи; а во время дня, несравненное имъ свѣтило сотворяетъ убранство его и блистанїе.
И въ мысляхъ говоритъ: Колико ты простеръ
Царь вѣчный и благій сіянія надъ нами! —
Въ день солнце, образъ твой, течетъ подъ небесами
Въ ночь тихую луна и сонмъ безчетныхъ звѣздъE miriam noi torbida luce e bruna
Ch’un girar d’occhi, un balenar di riso
Scopre in breve confin di fragil viso.
Cosí pensando, a le piú eccelse cime
Que de clartés, disoit-il, répandues dans les cieux! Le soleil roule sur son char majestueux; des astres d’or étincellent sur le front de la nuit, et tant de merveilles ne peuvent attacher nos cœurs et nos pensées? Et nous sommes éblouis de cette lumière sombre et pâle, que le jeu d’un regard, que l’éclair d’un sourire, fait luir sur le front d’une mortelle.
Ліютъ утѣшный лучь съ лазури горнихъ мѣстъ.
Но мы несчастные страстями упоенны,
Мы слѣпы для чудесъ: красавицъ взоръ влюбленный,
Улыбка страстная и вредныя мечты
Пріятнѣе для насъ нетлѣнной красоты.
На твердыя скалы въ сихъ мысляхъ востекаетъ,
Ascese; e quivi, inchino e riverente,
Alzò il pensier sovra ogni ciel sublime,
E le luci fissò ne l’orïente:
Онъ обратился ко странѣ Востока; и возвышая сердце свое къ Богу: Господи, рекъ онъ, соблаговоли воскинуть на меня взоръ милосердїя, воззри на заблужденїя мои отеческими очами.
И тамъ чело свое къ лицу земли склоняетъ,
Но духомъ къ Вѣчному на небеса паритъ.
Къ Возтоку обратясь въ возторгѣ говоритъ:
«La prima vita e le mie colpe prime
Mira con occhi di pietà clemente,
Padre e Signor: e in me tua grazia piovi <...>
<...> et les yeux tournés vers l’Orient, il élève ses pensées jusqu’au trône de l’Éternel: «O mon Père! ô mon souverain Maître! s’écrie-t-il, jette un regard de pitié sur ma vie première et mes premières erreurs. Épanche sur moi la rosée de ta grâce <...><»>
Отецъ и царь благій, прости мнѣ ослѣпленье,
Кипящей юности невольно заблужденье,
Прости и на меня излей своей рукой
Източникъ разума и благости святой<.>
- 289 -
Cosí pregava: e gli sorgeva a fronte,
Fatta già d’auro, la vermiglia aurora.Едва окончилъ онъ сїю молитву, какъ послышалъ чувства свои возрадованны прохладнымъ вѣтеркомъ, подъятымъ родящеюся зарею.
Скончалъ молитву онъ: ужъ первый лучь Авроры
Блистаетъ сквозь туманъ <...>
La rugiada del ciel su le sue spoglie
Cade, che parean cenere al colore;
E sí le asperge, che il pallor ne toglie
E induce in esso un lucido candore;Изобильная роса низпадая по семъ на его плащъ, претворила пепельный ея <sic!> цвѣтъ во блестящую бѣлизну.
<...> Низпадшею росой оружіе блистаетъ;
Щитъ крѣпкій, копіе, желѣзная броня,
Какъ золото горятъ отъ солнечна огня.Tal rabbellisce le smarrite foglie
A i mattutini geli arido fiore;Таковъ есть нѣжный цвѣтокъ, которому слезы зари придаютъ новое сїянїе.
Такъ роза блеклая въ часъ утра оживая
Красуется, слезой Аврориной блистая;E tal di vaga gioventú ritorna
Lieto il serpente, e di nov’ òr s’adorna.Telle la fleur aride s’embellit des pleurs de l’aurore. Tel, au printemps, le serpent rajeuni étale l’or d’une peau nouvelle.
Такъ чешуей гордясь весною лютый змѣй
Вьетъ кольца по песку излучистой струей.
Passa il dorato varco, e quel giú cade
Tosto che ’l piè toccata ha l’altra riva;
E se ne ’l porta in giú l’acqua repente.<...> онъ преходитъ по сему мосту; но едва коснулся онъ другаго брега, какъ мостъ обрушился съ великимъ шумомъ<.>
<...> Риналдъ течетъ по немъ, конца ужъ достигаетъ,
Но сводъ обрушившись мостъ съ трескомъ низвергаетъ,
Кипящіе валы несутъ его съ собой.
Dove in passando le vestigia ei posa,
Par ch’ivi scaturisca, o che germoglie:Des sources jaillissent, des fleurs naissent sous ses pas:
<...> Гдѣ всюду подъ его раждалися стопами
(О призракъ волшебства и дивныя мечты!)
Ручьи прохладные и нѣжные цвѣты.Là s’apre il giglio, e qui spunta la rosa;
Qui sorge un fonte, ivi un ruscel si scioglie:ici le lis
ouvre son sein, plus loin la rose s’épanouit: une fontaine les abreuve de son onde, un ruisseau les réfléchit dans son mobile cristal.
Влюбленный здѣсь нарциссъ въ прозрачной токъ глядится,
Тамъ роза, цвѣтъ любви, на терніяхъ гордится.
- 290 -
E sovra e intorno a lui la selva annosa
Tutte parea ringiovenir le foglie;
S’ammolliscon le scorze, e si rinverdePartout, l’antique forêt rajeunit son feuillage, l’écorce s’amollit, tous les arbres se couronnent d’une nouvelle verdure.
Повсюду древній лѣсъ красуется, цвѣтетъ,
Видъ юности кора столѣтнихъ липъ беретъ
И зелень новая раст<е>нія вѣнчаетъ.Piú lietamente in ogni pianta il verde.
Rugiadosa di manna era ogni fronda,
E distillava da le scorze il mèle.Sur les feuilles, une manne céleste brille comme la rosée: le miel le plus pur distille des rameaux.
<...> изъ нѣжныя ихъ коры искапалъ сладостнѣйшїй медъ.
Роса небесная на вѣтвіяхъ блистаетъ,
Изъ толстыя коры струится свѣтлый медъ.
Tale era il canto; e poi dal mirto uscía
Un dolcissimo tuono; e quel s’apría.Des sons plus touchans encore sortent du myrthe, qui s’entr’ouvre à son tour.
Еще нѣжнѣйшій гласъ изъ мирта издается
И въ душу ратника какъ Нектаръ сладкій льется.Già ne l’aprir d’un rustico Sileno
Meraviglie vedea l’antica etade;
Ma quel gran mirto da l’aperto seno
Imagini mostrò piú belle e rade:
Donna mostrò, ch’assimigliava a pienoJamais de ses bois fabuleux l’antiquité ne vit sortir une si rare merveille: c’est une nymphe, c’est une déesse. Renaud la voit, Renaud reconnoît les traits d’Armide et son visage enchanteur.
Въ древнѣйши — баснями обильные вѣка,
Когда и низкій кустъ, и малая рѣка
Дріаду юную, иль Нимфу заключали<,>
Столь дивныхъ прелестей внезапу не рождали<.>
Но миртъ разкрылъ себя — — —Nel falso aspetto angelica beltade.
Rinaldo guata, e di veder gli è avviso
Le sembianze d’Armida e ’l dolce viso.Ренальдъ взиралъ внимательно на сїю жену, онъ мнилъ познати въ ней черты прекрасныя Армиды. Былъ то дѣйствительно ея образъ<.>
о призракъ! о мечты!
Риналдъ Армиды зритъ
станъ, образъ и черты.
Giungi amante, o nemico? il ricco ponte
Io già non preparava ad uom nemico;
Né gli apriva i ruscelli, i fior, la fonte.
Sgombrando i dumi e ciò ch’ a’ passi è intrico.Est-ce un amant, est-ce un ennemi que je retrouve? Ce n’étoit pas pour un ennemi que j’avois élevé ce pont qui t’a reçu, que j’avois fait éclore ces fleurs, jaillir ces fontaines, et disparoître les obstacles qui auroient arrêté tes pas.
<...> И ты мнѣ будешь врагъ!..... ужели для вражды
Воздвигла дивный мостъ, посѣяла цвѣты,
Ручьями скрасила вертепъ и лѣсъ дремучій
И на пути твоемъ сокрыла тернъ колючій?..
- 291 -
Seguía parlando, e in bei pietosi giri
Volgeva i lumi, e scoloría i sembianti,
Falseggiando i dolcissimi sospiri
E i söavi singulti e i vaghi pianti;
Tal che incauta pietade a quei martíriEn parlant, elle porte sur lui des regards attendris; ses joues se décolorent: des sanglots, des soupirs, s’échappent de son sein, et ses yeux sont inondés de larmes. La douleur qu’elle fait éclater pourroit, dans un cœur de diamant, exciter une imprudente pitié: mais Renaud, toujours en garde contre sa sensibilité, tire son épée.
Сказала — слезъ ручей блеститъ въ ея очахъ
И розы нѣжныя блѣднѣютъ на щекахъ,
Томится грудь ея, и тягостно вздыхаетъ.
Печаль красавицѣ пріятства умножаетъ;
Изъ сердца каменна потекъ бы слезъ ручей,Intenerir potea gli aspri diamanti.
Ma il cavaliero, accorto sí, non crudo,Piú non v’attende e stringe il ferro ignudo.
Сїи слова <...> возмогли бы содѣлать чувствительнымъ и камень; но Ренальдъ <...> не столь по нечувствительности, сколь по благоразумїю, не далъ себя умягчить <...> извлекъ онъ свой мечъ, и уготовился поразить онымъ Мирту.
Чувствителенъ — но твердъ Герой въ душѣ своей.
Мечь острый обнажилъ, чтобъ миртъ сразить ударомъ;
Vassene al mirto; allor colei s’abbraccia
Al caro tronco, e s’interpone e grida:
«Ah non sarà mai ver che tu mi faccia
Oltraggio tal, che l’arbor mio recida!
Deponi il ferro, o dispietato <...><»>Il marche droit au myrthe; le fantôme s’y attache, embrasse ce tronc chéri, et lui crie: «Non, barbare, non, tu ne me feras point l’injure<».>
Тутъ древо защитивъ, рекла Армида съ жаромъ:
«Убѣжище мое, о варваръ, ты разишь!<»>
Tornò sereno il cielo, e l’aura cheta.
L’air se calme, les cieux se revetent d’azur.
Вѣтръ бурный усмирилъ и бурю въ облакахъ,
И прежняя лазурь явилась въ небесахъ.
- 292 -
IV. Стихотворение Батюшкова «На смерть Лауры»
и сонет Петрарки «Rotta è l’alta colonna e ’l verde lauro»
Rotta è l’alta colonna e ’l verde lauro
Che facean ombra al mio stanco pensero;
Perduto ho quel che ritrovar non spero
Dal Borrea a l’Austro, o dal mar Indo al Mauro.Колонна гордая! о лавръ вѣчно-зеленый!
Ты палъ! — и я на вѣкъ лишенъ твоихъ прохладъ!
Ни тамъ, гдѣ Индъ живетъ лучами опаленный,
Ни въ хладномъ Сѣверѣ для сердца нѣтъ отрадъ!..Tolto m’hai, Morte, il mio doppio thesauro,
Che mi fea viver lieto et gire altero,Все смерть похитила, все алчная пожрала,
Сокровище души, покой и радость съ нимъ!
А ты, земля, во вѣкъ корысть не возвращала,
И мертвый нѣмъ лежитъ подъ камнемъ гробовымъ!Né gemma orïental, né forza d’auro.
Et ristorar nol pò terra né impero,Все тщетно предъ тобой, и власть, и волхованья;
Таковъ Судьбы завѣтъ!...Ma se consentimento è di destino,
Che posso io piú, se no aver l’alma trista,
Humidi gli occhi sempre, e ’l viso chino?Почтожь мнѣ долѣ жить?..
Увы! чтобъ повторять въ часъ полночи рыданья
И слезы вѣчныя на хладный камень лить!O nostra vita ch’è sí bella in vista,
Com perde agevolmente in un matino
Quel che ’n molti anni a gran pena s’acquista!Какъ сладко, жизнь, твое для смертныхъ обольщенье!
Я въ будущемъ мое блаженство основалъ;
Тамъ пристань видѣлъ я, покой и утѣшенье,
И — все съ Лаурою въ минуту потерялъ!
- 293 -
V. Стихотворение Батюшкова «Вечер»
и канцона Петрарки «Ne la stagion che ’l ciel rapido inchina...»
Ne la stagion che ’l ciel rapido inchina
Verso occidente, et che ’l dí nostro vola
A gente che di lа forse l’aspetta,
Veggendosi in lontan paese sola,
La stancha vecchiarella pellegrina
Raddoppia i passi, et piú et piú s’affretta;
Et poi cosí soletta
Al fin di sua giornata
Talora è consolata
D’alcun breve riposo, ov’ ella oblia
La noia e ’l mal de la passata via.
Ma, lasso, ogni dolor che ’l dí m’adduce
Cresce qualor s’invia
Per partirsi da noi l’eterna luce.Въ тотъ мигъ какъ солнца лучь потухнетъ за горою,
Склонясь на посохъ свой дрожащею рукою,
Пастушка дряхлая отъ бремени годовъ,
Спѣшитъ, спѣшитъ съ полей подъ отдаленный кровъ,
И тамъ пришедъ къ огню, среди лачуги дымной,
Вкушаетъ трапезу съ семьей гостепріимной,
Вкушаетъ сладкой сонъ въ замѣну горькихъ слезъ,
А я, какъ солнца лучь потухнетъ средь небесъ,
Одинъ въ изгнаніи, одинъ съ моей тоскою,
Бесѣдую въ ночи съ задумчивой луною.Come ’l sol volge le ’nfiammate rote
Per dar luogo a la notte, onde discende
Dagli altissimi monti maggior l’ombra,
L’avaro zappador l’arme riprende,
Et con parole et con alpestri note
Ogni gravezza del suo petto sgombra;
Et poi la mensa ingombra
Di povere vivande,
Simili a quelle ghiande,
Le qua’ fuggendo tutto ’l mondo honora.
Ma chi vuol si rallegri ad ora ad ora,
Ch’i’ pur non ebbi anchor, non dirò lieta,
Ma riposata un’hora,
Né per volger di ciel né di pianeta.Когда свѣтило дня потонетъ средь морей,
И ночь угрюмая, владычица тѣней,
Сойдетъ съ высокихъ горъ, съ отрадной тишиною,
Оратай острый плугъ увозитъ за собою,
И медленной стопой идя подъ отчій кровъ
Поетъ простую пѣснь, въ забвенье всѣхъ трудовъ,
Супруга, рой дѣтей оратая встрѣчаютъ,
И брашны сельскі<я> поспѣшно предлагаютъ.
Онъ щастливъ:
я одинъ съ безмолвною тоской
Бесѣдую въ ночи съ задумчивой луной!Quando vede ’l pastor calare i raggi
Del gran pianeta al nido ov’ egli alberga,
E ’nbrunir le contrade d’orïente,
Drizzasi in piedi, et co l’usata verga,
Lassando l’erba et le fontane e i faggi,
Move la schiera sua soavemente;
Poi lontan da la gente
O casetta o spelunca
Di verdi frondi ingiuncha:Лишь мѣсяцъ сквозь туманъ багряный ликъ уставитъ
Въ недвижныя моря: пастухъ поля оставитъ;
Прости<тс>я съ нивами, съ дубравой и ручьёмъ
И гибкою лозой стада погонитъ въ домъ;
- 294 -
Ivi senza pensier’ s’adagia et dorme.
Ahi crudo Amor, ma tu allor piú mi ’nforme
A seguir d’una fera che mi strugge,
La voce e i passi et l’orme,
Et lei non stringi che s’appiatta et fugge.E i naviganti in qualche chiusa valle
Gettan le menbra, poi che ’l sol s’asconde,
Sul duro legno, et sotto a l’aspre gonne.
Ma io, perché s’attuffi in mezzo l’onde,
Et lasci Hispagna dietro a le sue spalle,
Et Granata et Marroccho et le Colonne,
Et gli uomini et le donne
E ’l mondo et gli animali
Aquetino i lor mali,
Fine non pongo al mio obstinato affanno;
Et duolmi ch’ogni giorno arroge al danno,
Ch’i’ son giа pur crescendo in questa voglia
Ben presso al decim’anno,
Né poss’ indovinar chi me ne scioglia.Игралище стихій среди пучины пѣнной
И ты рыбарь спѣшишъ на брегъ уединенной,
Тамъ сѣти преклонивъ ко утлой ладіѣ
(Вотъ все отъ грозныхъ бурь убѣжище твое!)
При блескѣ молніи, при шумѣ непогоды
Заснулъ... и щастливъ ты угрюмый сынъ природы!Et perché un poco nel parlar mi sfogo,
Veggio la sera i buoi tornare sciolti
Da le campagne et da’ solcati colli:
I miei sospiri a me perché non tolti
Quando che sia? perché no ’l grave giogo?
Perché dí et notte gli occhi miei son molli?
Misero me, che volli
Quando primier sí fiso
Gli tenni nel bel viso
Per iscolpirlo imaginando in parte
Onde mai né per forza né per arte
Mosso sarа, fin ch’i’ sia dato in preda
A chi tutto diparte!
Né so ben ancho che di lei mi creda.Но се, блѣднѣетъ тамъ багряный небосклонъ
И медленной стопой идутъ волы въ загонъ,
Съ холмовъ и пажитей туманомъ орошенныхъ:Canzon, se l’esser meco
Dal matino a la sera
T’а fatto di mia schiera,
О пѣснопѣній мать!... въ вертепахъ отдаленныхъ,
Въ изгнаньи горестномъ, утѣха дней моихъ!
- 295 -
Tu non vorrai mostrarti in ciascun loco;
Et d’altrui loda curerai sí poco,
Ch’assai ti fia pensar di poggio in poggio
Come m’а concio ’l foco
Di questa viva petra, ov’ io m’appoggio.О лира! возбуди бряцаньемъ струнъ златыхъ,
И холмы спящіе, и кипарисны рощи,
Гдѣ я, печали сынъ, среди глубокой нощи,
Объятый трепетомъ склонился на гранитъ:
И надо мною тѣнь Лауры пролетитъ! —
- 296 -
VI. Стихотворение Касти «A Fille»
и подражание Батюшкова («Счастливец»)
Odi le rapide
Ruote sonanti
Tratte da’ fervidi
Destrier fumanti.Слышишь! мчится колесница
Тамъ по звонкой мостовой!
Правитъ сильная десница
Коней сребряной бр<а>здой!Scansiam solleciti
L’ urto villano
Poich’ è già prossimo
L’ auriga insano;Ихъ копыта бьютъ о камень;
Искры сыплются струей;
Пышетъ дымъ, и черный пламень
Излетаетъ изъ ноздрей!E mira, o Fillide,
Quel che sdrajato
Siede nel fulgido
Cocchio dorato:Рѣзьбой дивною и златомъ
Колесница вся горитъ:
На коврѣ ея богатомъ
Ктожъ, Лизета, кто сидитъ?Indosso miragli
D’ argento e d’ oro
Grave ricchissimo
Stranier lavoro:Mira il riverbero
Che rara e grande
Gemma purissima
Dal dito spande;E seco ha il torbido
Orgoglio e il folle
Fasto insoffribile,
E il lusso molle.Временщикъ, вельможъ любимецъ,
Что на откупъ городъ взялъ...
Ахъ! давно ли онъ у крылецъ
Пыль смиренно обметалъ?Nè a chi riscontralo
Per lo sentiero
Piegar mai degnasi
Il capo altero.Вотъ онъ съ нами поравнялся,
И едва кивнулъ главой;Ma già il volubile
Cocchio trapassa,
E densa polvere
Dietro si lassa.
Вотъ уж молніей промчался,
Пыль оставя за собой!Or vada e celere
Colui si porte
- 297 -
Scherzo e capriccio,
Di cieca sorte.Ma tu, se prospera
Fortuna in lui
Tutti rovescia
I favor sui,Добрый путь! Пока лелѣетъ
Въ колыбели щастье васъ!
Поздноль? раноль? но приспѣетъ
И невзгоды страшный часъ.D’ ogni ben prodiga
Dispensatrice,
Fille, non crederlo
Perciò felice.Ахъ, Лизета! льзяль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему щастливым зваться
Съ развращенною душой!Perchè allo splendido
Fasto apparente
Sol l’ occhio abbagliasi
D’ ignara gente,Ma se con provvido
Giudizio sano
Tuo sguardo internasi
Nel core umano,Vedrai che misero
E’ quei talora,
Cui ’l volgo instabile
Invidia e adora:Тамъ, гдѣ хитростью искуства
Розы въ зиму разцвѣли;
Тамъ, гдѣ все плѣняетъ чувства,
Дань морей, и дань земли:Мраморъ дивный изъ Пароса,
И кораллы на стѣнахъ; —
Тамъ, гдѣ въ роскоши Па<ф>оса,
На узорчатыхъ коврахъ,Vedrai che torbido
Pensier nascoso
Ad altri rendelo
E a se nojoso;Щастья шаткаго любимецъ
Съ Нимфами забвенье пьетъ:
Тамъ же слезы сей щастливецъ
Отъ людей украдкой льетъ.Brama avidissima,
Tema, livore,Блѣденъ ночью Крезъ нещастный,
Шепчетъ тихо, чтобъ жена
- 298 -
Odio implacabile
Gli rode il core.Не вняла сей гласъ ужасный:
Мнѣ погибель суждена!Per l’ auree camere,
Per l’ ampie sale
Indivisibile
Noja l’ assale.Dunque non prendere
Facil diletto
Da un lusinghevole
Fallace aspetto.Сердце наше кладезь мрачной:
Тихъ, покоенъ сверху видъ;
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодилъ на немъ лежитъ!Se lieta vivere
Sai nello stato
Che o sceglier piacqueti,
O il ciel t’ ha dato;Se poni all’avido
Desire il freno,
Sarai, mia Fillide,
Felice appieno.Душъ великихъ сладострастье,
Совѣсть! зоркій стражъ сердецъ!
Безъ тебя ничтожно щастье;
Гибель — злато и вѣнецъ!
- 299 -
VII. Стихотворение Касти «Il Contento»
и подражание Батюшкова («Радость»)
Il crin cingetemi
Di mirti e rose,
Leggiadri giovani,
Donne amorose,Любимца Кипридина
И миртомъ и розою
Вѣнчайте, о юноши
И дѣвы стыдливыя!E miste a’ cantici
Mentre intessete
Con piè volubile
Le danze liete;Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И радостно топая,
Скачите и прыгайте!Voci di giubilo
Canore e pronte
M’ inspirin Pindaro
E Anacreonte;Мнѣ лиру Тіискую
Камены и Граціи
Вручили съ улыбкою:E i carmi scorrano
Da’ labri miei
Dolci qual nettare<,>
Che beon gli Dei.
Poichè Amarillide
Di questo core
Soave ed unica
Fiamma d’ amore,И пѣсни веселію,
Пріятнѣе нектара
И слаще амврозіи,
Что пьютъ небожители,
Въ блаженствѣ безпечные,
Польются со струнъ ея!
Сего дня — день радости —
Филлида суровая,Chè pria sì rigida
E sì crudele
Spezzò il mio tenero
Amor fedele,Alle mie lagrime,
Alle preghiere
Prese piú docili
Dolci maniere:E a me con placido
Gentil sorriso
Lo sguardo languido
Fissando in viso,
Сквозь слезы стыдливости,Se m’ ami, dissemi,
Già sento anch’ ioЛюблю! мнѣ промолвила.
- 300 -
Per te amor nascere
Nel petto mio.Какъ роза, кропимая
Въ часъ утра авророю,
Съ главой отягченною
Безцѣнными каплями,
Румянѣй становится:
Такъ ты, о прекрасная!
Съ главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснѣя промолвила:
Люблю! тихимъ шопотомъ.E a’ penosissimi
Lunghi tormenti
Allor successero
I bei momenti,E l’ alma Venere
Dalla sua sfera
Allor sorrisemi
Piú lusinghiera:Sentii dall’ animo
Fuggir la noja,
E il cor riempiemi
D’ immensa gioja.Все мнѣ улыбнулося;
Тоска и мученія,
И страхи и горести
Изчезли — какъ не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Межь бисерныхъ облаковъ
Цитерскими птицами,
Къ Цитерѣ иль Пафосу,
Цвѣтами осыпала
Меня и красавицу.
Все мнѣ улыбнулося!
И солнце весеннее
И рощи кудрявыя,
И воды прозрачныя,
И холмы Парнасскіе! —Piú chiaro parvemi
Splendere il giorno,
Piú grato l’ aere
Spirarmi intorno.
- 301 -
Così le lagrime
De’ mesti amanti
Compensa il termine
Di pochi istanti,E la memoria
Del mal sovente
Svanisce e perdesi
Nel ben presente.Or che Amarillide,
La fiamma mia,
Depose il rigido<,>
Tenor di pria,Non temo i turbini
D’ avversa sorte,
Nè il più terribile
Furor di morte.Me faccian vivere
I Numi amici
Con Amarillide
I dì felici:Nè altro mai chiedere
Da lor vogl’ io,
Nè a compier restami
Altro desio;Chè in petto accogliere
Idee non soglio
D’ insaziabile
Fasto ed orgoglio;Nè brama pungemi
D’ oro e di gemme,
Che mandan l’ indiche
Eoe maremme.Abbiasi Venere
Il vago Adone,
Abbiasi Cinzia
Endimione;Nè al frigio Paride
Elena invidio,
- 302 -
Famosa origine
Del grand’ eccidio.Per mille celebri
Bellezze e mille
Pera s’ io cedere
Voglia Amarille.Dolci qual nettare
Solo per lei
I carmi scorrono
Da’ labbri miei.Soavi zefiri,
Aurette liete,
Che attorno l’ aere
Lievi movete,Le mie di giubilo
Voci ascoltate,
E i vostri tremoli
Moti arrestate.Tacete, o garruli
Canori augelli,
Tacete, o queruli
Vaghi ruscelli,Chè i carmi scorrono
Da’ labri miei
Dolci qual nettare,
Che beon gli Dei.Del mio non trovasi
Piú lieto core
Entro il vastissimo
Regno d’ amore;E così l’ animo.
M’ empie il contento,
Che omai non restavi
Luogo al tormento.O giorni fausti
Che amando io spesi,
O ardor benefico,
Ond’ io m’ accesi,
- 303 -
O amabilissima
Cara Amarille,
Dalle cui tremule
Vaghe pupilleTanta discendere
Mi sento in petto
Dolcezza ch’ empiemi
D’ almo diletto,Soave ed unica
Cagion tu sei
De’ felicissimi
Contenti miei:Per te conoscere
La vita imparo,
Per te m’ è il vivere
Giocondo e caro.E voi, fide anime,
Che amor seguite,
E gl’ invidiabili
Miei casi udite,Or che Amarillide,
La fiamma mia,
Depose il rigido,
Tenor di pria,Il crin cingetemi
Di mirti e rose,
Leggiadri giovani,
Donne amorose;Любимца Кипридина
Въ любви побѣдителя,
И миртомъ и розою
Вѣнчайте, о юноши
И дѣвы стыдливыя!E in me di Venere
L’ alto favore
Rispettin gl’ invidi
Servi d’ amore:E sia d’ esempio
A ogn’ alma amante,
Che tutto vincere
Può amor costante.
- 304 -
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *
Аверинцев С. С. 8
Автухович Т. Е. 112
Акимова М. В. 10, 223, 227
Аламанни см. Alamanni (Alemanni) L.
Алексеев М. П. 9, 71, 107, 130, 152, 153, 223
Аленин см. Оленин А. Н.
Алигьери см. Dante Alighieri
Альдобрандини П. см. Aldobrandini P.
Альдобрандини Ч. см. Aldobrandini C.
Альтшуллер М. Г. 57, 69, 196, 201, 202, 205, 208, 232
Альфонс II д’Эсте см. d’Este A.
Альфьери (Альфиери) В. см. Alfieri V.
Анастасевич 52—56, 200, 201
Андреев М. Л. 16, 115
Анелли А. 107
Арапов П. Н. 52
Аретино (Аретин) П. см. Aretino (Aretin) P.
Ариосто Г. 98, 99, 214
Ариосто (Ариост) Л. см. Ariosto (Ariost) L.
Аристов В. В. 197
Аристотель 182, 189
Арно А.-В. см. Arnault A. V.
Асоян А. А. 88, 89, 125, 142, 223, 225, 237
Ахингер Г. 226
Байрон Дж. 181, 237
Бакачио см. Боккаччо Дж.
Баратынский Е. А. 164, 212, 219, 233
Барков И. С. 32, 33, 99, 196
Бартенев П. И. 18, 76, 94, 107, 116, 124, 167, 218, 223, 224
Баткин Л. М. 189
Батонди Р. 98, 213
Батюшков Н. Л. 213
Батюшкова А. Н. 59, 159, 210, 220
Баур П. см. Baour-Lormian P. L. M. F.
Баур-Лормиан П.-Л.-М.-Ф. см. Baour-Lormian P. L. M. F.
Бах И. К. 81, 111
Бахтин Н. И. 142
Белецкий И. В. 81
- 305 -
Белинский В. Г. 6, 11, 45, 62, 65, 76, 79, 80, 159, 181, 184, 186, 203
Белый А. 210
Бен де Сен-Виктор Ж.-М.-Б. 189, 200
Бени П. см. Beni P.
Берков П. Н. 7, 143, 182, 210, 229, 230, 237
Бертен А. 90
Бессонов Н. А. 120, 129, 190—193, 220, 221
Бестужев А. А. 143, 181, 226
Бетховен Л. ван 110, 111
Благой Д. Д. 16, 25, 31, 32, 42, 43, 45, 46, 56, 57, 63, 66, 76—78, 86, 91, 98, 113, 133, 143, 154, 159, 171, 187, 189, 191, 194—196, 198, 204—207, 209, 211, 213, 217, 221, 226, 235, 237
Блудов Д. Н. 63, 66, 67, 69, 77, 78, 205, 216
Боало Н. см. Буало-Депрео Н.
Бобринский А. А. 161
Бовилье П.-И. де, герцог де Сент-Эньян 14
Богданович И. Ф. 145
Бодуэн Ж. 196
Бокаций см. Боккаччо Дж.
Боккаччо (Бокаччио, Боккаччио, Боккачио, Боккаччьо) Дж. 7, 70, 95, 116, 130—134, 139, 154, 185, 212, 221
Болотов С. Г. 10
Бонди С. М. 182
Боярдо М. 234
Браун У. Э. см. Brown W. E.
Браун Ф. А. 161
Бродский Н. Л. 109
Бронфин Е. Ф. 108
Брюсов В. Я. 148, 149, 189
Буало-Депрео Н. 82, 105, 106, 138, 217
Букалов А. М. 148
Булаховский Л. А. 25, 43, 193
Бунаков Н. Ф. 6
Бутырский Н. И. 163, 193
Бухарский А. И. 85, 208
Бычков И. А. 185
Варезе М. Ф. см. Varese M. F.
Васильев В. Е. 82
Вацуро В. Э. 13, 123, 124, 135, 149, 160, 161, 162, 167, 171, 184, 185, 189, 195, 210, 217, 225, 226, 231, 237
Венгеров С. А. 62, 186, 219
Вергилий (Публий Вергилий Марон) 11, 18, 19, 26, 28—30, 86, 87, 88, 94—97, 103, 113, 124, 161, 182, 189, 190, 194, 209, 212, 215, 224
Вердьер Ш. 187, 188
Верховский Н. П. 7, 36, 69, 91, 117, 127, 141, 143, 179, 184, 205, 220
Верховский Ю. Н. 148
Вивальди А. 81
Виженер Б. де см. Vigenère-Bourbonnais B. de
Винницкий И. Ю. 187
Виноградов В. В. 154, 164, 199, 226
Винокур Г. О. 8
Виргилий см. Вергилий
Вовенарг Л. де Клапье де 217
Воейков А. Ф. 5, 56, 76, 134, 139, 219, 224
Вольтер см. Voltaire
Вордсворт В. 226
Востоков А. Х. 85, 202, 208, 213
Всеволожский Н. С. 188
Вулих Н. В. 29
Вульферт В. К. 213
Вяземский А. И. 206
Вяземский И. А. 206
Вяземский П. А. 60, 76, 93, 98, 104, 114, 124, 125, 132—134, 136, 158, 162, 164, 167, 178, 180, 182, 185, 195, 198, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 218, 227, 228, 231, 235, 237
Вяземский П. П. 206
Гагарин И. А. 59, 60
Галинковский Я. А. 169, 170, 197
Гардзонио С. см. Garzonio S.
Гаспаров Б. М. 154, 237
Гаспаров М. Л. 32, 64, 72, 77, 160, 162, 200, 204, 226
- 306 -
Гварини Дж.-Б. 80
Гебель И.-П. 225
Георгиевский П. Е. 7, 182, 210, 223, 229
Геродот 219
Гёте И. В. 9, 210, 234, 235
Гиллельсон М. И. 227
Гиривенко А. Н. 63, 117
Глумов А. Н. 107
Глюк К. В. 207
Гнедич Н. И. 11, 13—15, 18, 19, 32, 34—36, 56, 57, 59—61, 63, 69, 89, 90—93, 97—102, 104, 109, 112, 116, 127, 129—133, 136, 139, 158, 159, 162, 164, 167, 187—189, 191, 194, 195, 199, 201—203, 206, 208—212, 215, 216, 219, 220, 223, 225, 232, 237
Голенищев-Кутузов И. Н. 6, 38
Гомер 9, 11, 18, 22, 23, 30, 44, 87, 93, 97, 103, 117, 189—191, 194, 197, 198, 211, 212, 215, 216
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 13, 111, 153, 165, 187, 218, 233
Горновский И. А. 107
Горохова Р. М. 6, 7, 12, 30, 35, 36, 56, 63, 91, 98—102, 104, 116, 117, 121, 128, 131, 133, 135, 161, 164, 166, 169, 174, 181, 184, 185, 187, 189, 193—195, 197, 198, 204, 212—214, 216, 220, 222, 231, 232, 234
Горчаков А. М. 209, 229
Горчаков В. П. 230
Гофман Э. Т. А. 9
Грамматин Н. Ф. 102
Гревенец А. И. 6
Грей Т. 68
Греч Н. И. 137, 223, 224
Григорьева А. Д. 33, 189, 190, 205, 226
Гринкруг О. Е. 218
Громбах С. М. 154
Гроссман, Л. П. 226
Грот Я. К. 6, 62, 78, 205, 236
Гуковский Г. А. 204
Густова Л. И. 143
Д’Аламбер Ж. 105, 188
Д’Эсте А. см. d’Este A.
Д’Эсте М. Гонзага 233
Д’Эсте Э. 28, 97, 161, 194
Данкур Ф. 105
Данте Алигьери (Дант) см. Dante Alighieri
Данченко В. Т. 203, 223
Данше А. см. Danchet A.
Дасье А. см. Dacier A.
Дашков Д. В. 76, 94, 97, 113, 124, 210, 211, 213
Делиль Ж. см. Delille J.
Дельвиг А. А. 184
Деодати де Товацци Дж. Л. 220
Депорт Ф. 105
Депрео Н. см. Буало-Депрео Н.
Державин Г. Р. 32, 33, 58, 59, 65, 70, 71, 82, 85, 196, 202, 204
Дешарн Ж.-А. см. De Charnes J. A.
Джовио П. см. Giovio P.
Джулиани Р. 125, 142
Дзаппи Дж. Ф. см. Zappi G. F.
Дидро Д. 105
Дмитриев И. И. 55, 65, 114, 199, 204
Добрицын А. А. 10
Добродомов И. Г. 10, 225
Додолев М. А. 111
Дю Виньо Ж. 196
Дюфренуа А.-Ж. Бийе см. Dufrénoy A. G. Billet
Егунов А. Н. 9, 22, 38, 191, 198, 211, 213, 219
Екатерина II 35
Екатерина Павловна 57, 59
Елина Н. Г. 164, 223
Ефремов П. А. 13, 56, 59, 60, 90, 91, 93, 98—104, 110, 112, 113, 116, 127, 128, 130—132, 136, 139, 158, 159, 163, 165, 187, 195, 201—203, 206, 209, 210, 213—216, 225, 232, 233, 237
Железников П. С. 223
Женгене (Женгенэ, Жингене) П.-Л. см. Ginguené P. L.
- 307 -
Живов В. М. 36
Жильбер Г. 105
Жингене П.-Л. см. Ginguené P. L.
Жуковский В. А. 60, 68, 76, 89, 113, 116, 132, 139, 167, 180, 183, 185—187, 195, 205, 213, 215, 225, 227
Заборов П. Р. 7, 35, 132, 133, 194, 197, 213, 216
Загвозкина В. Г. 197
Замбржицкий В. Л. 193
Зорин А. Л. 69, 83, 92, 98, 104, 107, 171, 187, 201, 203, 205, 206, 209—211, 213, 214, 218, 219, 221, 224, 232
Зубков Н. Н. 56, 61, 68, 97, 124, 202, 206, 207, 216, 219
Иванов Ф. Ф. 188
Иванова И. Н. 226
Ивинский Д. П. 228
Измайлов А. Е. 198, 201
Измайлов Н. В. 56, 202, 228
Илюшин А. А. 10, 154
Ионин Г. Н. 196
Истомин В. А. 197
Кампра А. см. Campra A.
Каплинский В. Я. 16
Капнист В. В. 12, 56, 92, 211
Карамзин Н. М. 33, 35, 70, 113, 174, 188, 191, 194, 196, 199, 213, 219
Карл V см. Charles-Quint
Каррафа А. см. Carrafa A.
Карулли Ф. 218
Касти Дж.-Б. 7, 62, 69, 71—79, 84, 179, 205—207
Катанео М. 194
Катенин П. А. 56, 125, 127, 142, 145, 147, 150, 156, 202, 223, 227, 231
Катулл (Гай Валерий Катулл) 84, 85, 208, 237
Кафанова О. Б. 194
Кац Б. А. 106
Каченовский М. Т. 133, 222, 223
Кибальник С. А. 84, 152, 184, 208, 226
Кино (Кинольт) Ф. см. Quinault P.
Климент VIII 173, 174
Козлов В. И. 5, 127, 128, 221
Колардо Ш.-П. см. Colardeau C.-P.
Колонна Дж. 65, 151, 229
Колонна С. 125
Комарович В. Л. 181
Компаньони Дж. 12, 30, 187
Контьери Н. см. Contieri N.
Кордье К. см. Cordié C.
Корнеев Ю. Б. 230
Корнель (Корнелий) П. 105, 227
Королева Н. В. 196, 232
Корш Ф. Е. 148, 149
Космолинская Г. А. 215
Костантини А. см. Costantini (Costantino) A.
Костров Е. И. 18, 44, 45, 189, 197
Котен Ш. 106
Кошелев В. А. 16, 25, 43, 77, 116, 142, 171, 191, 196, 202, 203, 211, 214, 216, 218, 222, 223
Кравчуновский Ф. 227
Краснопольский Н. С. 110
Крюкова О. С. 114
Кузичева М. В. 113, 209
Кулешов В. И. 206
Кюхельбекер В. К. 5, 12, 161, 181, 186, 195, 232
Лагарп Ж.-Ф. де см. La Harpe J.-F. de
Лазарчук Р. М. 90
Лаура (Лаура де Новес) 63—66, 70, 123, 124, 146—148, 155, 204, 231
Лафонтен Ж. де см. Lafontaine J. de
Ле Риш Г. см. Le Riche G.
Лебрен (Ле-Брюн) Ш.-Ф. см. Lebrun C. F.
Лебрен-Экушар П.-Д. см. Экушар-Лебрен П.-Д.
Левек П.-Ш. см. Lévesque (L’Évêque) P. C.
Левин Ю. Д. 56
- 308 -
Левин В. Д. 215
Левина Т. М. 10
Леонора д’Эсте см. д’Эсте Э.
Лернер Н. О. 150, 154, 230
Ливанова Т. Н. 111
Линецкая Э. Л. 230
Лист Ф. 218
Лобанов В. В. 88, 205
Лобанов М. Е. 225
Лобарделли О. 194
Ломоносов М. В. 33, 144, 145, 191, 231
Лоредано Дж. Ф. см. Loredano (Loredan) G. F.
Лотман Ю. М. 153, 197, 230, 234, 237
Лукан (Марк Анней Лукан) 14
Лукреций (Тит Лукреций Кар) 93, 211
Люлли Ж.-Б. см. Lully (Lulli) J.-B.
Люно де Буажермен П.-Ж. 41
Майков Л. Н. 6, 7, 11—14, 16, 18, 25, 30—32, 36, 42, 43, 46, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 76—78, 80, 87, 90, 91, 93, 97—104, 107, 110, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 124, 127, 128, 130—133, 136, 139, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 168, 171, 179, 180, 186—189, 191, 195, 196, 198, 201—203, 205, 206, 209—211, 213—216, 218, 219, 221—225, 228, 232—237
Майков В. 82
Маккиавелли (Маккиавели, Макиавель) Н. 131—134, 223
Макферсон Дж. 93, 211
Мансо (Манзо) Дж.-Б., маркиз де Вилла см. Manso G.-B.
Маркетти А. см. Marchetti A.
Маркович В. М. 228
Мармонтель Ж.-Ф. см. Marmontel J. F.
Марсан А. см. Marsand A.
Мартынов И. И. 90, 163
Маттисон Ф. фон см. Matthisson F. von
Матяш С. А. 38, 72, 77, 84
Маццола́ К. Т. 207
Мейлах Б. С. 182, 229, 43
Мере Ж. 105
Мерзляков А. Ф. 35, 36, 41, 46, 56, 58, 110, 183, 194, 196, 200, 202, 222, 234
Метастазио (Метастазий) П. см. Metastasio (Trapassi) P. A. D. B.
Мильвуа Ш.-Ю. см. Millevoye C. H.
Мильчина В. А. 161, 231
Мирабо (Мирабод) Ж.-Б. см. Mirabaud J.-B.
Михайлова Н. И. 230
Мицкевич А. см. Mickiewicz A.
Модзалевский Б. Л. 142, 149, 152
Молчанов П. С. 213
Молчанова В. В. 139
Мольер 105
Монтень (Монтань) М. де см. Montaigne (Montagna) M. de
Монти В. 7, 163, 164, 226, 232, 233
Морозов П. О. 226
Моска Л. см. Mosca L.
Москотильников С. А. 40, 47, 197, 199, 200, 212
Моцарт В. А. 207
Мур Т. 9
Муравьев М. Н. 30, 107, 145, 170, 215
Муравьев Н. М. 186, 237
Муравьева Е. Ф. 108, 109, 186, 218, 237
Муравьев-Апостол И. М. 205
Мурьянов М. Ф. 9, 200, 208
Набоков В. В. 153, 230
Надеждин Н. И. 153
Назон см. Овидий
Налимов А. П. 152, 230
Наполеон Бонапарт 113, 232
Настопкене В. 64
Неклюдова М. С. 196
Некрасов А. И. 7, 63, 65, 66, 124, 143, 163, 186, 192, 220, 221
Непомнящий В. С. 229
Никитенко А. В. 5, 226
Никольский П. А. 77
Нилов П. А. 61
Нилова П. М. 61
Норов Абр. С. 188, 208, 223
- 309 -
Овидий (Публий Овидий Назон) 28—30, 70, 95 103, 162, 164, 189, 194, 195
Озеров В. А. 31, 195, 227
Оксман Ю. Г. 149
Оленин А. Н. 61, 63, 93, 107, 112, 201, 203, 212, 213, 215, 218, 219
Олин В. Н. 220
Омер (Омир) см. Гомер
Орлов В. Н. 208
Осповат А. Л. 196
Оссиан см. Макферсон Дж.
Остолопов Н. Ф. 16, 17, 38, 52, 120, 174, 182, 187, 196, 234
Павел Петрович (Павел I) 188
Паизиелло Дж. Г. К. см. Paisiello (Paesiello) G. G. C.
Паламарчук П. Г. 107, 203
Паломба Дж. см. Palomba G.
Панкук Ш.-Ж. см. Panckoucke C. J.
Паперно И. А. 91
Парни Э.-Д. Дефорж де 60, 62, 63, 65, 69, 90, 194, 203, 215
Перголези Дж.-Б. 81
Перцов Н. В. 226
Песков А. М. 92, 98, 171
Петр Великий 144
Петрарка (Петрарк) Ф. см. Petrarca (Pétrarque) F.
Пифагор 60
Пиччинни (Пиччини) Н. 81, 105, 217
Плавт (Тит Макций Плавт) 103
Плаксин В. Т. 5, 181
Платон 87, 128
Плетнев П. А. 38, 150, 159, 164, 166, 181, 186, 227
Плиний Старший (Гай Плиний Секунд) 113
Плюшар А. А. 5
Погодин М. П. 183
Полициано А. 121
Полуяхтова И. К. 63—65, 117, 153, 204
Попов М. В. 24, 26, 35—37, 40—42, 44—47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 169, 170, 174, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 212, 236
Проперций (Секст Проперций) 123
Проскурин О. А. 45, 66, 68—70, 92, 98, 124, 171, 205, 208, 211
Пуатевен П. 187
Пушкин А. С. 9, 12, 79, 80, 86, 99, 109, 141—157, 164, 181—184, 192, 206, 209, 216, 217, 219, 225—233, 237
Пушкин В. Л. 104, 114, 181, 195, 227
Пушкин Л. С. 109, 146, 152, 225
Пушкина Е. Г. 97, 98, 206, 213
Пыпин А. Н. 91, 186
Радищев А. Н. 33
Раич С. Е. 144, 183
Рак В. Д. 196, 232
Расин Ж. 105, 225
Реморова Н. Б. 142, 144, 146, 225
Репин И. Е. 115
Решетников А. Г. 35, 204
Ривароль А. 134
Риенци (Риензи) К. (Н.) 125
Роберт Неаполитанский 124
Розанов И. Н. 159, 236
Розанов М. Н. 6, 91, 109, 141, 143, 127, 142, 145, 146, 149, 152, 207, 216, 217, 225, 226, 228, 237
Ролли П. А. см. Rolli P. A.
Ронсар П. 234
Росси Г. 108
Россини Дж. 107—111, 217, 218
Руссо Ж.-Б. см. Rousseau J.-B.
Руссо Ж.-Ж. см. Rousseau J.-J.
Рутенбург В. И. 205
Рылеев К. Ф. 182
Саблон В. 196
Савченко С. В. 161
Саитов В. И. 6, 185, 186
Саккини А. 81
Самарина А. П. 61, 201
Сандомирская В. Б. 84, 184
Санников В. З. 210
- 310 -
Сансеверино см. Sanseverino (Sansévérino)
Сарро Д. Н. 208
Сафо (Сапфо) 82, 85
Светлова М. К. 183
Северин Д. П. 97, 104, 113
Сегре Ж. Реньо де 105
Семевский М. И. 6, 114, 186
Семенко И. М. 7, 12, 63, 77, 117, 122, 124, 136, 137, 143, 171, 181, 214, 232
Семенников В. П. 35
Сенека Младший (Луций Анней Сенека) 165, 233
Сент-Бёв Ш.-О. 226
Сент-Эньян см. Бовилье П.-И. де
Серасси П. см. Serassi P.
Сервантес Сааведра М. де 117
Сергеева-Клятис А. Ю. 205
Серман И. З. 6, 7, 36, 38, 62, 83, 117, 121, 122, 194, 196, 203, 204, 211, 217, 225
Серра-Каприола (Серакаприола) А. М. Донорсо ди см. Serra-Capriola A. M. Donorso di
Сидоров Е. А. 185
Синявер Л. С. 108
Сиповский В. В. 230
Сисмонди́ Ж.-Ш.-Л. Симонд де см. Sismondi J. C. L. Simonde de
Скакун А. А. 216
Скальковский А. А. 107
Скарлатти Д. 81
Скоппа А. см. Scoppa A.
Смирнов-Сокольский Н. П. 228
Соаве Ф. см. Soave F.
Соболевский С. А. 183
Соколов А. Н. 198
Солонович Е. М. 136, 63—65
Сомов О. М. 114
Сталь Ж. де см. Staël-Holstein A. L. G. de
Стасов В. В. 110, 115
Стендаль см. Stendhal
Степанов Н. Л. 90
Степанов Ю. С. 8
Строганов М. В. 122
Стурдза А. С. 185
Сурат И. З. 226
Сципион (Публий Корнелий Сципион) 8
Сюар Ж.-Б.-А. см. Suard J.-B.-A.
Тассо (Тасс) Б. 132, 133, 168, 169, 170, 178, 222, 234, 236
Тассо П. 133, 170
Тассо (Тасс) T. см. Tasso (Tasse) T.
Тацит (Корнелий Тацит) 113
Тибулл (Альбий Тибулл) 18, 55, 62, 65, 70, 71, 100, 101, 103, 123, 124, 135, 203, 220, 221, 228
Тик Л. 117
Титаренко С. Д. 63, 91, 123, 143, 204
Тиханов П. Н. 200
Тодд К. см. Todd C.
Тоддес Е. А. 191
Томашевский Б. В. 9, 16, 25, 30, 32, 43, 142, 146, 150, 152, 162, 191, 210, 211, 216, 226, 228
Томашевский Н. Б. 63, 225
Топоров В. Н. 91, 114, 215
Топтунова А. Е. 197
Трапасси П.-А.-Д.-Б. см. Metastasio (Trapassi) P. A. D. B.
Триполи И. А. 180
Триссино Дж.-Дж. 234
Туманский В. И. 146, 198
Тургенев А. И. 23, 36, 67, 69, 78, 81, 107—109, 111, 112, 114, 137, 182, 185, 191, 192, 198, 216—219, 233
Тургенев Н. И. 192
Тургенев С. И. 192
Тынянов Ю. Н. 36, 144, 147, 223, 231
Уваров С. С. 5, 113, 159, 162, 186
Федоров Б. М. 113, 114
Фиораванти В. 108—111
Флейшман Л. С. 167
Фомичев С. А. 142
Фридман Н. В. 6, 7, 12, 16, 17, 25, 30, 43, 45, 46, 52, 59, 63, 66, 74, 76, 77,
- 311 -
78, 83, 91, 112, 114, 143, 145, 159, 167, 171, 186, 191, 192, 195, 202, 203, 205, 206, 209—211, 217, 218, 220, 231, 232, 235
Фурман А. Ф. 124
Херасков М. М. 45, 192, 193, 198
Хлодовский Р. И. 16, 131, 139, 144, 145, 147, 149, 152, 165, 225
Цинтио см. Aldobrandini C.
Цявловский М. А. 33, 99, 142
Чебышев А. А. 52, 142, 145
Чезаротти М. см. Cesarotti M.
Чернышев В. И. 197
Чижевский Д. И. 153, 230
Чимароза Д. 81, 111
Чинцио см. Aldobrandini C.
Шайтанов И. О. 16, 43, 83, 191, 198
Шамфор см. Chamfort
Шанский Н. М. 152
Шапир М. И. 8, 10, 33, 53, 99, 183, 196, 208, 213, 225, 232
Шапиро Майкл см. Shapiro Michael
Шапиро Марианна см. Shapiro Marianne
Шатобриан Ф. А. Р. см. Chateaubriand F. A. R.
Шаховской А. А. 227
Шебунин А. Н. 186
Шевырев С. П. 183
Шенье А. 183
Шервинский С. В. 29, 162
Шереметев С. Д. 184
Шиллер Ф. 80, 225
Шипилов П. А. 210
Шипилова Е. Н. 210
Шишков А. С. 100, 137—139, 187, 191, 197, 198, 201, 204, 214, 223, 224
Шлегель А. 117
Шмидт Г. 218
Шувалов А. П. 13, 188
Щеголев П. Е. 144
Эйгес И. Р. 107, 109
Экушар-Лебрен П.-Д. 209
Элеонора д’Эсте см. д’Эсте Э.
Эсменар Ж. см. Esménard J.
Эткинд Е. Г. 38, 56, 63, 64, 77, 91, 120, 136, 183, 202, 217
Юлия, дочь Октавиана Августа 194
Яковлев Н. В. 146, 149, 226, 227
Якубович Д. П. 109
Якушкин В. Е. 186
Якушкин Е. И. 186
Якушкин И. Д. 186
Яновский Н. М. 227
Янушкевич А. С. 7, 71, 84, 86, 88, 119, 133, 189, 207, 208, 236
Alamanni (Alemanni) L. 81, 209
Aldobrandini C. 173—175, 177, 178
Aldobrandini P. 177
Alfieri V. 7, 133, 141, 143—146, 179, 185, 226, 227, 236
Alfonse II d’Este см. d’Este A.
Alighieri см. Dante Alighieri
Aretino (Aretin) P. 82, 133, 150, 207, 228
Ariosto (Ariost) L. 5—7, 8, 16, 26, 62, 63, 71, 80, 85, 89, 91, 95, 97—106, 116—121, 127, 131—134, 138, 142—144, 182—184, 197, 201, 212—216, 220, 222, 225, 226, 234, 237
Arnault A. V. 149
Austin R. G. 29, 95, 189, 194
Baour-Lormian P. L. M. F. 35, 40, 41, 51, 182, 198, 200
Battaglia S. 41, 128, 154
Beall Ch. B. 13, 17, 35, 41, 196, 198, 220
Benedetto L. F. 220
Beni P. 30
Besterman T. 103, 188
Bettarini R. 129
Binet R. 194
Biolato Mioni A. 109, 149, 192
Blanc L. G. 129
- 312 -
Bömer F. 21, 29, 95, 194
Boillat M. 29
Bouterweck F. 222
Bouvy É. 103, 117, 199, 213, 220
Bright D. F. 220
Brown W. E. 12, 20, 25, 36, 63
Brunelli B. 81, 111, 208
Buttura A. 98
Cairns F. 220
Campra A. 217
Cantarini A. 65
Carducci G. 117, 213
Carrafa A. 218
Castrogiovanni G. 129
Catford J. C. 9
Certo V. 149
Cesarotti M. 93, 211
Charles-Quint 168, 169
Chamfort 103, 104, 154, 230
Charnes J. A. de см. De Charnes J. A.
Chateaubriand F. A. R. 17, 103, 104, 192, 206, 215
Chiappelli F. 21, 24, 26, 190, 192, 194
Cinthio см. Aldobrandini C.
Cioranescu Al. 103, 105, 216
Colardeau C.-P. 14, 15, 188
Contieri N. 7, 63, 65, 66, 68, 91, 123, 126, 220, 221, 228
Cordié C. 80, 122, 130, 135, 141—143, 216, 223
Costantini (Costantino) A. 175—177
Cottaz J. 16, 192
Counson A. 135, 143, 223
Cranfield C. E. B. 33
Čiževskij D. см. Чижевский Д. И.
Dacier A. 191
Danchet A. 217
Dante Alighieri 7, 62, 70, 80, 86—89, 91, 120, 121, 127—135, 141, 143—145, 150, 154, 155, 165, 183, 185, 203, 209, 220, 221, 223, 225—227, 230, 231, 233, 237
De Charnes J.-A. 169, 170, 174
Delille J. 17, 134, 135, 188, 189, 219
Delvau A. 154
D’Este A. 37, 93, 94, 172, 235
Donadoni E. 16
Dufrénoy A.-G. Billet 161, 162, 232
Durante S. 207
Eisenberger H. 220
Esménard J. 134, 135, 188
Farinelli A. 223
Farmer H. G. 216, 217
Fay E. A. 129
Fitt T. H. 45, 62, 219
Foscolo U. 143, 226
Friederich W. P. 135, 223
Gallagher M. 35
Garzonio S. 10, 55, 70, 84, 110, 111, 163, 180, 194, 200, 202, 204, 206, 208, 214, 222, 223
Geiger H. 220
Getto G. 190, 192, 194
Ginguené P.-L. 35, 116—122, 124, 125, 130, 131, 134, 135, 137—139, 141—145, 156, 163—165, 170—179, 187, 192, 204, 215, 216, 219—225, 227, 229, 231, 233, 234, 236, 237
Giovio P. 82
Giunta M. da 82
Grandsen K. W. 19
Graziani F. 16
Gros É. 105, 216
Grossi P. 35, 116, 138, 187, 192, 220
Güntzschel 29
Haumant É. 210
Haupt H. 194
Hazard P. 143
Hollander R. 209
Homère см. Гомер
Hucke H. 208
Hunwick A. 188
- 313 -
Jonard N. 192
Jovicevich A. 13, 14, 188
Kažoknieks M. 87, 203, 215
Keyser S. 103, 105
Knittel H. 209
La Harpe (Laharpe) J. F. de 12—25, 27—33, 35—42, 45, 46, 57, 61, 90, 96, 97, 104, 106, 125, 126, 134, 156, 168, 174, 187—190, 192, 194, 195, 197, 200, 201, 205, 212, 216, 217, 229, 233
Lachmann R. 141
Lafontaine J. de 103, 104, 216
Lauer R. 38, 63, 136, 204
Le Riche G. 105
Lebrun C. F. 35, 40, 41, 46—51, 95—97, 140, 190, 197, 199, 200, 225, 234
Lévesque (L’Évêque) P. C. 125, 195
Lo Gatto E. 114, 204, 218
Loewenberg A. 108, 110, 208, 217, 218
Loredano (Loredan) G. F. 82
Lovera L. 129
Lucain см. Лукан
Lucrezio (Tito Lucrezio Caro) см. Лукреций
Lühning H. 81
Lully (Lulli) J.-B. 105, 217
Maillat G. 16, 234
Manso G.-B. 169, 170, 234
Marchetti A. 93, 211
Marini G.-B. 226
Markiewicz Z. 228
Marmontel J.-F. 16, 105, 216, 217, 220
Marsand A. 66, 204
Matthisson F. von 79, 80
Maver Lo Gatto A. 204
Mazzarello A. 129
McKenzie K. 65, 66, 163, 204, 228, 231
Mercereau J., Jr. 219
Metastasio (Trapassi) P. A. D. B. 7, 62, 80—83, 111, 207
Meyer R. 81
Mickiewicz A. 227, 228
Millevoye C. H. 160—162, 191, 231, 232
Mincione G. 209
Minghini A. 81
Mirabaud J.-B. 24, 35—37, 40—42, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 169, 170, 174, 193, 194, 197—202, 212, 213, 236
Mondolfi A. 110
Montaigne (Montagna) M. de 14, 172, 173, 235
Moog-Grünewald M. 187
Moore E. 209
Mooser R.-A. 110
Mortier R. 112
Mosca L. 217
Murrin M. 52
Nabokov V. см. Набоков В. В.
Neville D. 81, 208
Noero C. 194
Norden E. 29
Oelsner H. 223
Osborne R. 108
Ossian см. Макферсон Дж.
Ouvaroff S. S. см. Уваров С. С.
Paisiello (Paesiello) G. G. C. 81, 110, 111, 218
Palomba G. 108, 110, 218
Panckoucke C. J. 35, 40, 41, 48, 51, 140, 190, 199—201
Petrarca (Pétrarque) F. 5—7, 62—71, 80, 89, 91, 116, 117, 119, 122—127, 129—133, 136, 137, 141—157, 143, 163, 164, 173, 174, 192, 195, 203, 204, 220, 222, 225—229, 231, 232, 236, 237
Petrocchi P. 98
Picchio R. 124, 145, 146, 148, 151, 225, 231
Plate R. 103, 117, 213
Plaute см. Плавт
Potthoff W. 112
Puglisi Pico M. 30, 192, 196
- 314 -
Quérard J.-M. 41
Quinault P. 104, 105—106, 191, 192, 216, 217
Régaldo M. 116
Rehm W. 112
Reichard H. A. O. 237
Rolli P. A. 7, 62, 83—85, 184, 208
Ronconi A. 209
Rousseau J.-B. 59, 96, 97, 202, 212, 233
Rousseau J.-J. 35, 105, 119, 120, 122, 135, 220, 223
Sanseverino (Sansévérino) 168, 169, 170
Sappho см. Сафо (Сапфо)
Scartazzini G. A. 129
Scholz F. 122
Scoppa A. 7, 53, 66, 71, 80—84, 86, 88, 119, 207—209, 220
Seaman G. 111
Segre C. 214
Serassi P. 170—178, 234—236
Serman I. см. Серман И. З.
Serra-Capriola A. M. Donorso di 109, 218
Setaioli A. 194
Seyffert O. 23
Shapiro Marianne 142, 149, 152, 225
Shapiro Michael 142, 149, 152, 225
Shaw J. T. 24, 199
Sheldon E. S. 128
Sismondi J. C. L. Simonde de 12, 71, 117, 121, 122, 127, 132, 135, 142, 143, 145, 151, 152, 155, 156, 171—175, 177—179, 222, 229, 231, 232, 235—237
Soave F. 65, 231
Solmsen F. 194
Sommer-Mathis A. 208
Staël-Holstein A. L. G. de 25, 26, 80, 121, 122, 132, 133, 193
Stendhal 108
Stephens W. C. 29
Suard J.-B.-A. 35, 170, 174, 178, 234, 236
Tasso (Tasse) T. 5—7, 11—63, 65, 69, 71, 79, 80, 89, 91—99, 102—104, 106, 108, 109, 112, 116—123, 127—129, 131—133, 135, 137—144, 158—179, 180—185, 187, 189—191, 193—202, 205, 210, 211, 213—216, 218, 220, 222, 224, 226, 231—237
Tibulle см. Тибулл
Todd C. 13, 14, 106, 125, 187—189
Todd W. M. III 90, 91
Trapassi P. A. D. B. см. Metastasio (Trapassi) P. A. D. B.
Varese M. F. 7, 25, 27, 38, 45, 49, 63, 83, 113, 118, 166, 176, 187, 209, 236
Vigenère-Bourbonnais B. de 40, 196
Virgile см. Вергилий
Vivaldi V. 95
Voltaire 11, 13, 16, 20, 35, 50, 93, 95, 96, 102—106, 108, 117, 118, 120, 125, 126, 134, 169, 174, 182, 188, 190, 192, 199, 213, 216, 217, 220, 221, 225, 234
Wachtel M. 225
Weinberg B. 16, 194
White A. C. 128
Williams R. D. 189, 194
Zappi G. F. 80
Zatta A. 190
Zini M. 118, 124, 127, 142, 143
- 315 -
Научное издание
Игорь Алексеевич Пильщиков
БАТЮШКОВ И ЛИТЕРАТУРА ИТАЛИИ
Филологические разыскания
Под редакцией М. И. Шапира
Издатель А. Кошелев
Оригинал-макет подготовлен в редакции журнала «Philologica»
Шрифтовой дизайн С. Г. Болотова
Корректор М. Н. ГригорянФотография на вклейке И. А. Долгопольского
Подписано в печать 14.02.2003. Формат 70×100 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0. Тираж 800 экз. Заказ № 7572Издательство «Языки славянской культуры»
129345 Москва, Оборонная ул., 6—105; № 02745 от 04.10.2000
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153). E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru
Каталог в Интернете: http://www.lrc-mik.narod.ruОтпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография „Наука“»
121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис»
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.)
Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6 (метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс»)Foreign customers may order this publication
by e-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 c/0 M153СноскиСноски к стр. 304
* В указатель не включены собственные имена персонажей, встречающиеся в художественных текстах, в их названиях или фрагментах. Если носитель имени прямо не назван, но подразумевается, соответствующий номер страницы набран курсивом.

