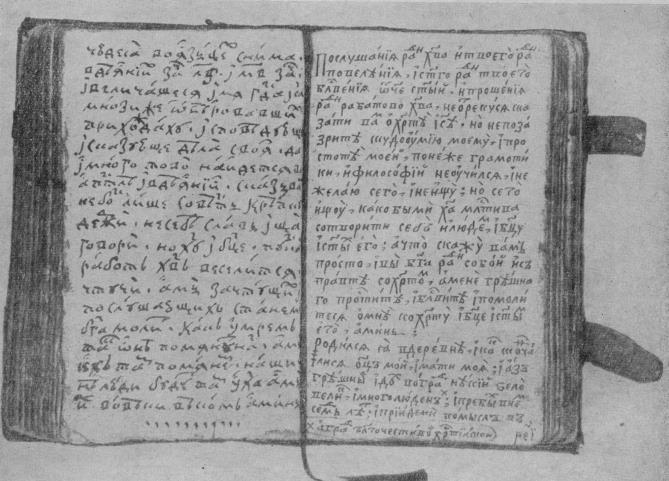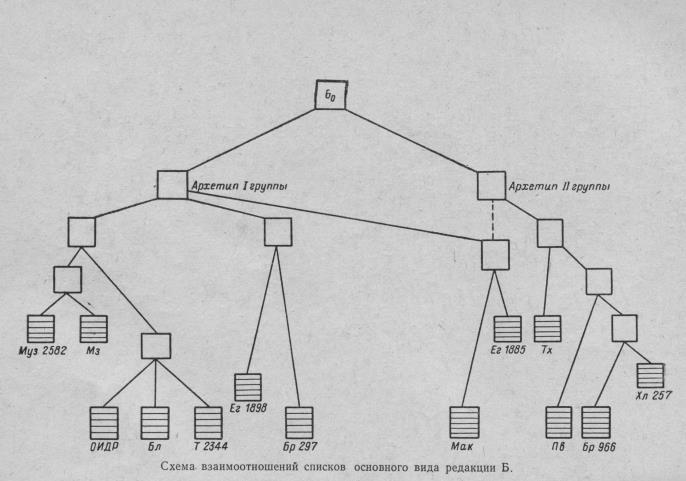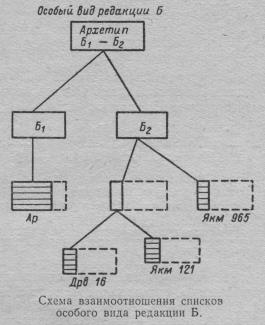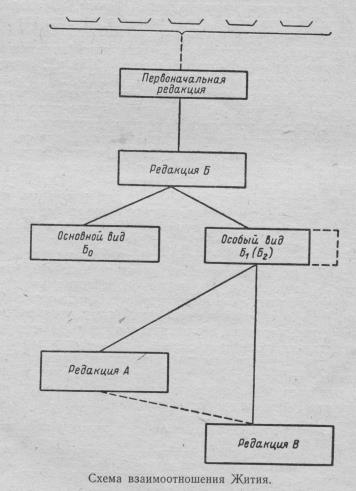- 1 -
Ленинградский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени А. А. Жданова
Н. С. ДЕМКОВА
ЖитиЕ
протопопа
Аввакума
(творческая история произведения)
Ответственный редактор
член-корреспондент АН СССР
В. П. АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦИздательство
Ленинградского университета · 1974
- 2 -
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университетаВ книге впервые исследуется творческая история Жития протопопа Аввакума, устанавливается последовательность создания четырех авторских редакций произведения, определяется текст первоначальной редакции памятника. Такой подход к изучению Жития дает возможность рассмотреть творчество Аввакума диахронически, показать эволюцию его взглядов и настроений в тесной связи с изменением стиля, сюжетного контура Жития, принципов автобиографического повествования.
Выход книги приурочен к 300-летию создания Жития. Книга предназначена для историков, лингвистов и литературоведов, а также для всех интересующихся русской литературой.
Рецензенты: акад. Д. С. Лихачев,
докт. филолог. наук А. М. Панченко
70 202—12
Д —————— 288—73
076(02)—74© Издательство Ленинградского университета, 1974 г.
- 3 -
ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА
СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА САРАФАНОВАПРЕДИСЛОВИЕ
Автобиографическое Житие Аввакума — одно из самых интересных и своеобразных произведений древней русской литературы, созданное в переломную эпоху развития русского общества — в 70-е годы XVII века, в пору интенсивного разрушения литературных традиций русского средневековья. «...В омертвелую словесность, — писал Алексей Толстой, — как буря, ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос. Это были гениальные „житие“ и „послания“ бунтаря, неистового протопопа Аввакума...».1
И спустя столетия Житием Аввакума зачитывались выдающиеся мастера художественного слова — Тургенев, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Горький. Житие не раз переводилось на европейские и восточные языки, неоднократно исследовалось в монографиях и статьях — укажем монографии А. К. Бороздина (Спб., 1898 и 1900), Р. Ягодича (Berlin, 1930), П. Паскаля (Paris, 1938, 1960, 1963), А. Н. Робинсона (М., 1963), Б. Илека (Praha, 1967), В. В. Якубовского (Wrocław u. а., 1972), статьи В. В. Виноградова, Н. К. Гудзия, В. И. Малышева, Д. С. Лихачева, В. Е. Гусева и других. Особенно часто использовался текст Жития в связи с анализом воззрений Аввакума как одного из идеологов религиозно-общественного движения XVII века — старообрядчества, так как именно Аввакум в своей автобиографии ярко отразил напряженный момент духовной борьбы русского патриархального крестьянства XVII в. против феодального государства.2
Однако творческая история памятника, сохранившаяся не в одной, а в нескольких авторских редакциях, различия между которыми очень существенны, до сих пор не изучена. Житие обычно воспринимается исследователями как вполне законченное, готовое произведение и рассматривается без учета эволюции взглядов Аввакума, без учета изменений в его текстах, происшедших с течением времени. Различия редакций хотя и отмечались при изучении Жития, до сих пор не были предметом особого исследования и не анализировались ни в связи с изменениями взглядов Аввакума, ни в связи с эволюцией его стиля и принципов автобиографического повествования. Какова последовательность создания редакций Жития Аввакумом? Каковы его принципы переделки текста и в чем их причина? Являются ли изменения текста в различных редакциях следствием простодушного «вяканья» Аввакума, непроизвольной «текучести» текста, вызванной сказовой манерой писателя, или это результат сознательного творческого изменения формы? Каким был начальный этап работы Аввакума над Житием? Вот круг вопросов, которые исследуются в монографии. Вопросы эти очень существенны для анализа художественной структуры памятника, для изучения стиля и языка Жития, для исследования эволюции автобиографического повествования в творчестве Аввакума.
Книга состоит из введения и четырех глав. Введение кратко излагает историю изучения вопроса. В первой главе дается археографический обзор 57 списков (включая и фрагменты) трех редакций Жития и определяются источники для дальнейшего сопоставления текстов. Во второй главе монографии
- 4 -
исследуется взаимоотношение текстов этих трех редакций Жития, которые рассматриваются как определенные этапы литературной и идейной эволюции Аввакума. Третья глава посвящена изучению Прянишниковского списка Жития и той первоначальной редакции текста, которая, по нашему предположению, лежала в его основе; здесь же характеризуется начальный этап автобиографического творчества Аввакума. В четвертой главе рассматриваются сюжет и композиция Жития в связи с творческой историей памятника и в сопоставлении с другими типами автобиографического повествования в литературе XVII века.
Работа по изучению сочинений Аввакума была начата под руководством И. П. Еремина. При работе над книгой автор неоднократно пользовался советами В. И. Малышева и В. П. Адриановой-Перетц. Непосредственно помощь при подготовке книги к печати оказали Л. И. Сазонова и Е. К. Ромодановская.
Книга обсуждалась в Секторе древнерусской литературы Пушкинского дома и на кафедре русской литературы Ленинградского государственного университета. При написании книги были учтены замечания Д. С. Лихачева и Н. А. Мещерского. Автор искренне благодарит всех, кто помог в работе над книгой.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БАН
— Библиотека Академии наук СССР (Ленинград)
ГБЛ
— Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва)
ГИМ
— Государственный исторический музей (Москва)
ГПБ
— Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград)
ЖМНП
— Журнал Министерства народного просвещения
ИРЛИ АН СССР
— Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград)
ЛЗАК
— Летопись занятий Археографической комиссии
ОИДР
— Общество истории и древностей российских
ОЛДП
— Общество любителей древней письменности
ПДП
— Памятники древней письменности
РАНИОН
— Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук
РИБ
— Русская историческая библиотека
СОРЯС
— Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук
ТОДРЛ
— Труды Отдела древнерусской литературы
ЦГАДА
— Центральный государственный архив древних актов СССР (Москва)
ЧОИДР
— Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете
————
- 5 -
ВВЕДЕНИЕ
Житие протопопа Аввакума долгое время было известно в трех редакциях.1 Вслед за самым авторитетным изданием Я. Л. Барскова в Русской исторической библиотеке называем их редакциями А, Б и В.2 В 1949 г. В. И. Малышевым была найдена еще одна, четвертая по счету, особая редакция Жития, представленная единственным Прянишниковским списком.3
Первая попытка соотнесения текстов редакций Жития была предпринята Я. Л. Барсковым. Кратко характеризуя в предисловии к изданию известные ему три редакции — А, Б и В — как авторские редакции памятника, Барсков делал вывод о первоначальности текста А, сохранившегося в автографе и названного им первой редакцией; впоследствии этот текст был «сильно сокращен» и «переработан заново» — так возникла вторая редакция — Б; третья редакция — В — характеризуется большими дополнениями и распространениями текста. В предисловии была приведена таблица с указанием страниц и строк издания, где есть разночтения в текстах редакций, но таблица эта не сопровождалась какими-либо пояснениями и, отражая лишь самый факт различия текстов, для дальнейшего исследования вопроса практически оказалась непригодной. Время создания всех редакций Жития Барсков определял одним и тем же промежутком времени: он полагал, что, судя по датам, разбросанным в Житии, каждая из трех редакций может быть отнесена приблизительно к периоду патриаршества Питирима (27 июля 1672 г. — 19 апреля 1673 г.), только предисловие к редакции В («поучение питомникам церковным») было создано в 1675 или 1676 г. Возникновение редакций Барсков объяснял любовью Аввакума к «русскому природному языку», а также тем, что Аввакум рассылал свои сочинения разным адресатам (как отдельным
- 6 -
«чадам», так и целым кружкам старообрядческой «братии»).4
В издании Н. К. Гудзия были опубликованы разночтения к автографу («все важнейшие варианты» из двух других редакций), но, взятые вне контекста, они только наглядно фиксировали различие текстов, характеристика же редакционных изменений в книге отсутствовала. По-видимому, Гудзий не принял вывода Барскова о последовательности создания редакций Жития, он избегает цифрового обозначения, называя их только А, Б и В.5
В дальнейшем точка зрения Барскова была принята всеми другими исследователями Жития: П. Паскаль, В. Е. Гусев, А. Н. Робинсон те же редакции Жития называют первой, второй и третьей, но в отличие от Барскова высказывают мысль о постепенном совершенствовании Жития от редакции к редакции.
В фундаментальном исследовании французского слависта П. Паскаля содержится характеристика трех редакций и сделана попытка рассмотреть их как некое движение текста: «...когда книга была окончена, переписана и отослана в Окладниково для размножения и распространения, Аввакум почти тотчас к ней вернулся. Прежде всего он выкинул из нее лишнее: большое число отклонений от темы и даже фактов, которые он счел менее важными. Рассказ стал более динамичным, и автор более четко вырисовывался теперь как главный персонаж. Он не преминул ввести некоторые уточнения, отдельные детали, которые он вспомнил, даже целый новый эпизод о своей жизни на Мезени. Это была вторая редакция... Немного времени спустя Аввакум, не считая себя удовлетворенным, пересматривает еще раз, более тщательно первоначальный текст. Он исправляет стиль, меняет порядок слов, для большей гармоничности устраняет повторения, выбрасывает иногда — но не систематически — или слишком фамильярный, или устаревший оборот. Он улучшает некоторые пассажи, которым недоставало ясности. Он производит еще несколько сокращений, но добавляет некоторые, прежде неиспользованные факты, развивает религиозные соображения, ранее только намеченные, включает даже в состав сочинения две небольшие богословские статьи, только что написанные: первая — о том, как опасны „жертвы“ никонианские, вторая — о том, как надо креститься и благословлять. Эта третья (распространенная) редакция — рассудочное произведение, она характеризуется меньшей естественностью и непринужденностью, в ней встречаются осторожные замечания, выражаются благочестивые, дидактические намерения... Эта редакция ценна новыми фактами.
- 7 -
Две последние редакции были менее популярны, чем первая. Возможно, что третья редакция даже оставалась в Пустозерске до 1675—1676 гг. Тогда Аввакум решил отослать ее одному из староверов и присоединил к ней предисловие, добавленное к первоначальному „введению“».6
Эти замечания Паскаля — самый подробный анализ взаимоотношения трех редакций, имеющийся в научной литературе. Та же точка зрения была повторена Паскалем и в новом издании его перевода Жития на французский язык,7 причем здесь представления Паскаля о последовательности возникновения редакций были подкреплены его соображениями об их датировке.
Паскалем был сделан наиболее основательный анализ данных, датирующих текст Жития.8 Приведем его соображения полностью, так как до сих пор они еще не были рассмотрены в специальной литературе.
Дату редакции А, по Паскалю, установить легко:
1) terminus a quo: в тексте автографа редакции сообщается (л. 262 об.), что у Лазаря «вырос язык» через «два года» после пустозерской казни 14 апреля 1670 г., «в три дни», т. е. это значит, что отрывок написан после 16 апреля 1672 г.;
2) Аввакум писал (л. 197 об.), что он «двадцать лет» уже имеет сан протопопа; если к марту или апрелю 1652 г.9 прибавить 20 лет, получим март (или апрель) 1672 г.;
3) Аввакум писал (л. 218 об.), что его дочери Аграфене уже 27 лет. Так как известен год рождения Аграфены (1645)10 и, вероятно, день — 16 июня (память святой Агриппины празднуется 23 июня), то 27 лет ей исполнилось 16 июня 1672 г.
Это последнее указание — terminus ad quem. Другие датирующие элементы текста не столь существенны, полагает Паскаль. Его вывод: «Создание редакции А относится ко второй половине 1672 года».
В редакции Б первое и второе датирующие указания сохранены (ср.: РИБ, стб. 131, 90), однако Паскаль считает возможным предположить, что она была написана некоторое время спустя после первой редакции, в конце 1672 г. или в начале 1673 г.
- 8 -
Датировка редакции В, по мнению Паскаля, более сложна, так как, с одной стороны, в предисловии автор сообщает, что ему 55 лет (если Аввакум родился в конце ноября 1620 г., то предисловие было написано в конце 1675 г.), с другой стороны, в основном тексте мы встречаемся с данными до сентября 1673 г.: второе датирующее указание редакции А (о двадцати годах протопопства) остается здесь без изменений; как и в редакции А, автор игнорирует события 1675 г. (смерть Морозовой 1 ноября,11 Урусовой — 11 сентября, митрополита Павла — 9 сентября). Кроме того, два персонажа Жития по-прежнему волнуют его — Иларион Рязанский (умер 9 июня 1673 г.12) и Федор Ртищев (умер 21 июня 1673 г.). Известие об их смерти должно было прийти в Пустозерск в конце августа, а Аввакум представляет их себе живыми. Паскаль присоединяется к выводу П. С. Смирнова13 и Барскова: основной текст был написан в 1672—1673 гг. и остался без изменений, потом — в 1675—1676 гг. был дополнен предисловием. Вывод Паскаля: все три редакции были написаны одна за другой в 1672—1673 гг.
Заметим, что Паскаль недостаточно строг в выборе аргументов для датировки: первое и второе датирующие указания есть в текстах двух других редакций, а не только А, они входят в общий для всех трех редакций первоначальный слой повествования и, следовательно, не могут датировать только редакцию А. В то же время Паскаль чересчур категоричен: указания на время, которые делает сам Аввакум, — не точно календарные, а приблизительные; в тексте Б он мог употребить выражение «два года» для обозначения, скажем, зимы 1671—1672 гг. (к этому времени прошло около двух лет) и т. д.
Недоказанной осталась датировка редакции А (почему вторая половина 1672 г., а не первая половина 1673 г., до 16 июня, когда Аграфене должно было исполниться 28 лет?); редакция Б без всяких аргументов была отнесена Паскалем к концу 1672 — началу 1673 г. Но Паскаль прав в том, что «чудесное» событие с Лазарем, действительно, является нижней границей создания этих редакций Жития.
Как видим, выводы Паскаля повторили выводы Барскова. Этот взгляд на время и последовательность создания редакций Жития принят во всех работах, посвященных Житию.
«Известны три основные редакции Жития. Первая редакция была написана Аввакумом в 1672—1673 гг. Третья редакция, судя по предисловию к ней, — не позже 1676 г... В промежутке
- 9 -
между этими датами создавалась вторая редакция»,14 — пишет В. Е. Гусев. «Сравнительный анализ редакций сборника показывает, что хотя рукопись в целом разрасталась, но собственно Житие сжималось, совершенствовалось, приобретало все большее композиционное, стилистическое, жанровое единство, — так характеризует Гусев направление изменений Жития, ссылаясь на анализ Паскаля, приведенный выше. — Обогащаясь новым фактическим материалом, Житие освобождалось от авторских рассуждений по поводу излагаемых событий, от некоторых рассказов о чудесах, полемических выпадов, риторических сентенций, — от всего, что в первой редакции нарушало последовательность повествования».15
Неясность принципов творческой работы Аввакума над Житием, отсутствие объяснения причин переделки ранее написанного им текста приводят исследователя к выводу, что «рукопись, именуемая во всех исследованиях и учебных пособиях Житием, в сущности не является единым по жанру произведением, а представляет собою сборник разнородных, хотя и более или менее связанных друг с другом произведений, состав и композиция которого в различных редакциях и списках менялись».16
В дальнейшем суммарная характеристика работы Аввакума над Житием была дана Робинсоном: «Варьируя автобиографию, Аввакум вносил в нее много нового: это были и новые исторические подробности, эпизоды из жизни, воспоминания, ярко возникающие перед его духовным взором во мраке темницы, и литературные реминисценции, и важные программно-философские заявления об отношении к „природному“ русскому языку, и то усиливающиеся, то ослабевающие полемические выпады или лирические отступления, и всевозможные редакторские сокращения, частные добавления или исправления. Но в отличие от обычной практики представителей новой литературы Аввакум (как отчасти и Епифаний) не преследовал цели создания окончательного текста произведения, а выносил его варианты прямо на суд читателя по мере выпуска рукописного „тиража“ своих сочинений. Каждый раз Аввакум заново определял характер и детали автобиографии (то краткое изложение — в виде второй редакции, то распространенное изложение в форме послания — третья редакция) в зависимости от конкретного намерения направить ее тому или иному адресату».17
- 10 -
Как видим, Робинсон представляет себе работу Аввакума над Житием как вольную импровизацию, и не случайно понятие «редакция текста» заменяется в его характеристике словом «вариант». По существу, в трех редакциях Жития Робинсон видит импровизационные варианты текста, который в принципе не мог быть окончательным. И хотя Робинсон упоминает о «характере» редакций («Каждый раз Аввакум заново определял характер и детали автобиографии...»), различие их он видит в объеме: «краткое изложение» («вторая» редакция) — «распространенное изложение в форме послания» («третья» редакция).18 Рассматривая вопрос о соотношении редакций Жития Аввакума главным образом в свете изучаемого им процесса творческого взаимодействия Аввакума и Епифания, Робинсон приходит к выводу: «...по мере работы Аввакума над своим жизнеописанием, по мере совершенствования его от редакции к редакции связи между двумя авторами все более укреплялись».19
Итак, путь Жития — от первой редакции (А) к третьей (В); вторая редакция (Б) — один из промежуточных этапов в совершенствовании Аввакумом художественной формы.
Объяснение движения текста его «совершенствованием» вызывает целый ряд недоуменных вопросов. Если в редакции Б, «второй» по отношению к А, Аввакум стремится улучшить повествование, сделать его более сжатым, динамичным, как считает Паскаль, то почему он вместе с тем и распространяет его в ряде случаев, причем за счет эпизодов второстепенных в художественном и смысловом отношении (в редакции появляется «дополнительная» в сюжетном плане повесть — описание борьбы Аввакума с «бесами» у постели больной жены мезенского воеводы Цехановицкого и нет важнейшего для Жития эпизода — сцены благословения Анастасией Марковной Аввакума на подвиг, на борьбу с «никонианами»)? Почему в этой «второй» редакции отсутствует «приступ» к Житию — молитва Аввакума к «троице» с просьбой «управить ум» и «утвердить сердце», снова возникающая в «третьей»? Как объяснить появление в редакции Б подробного рассуждения Аввакума об умершем сыне Морозовой Иване Глебовиче, если оно отсутствовало в редакции А, где о смерти Ивана Глебовича уже упоминалось?
Спорно и утверждение о более «совершенном» виде редакции В, последней из трех авторских редакций Жития. Нам представляется, что она с точки зрения художественной цельности текста во многом уступает редакции А. Неясно, какое место занимает среди других редакций памятника редакция Прянишниковского списка, действительно ли так «текуч», вариативен и неопределенен текст Жития, что трудно уловить
- 11 -
характер его редакций и что основной отличительной чертой их является объем — сокращенный или распространенный по отношению к тексту автографа А?
Совершенно очевидно, что вопрос о соотношении редакций Жития нуждается в тщательном исследовании, и, рассмотрев движение текста Жития, мы сможем разобраться в творческих принципах его композиции.20
————
- 12 -
Глава I.
АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СПИСКОВ ТРЕХ РЕДАКЦИЙ
ЖИТИЯИзучение взаимоотношений текстов различных редакций Жития следует начать с рассмотрения всех дошедших до нас списков — реальных источников наших сведений о текстах редакций. Поэтому задача первой главы — археографический обзор списков Жития редакций А, В и Б (такая последовательность анализа объясняется тем, что вначале рассматриваются тексты, сохранившиеся в автографах), выяснение их соответствия авторскому тексту (автографу или архетипу редакции), краткое описание и анализ состава сборников, содержащих эти редакции Жития.1 При этом следует отметить, что редакционную принадлежность некоторых фрагментов из Жития установить не удалось, так как они являются отрывками из вступительной полемической части к Житию, общей для всех редакций, и встречаются в рукописях отдельно, вне Жития:
1) ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 149 (дополнительный каталог), 8°, л. 57—57 об., конец XVII — начало XVIII в.
Отрывок об аллилуйе; начало: «Григорий Нисский толкует аллилуйя...»; конец: «...ему же слава ныне и присно и во веки веком. Аминь!» (ср.: РИБ, стб. 5—6). Сборник состоит из сочинений Аввакума и инока Авраамия, отрывок об аллилуйе находится среди ранних пустозерских сочинений Аввакума (послание к «рабом Христовым», «записка» о пустозерской казни 1670 г., отрывок из 8-й беседы о видении антихриста и др.).
2) ГПБ, O.XVII.48 (собр. П. Д. Богданова, № 26), 8°, конец XVIII — начало XIX в. (о сборнике см. ниже, с. 14).
- 13 -
Наряду с полным текстом Жития в редакции А содержится несколько отрывков: а) л. 297—298 об., начало: «Дионисий пишет о небесных силах, расписует...»; конец: «...избави, боже, сего начинания злаго» (ср.: РИБ, стб. 5—6); б) л. 298 об. — 299 об., начало: «Есть на небеси 5 звезд заблудных...»; конец: «...что делается в земле нашей за нестроение церковное» (ср.: РИБ, стб. 3—4); в) л. 299 об., начало: «Чтый да разумеет...»; конец: «Чти Апостол, зачало 275» (ср.: РИБ, стб. 3).
Эти фрагменты нуждаются в специальном исследовании, так как они являются, возможно, не выписками из Жития, а только подготовленными материалами для его вступительной полемической части (обращает на себя внимание их «литературный конвой» — ранние сочинения Аввакума пустозерского периода).
РЕДАКЦИЯ А
Редакция Жития, обозначенная Я. Л. Барсковым как редакция А, сохранилась в автографе — в знаменитом Пустозерском сборнике из собрания В. Г. Дружинина (БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 746) и в большом количестве списков XVIII—XIX вв. При издании текста Жития Барскову были известны (кроме автографа) только шесть списков редакции А.2 Пятнадцать неизвестных ранее списков редакции и четыре небольших фрагмента из Жития в этой редакции были найдены В. И. Малышевым. Таким образом, в настоящее время вместе с автографом известен двадцать один полный список Жития в редакции А и четыре списка, содержащих отрывки текста.
Полные списки Жития
1. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 746 (старый № 790), 8°, л. 189—285 об., автограф; далее Д.3
Текст Жития находится здесь в составе сборной рукописи 70-х годов XVII в., написанной в Пустозерской земляной тюрьме и содержащей сочинения пустозерских узников — Аввакума, Епифания, Лазаря, Федора (в автографах и в списках); рукопись описана В. Г. Дружининым в его кн.: Пустозерский сборник. Спб., 1914. См. также: La vie de l’archiprêtre Avvakum, écrite par lui-même, et sa dernière épître au tsar Alexis, traduites du vieux russe avec une introduction et des notés par Pierre Pascal. Paris, 1960, p. 25—27; Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 105—107. Об истории находки Пустозерского сборника см.: Малышев В. И. Две заметки о протопопе Аввакуме. — В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М. — Л., 1959, с. 344—352.
2. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 59 (старый № 83), 4°, л. 2—57 об., конец XVIII — начало XIX в., далее Д 59.
В текст Жития внесены дополнения (над строкой и на полях на л. 2—27) из редакции Б (изданы в РИБ, стб. 11—35). Житие находится здесь в составе большого цикла сочинений Аввакума, в который входят: «Книга бесед» (вступление, беседы 1-я — 4-я), послание «горемыкам миленьким»
- 14 -
(редакция «в»), письмо Маремьяне Федоровне (редакция «б»), отрывки из «Нравоучения», из 8-й беседы (о видении антихриста), «пятая» челобитная царю Алексею Михайловичу; цикл сопровождается «Сказанием о Павле Коломенском» («вкратце»).
3. ГПБ, O.XVII.48 (собр. П. Д. Богданова, № 26), 8°, л. 102—153 об., конец XVIII — начало XIX в.; далее Бг.
Сборник из Выговской пустыни с владельческой записью 1822 г. подробно описан И. А. Бычковым в его кн.: Каталог собрания славянорусских рукописей П. Д. Богданова, вып. 2. Спб., 1893, с. 49—60. Житие Аввакума находится в сборнике среди выговских сочинений («Слово о начале общежительства... на Выгу...») и памятников ранней старообрядческой литературы (отрывок из послания дьякона Федора к сыну Максиму, послание инока Авраамия «к некоему боголюбцу», отрывки из «Книги бесед» Аввакума, из его послания «рабом Христовым»); на л. 297—299 об. — отрывки из Жития (см. выше, с. 12).
4. ГБЛ, собр. Московской духовной академии (ф. 173), № 69 (по временному каталогу), 1º, л. 24 об. — 48, первая четверть XIX в.; далее Мда.
Как установил В. И. Малышев, это та самая рукопись, по которой Н. С. Тихонравов осуществил первое издание Жития в 1861 г. (Малышев В. И. История первого издания Жития протопопа Аввакума. — «Рус лит.», 1962, № 2, с. 147). Житие в сборнике предварено «пятой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу и поздними старообрядческими статьями.
5. ГБЛ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1803, 4°, л. 1—105, первая четверть XIX в.; далее Ег 1803.
Рукопись впервые указана и описана В. И. Малышевым в ст.: Заметка о рукописных списках Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1951, т. VIII, с. 382. Состав: Житие и «пятая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу.
6. ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 258, 4°, л. 1—95, первая четверть XIX в.; далее Хл 258.
Рукопись подробно описана А. Н. Поповым в его кн.: Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, с. 513. Состав сборника: Житие, «пятая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу, «Видение благовещенского протопопа Терентия».
7. ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 353, 4°, л. 1—75 (во второй части сборника), 1834 г.; далее Хл 353.
Рукопись написана известной московской старообрядкой Е. Г. Брониной (Скачковой); подробно описана А. Н. Поповым (с. 650—651). См. также замечания Н. Субботина в кн.: Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые под ред. Н. Субботина, т. V. М., 1879, с. XXIII—XXIV. Бронина использовала при создании своего сборника три источника: все они отмечены в ее рукописи особой для каждой части пагинацией. Оригиналом для второй части сборника Брониной, содержащей Житие, послужила рукопись, близкая к Ег 1803 (вторая часть Хл 353 состоит из Жития в редакции А и «пятой» челобитной Аввакума).
8. ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 794, 4°, л. 1—109 об., первая четверть XIX в.; далее Ув.
Рукопись по составу подобна Ег 1803. Описана архимандритом Леонидом в его кн.: Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова, ч. I. М., 1893, с. 579, № 493 (Леонид датировал рукопись
- 15 -
XVIII в.). На л. 109 об. карандашная помета (XIX в.): «Сия история кажетца соврана, либо сложена от враля или сторонаго (так!) шутника для одного кощунаго смеха».
9. Ярославский областной краеведческий музей, № 798 (15161), 8°, л. 1—114 об., первая треть XIX в.; далее Якм 798.
Сборник указан В. В. Лукьяновым в его обзоре: Собрание рукописей Ярославского областного краеведческого музея. — ТОДРЛ, М. — Л., 1954, т. X, с. 476. Описан в его кн.: Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. Ярославль, 1959, с. 56. Состав сборника подобен Хл 258.
10. ГПБ, Q.I.484, 4°, л. 1—87, первая треть XIX в.; далее ГПБ 484.
Содержит только Житие. Рукопись кратко описана в кн.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 111.
11. БАН, собр. С. Г. Строганова, № 41 (38), 4°, л. 3—88 об., первая треть XIX в.; далее С.
Состав сборника подобен Ег 1803. Рукопись указана и описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 382).
12. ГБЛ, собр. Музейное (ф. 178), № 3861, 4°, л. 1—87, первая треть XIX в.; далее Муз 3861.
Состав рукописи подобен Хл 258. Рукопись впервые указана и описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 382).
13. ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 77, 4°, л. 3—97, первая треть XIX в.; далее Дрв 77.
Рукопись указана В. И. Малышевым, к изучению Жития привлекается впервые. Сборник (121 л.) писан поморским полууставом и украшен заставкой и инициалами поморского орнамента; переплет — доски в орнаментированной коже; водяные знаки: «Pro Patria», литеры «ФКНГ», «УФЛП», даты «1823», «1825», «1828». По составу сборник близок Хл 258 (содержит Житие, «пятую» челобитную и «Видение... Терентия»), но имеет дополнения («Притча св. Варлаама о трех друзьях» и «Слово от патерика» о пользе церковного пения).
14. ГИМ, собр. М. П. Вострякова, № 663, 4°, л. 1—98 об., 30-е годы XIX в.; далее В.
Рукопись впервые указана и описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 382); состав подобен Хл 258.
15. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 970, 4°, л. 1—49, 1837 г.; далее Бр 970.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 382—383); состав подобен Ег 1803 г. Текст Жития в этом списке иногда заметно подновлен переписчиками, заглавие Жития: «Бытие, состоящее о исповедании православной христианской веры, исповедника отца Аввакума протоиерея. Он понужден был Житие свое написать иноком Епифанием, понеже сей инок отец ему духовный бысть, да не забвению предано будет дело божие во славу Христу, богу нашему».
16. ИРЛИ, Древлехранилище, Усть-Цилемское собр., № 49, 4°, л. 2—73, 30-е годы XIX в.; далее У-Ц 49.
Сборник состоит из цикла сочинений, идентичного Хл 258 и дополненного письмами выголексинцев (1831 г.). Владельческие записи сообщают
- 16 -
о чтении рукописи в 1840 г. известным печорским писателем И. С. Мяндиным. Рукопись найдена В. И. Малышевым и подробно описана в его кн.: Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XIX вв. Сыктывкар, 1960, с. 102.
17. ГБЛ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1085, 4°, л. 1—126 об., 30-е годы XIX в.; далее Ег 1085.
Состав сборника подобен Ег 1803. Заглавие Жития особое: «Житие и подвиги новаго страдальца за благочестие Аввакума протопопа, списанныя Епифанием, иноком Соловецкой лавры, духовным его отцем, во славу божию и пользу чтущих». Рукопись указана и описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 383).
18. ИРЛИ, Древлехранилище, Текущие поступления, оп. 23, № 81, 4°, л. 1—69, середина XIX в.; далее Дрв 81.
Состав сборника подобен Ег 1803, рукопись описана В. И. Малышевым в его образе: Сочинения протопопа Аввакума в собрании Пушкинского дома АН СССР. — ТОДРЛ, Л., 1968, т. XXIII, с. 323.
19. ИРЛИ, Древлехранилище, Текущие поступления, оп. 23, № 96, 4°, л. 1—50 об., середина XIX в.; далее Дрв 96.
Содержит только Житие в редакции А — копию текста Мда. На л. 1 заглавие: «Автобиография протопопа Аввакума» и помета (почерком писца): «Выписано из рукописи Московской духовной академии». Описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. XXIII, с. 323); по предположению Малышева, это цензурный экземпляр первого издания Жития 1861 г.
20. Государственный Музей украинского искусства (Львов), № 100/480 301, 8°, л. 1—146, вторая половина XIX в.; далее Л.
Содержит только текст Жития в редакции А. Рукопись указана и описана Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 382).
21. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 526 (старый № 557), 4°, л. 9—119 об., вторая половина XIX в.; далее Д 526.
О составе рукописи см. ниже, с. 22—23.
Отрывки из Жития
1. ИРЛИ, Древлехранилище, архив журнала «Русская старина» (ф. 265), оп. 3, № 6, 8°, л. 143—143 об., третья четверть XVIII в.
Начало: «Да что много говорить! Аще бы не были борцы...»; конец: «Будьте они прокляты со всем своим замыслом лукавым, и страждущим от них вечная память» (ср.: РИБ, стб. 65—66). Рукопись описана В. И. Малышевым в его обзоре: Сочинения протопопа Аввакума в собрании ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом). — ТОДРЛ, М. — Л., 1957, т. XIII, с. 585.
2. БАН, Текущие поступления, № 414/928, 4°, 3 л., начало XIX в.; далее Тп 414.
Отрывок из Жития «О причастии»; начало: «Выписано из писем Аввакомовых (так!) о причащении. Аще священника нужды ради...»; конец: «Полно про то говорить, и сами знаете, что доброе дело» (ср.: РИБ, стб. 30). Указан Малышевым в обзоре: Отчет о командировке и село Усть-Цильму Коми АССР. — ТОДРЛ, М. — Л., 1949, т. VII, с. 476.
- 17 -
3. ИРЛИ, Древлехранилище, Усть-Цилемское собр., № 48, 8°, л. 1—17, первая четверть XIX в.; далее У-Ц 48.
Только начало Жития; в тексте большие пропуски — отсутствует вся полемическая часть вступления к Житию. Начало: «Аввакум протопоп понужден Житие свое написати священноиноком Епифанием, понеже он был ему отец духовный. Сице начиная Аввакум сказывати про свое Житие. Аз, Аввакум протопоп, сице живу и умираю. Рождение же мое...»; конец: «...ночью, покиня жену и дети, по Волге сам-третий ушел» (ср.: РИБ, стб. 1, 8—14). Текст заметно подновлен. Житие составляет отдельную рукопись. Сборник подробно описан Малышевым в его кн.: Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XIX вв., с. 101.
4. ИРЛИ, Древлехранилище, Северодвинское собр., № 17, 8°, л. 205 об. — 206 об., первая четверть XIX в.
Отрывок о причастии, близкий Тп 414; начало: «Списано из писем Аввакумовых о причащении. Аще священника нужды ради не прилучишь...»; конец: «...и паки богу помолись. Ну, слава Христу!» (ср.: РИБ, стб. 30). Рукопись указана Малышевым.
Впервые тщательное сличение текста списков редакции А с автографом было предпринято в монографии А. Н. Робинсона. Рассмотрев 10 списков редакции, не изданных в РИБ, Робинсон пришел к выводу, что эти списки восходят к тексту Жития из Дружининского сборника: в них сохранены все редакторские поправки Епифания, внесенные им в автограф Аввакума. Однако связь этих списков с автографом Аввакума, по мнению исследователя, была не непосредственная: у всех списков существовал общий протограф XVIII в., имевший ряд весьма характерных ошибок.4
Изучение текстов остальных списков редакции в основном подтверждает этот вывод Робинсона. Среди известных нам текстов редакции А не обнаружено «переходных форм» — новых авторских вариантов редакции. Все тексты почти идентичны, разночтений немного: писцы старались точно копировать текст Жития. Можно отметить только три своеобразных списка редакции — Бр 970, где слегка подновляется текст Жития, У-Ц 48, представляющий собой переработку начала Жития, и Д 59: один из читателей в XIX в. дополнил текст редакции А по какому-то списку редакции Б.
Таким образом, для исследования текста редакции А можно ограничиться только текстом автографа Д.
Пустозерский сборник с автографом Жития — сборная рукопись, состоящая из четырех частей.
В первую рукопись (л. 1—112 об., пронумерованы тетради с 1-й по 13-ю) входят: книга «Ответ православных», состоящая из введения, ряда глав («Свидетельства о исповедании святаго духа», «о превращении новых книг» и др.) и послесловия дьякона Федора; сочинение о патриархе Никоне («О волке и хищнике и богоотметнике Никоне достоверно свидетельство»);
- 18 -
«пятая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу; «Припись» о книге Симеона Полоцкого «Жезл правления»; далее, через некоторый промежуток (л. 106 об. чистый) идут две «записки» о событиях в Пустозерске («записка» «самовидца» о казни 14 апреля 1670 г. и «записка» Аввакума о посте пустозерских узников в 1671 г., рядом с ней на поле помета: «С протопоповы руки»). Уже В. Г. Дружинин отметил, что все эти статьи писаны одним почерком.5 Действительно, почерк первой части рукописи и почерк «записок» (л. 107—111 об.) очень напоминают почерк, которым написаны далее челобитные Лазаря.6 Вторая рукопись (л. 113—188 об.) с новым счетом тетрадей (с 1-й по 10-ю) содержит две челобитные священника Лазаря — царю и патриарху. Третья рукопись (л. 189—300 об.) состоит из 14 тетрадей; в ней находятся автографы Жития Аввакума в редакции А (л. 189—285 об.) и первой части Жития Епифания (л. 285 об. — 300 об.). Четвертая рукопись (л. 301—339 об.) начинается новым счетом тетрадей (с 1-й по 5-ю), написана рукой Аввакума, содержит три его сочинения: так называемое «Снискание и собрание о божестве и о твари», «О сложении перст», «О жертве никониянъской».
Существенные замечания о характере и истории создания Пустозерского сборника принадлежат А. Н. Робинсону, подробно описавшему совместную работу Аввакума и Епифания.7 Однако еще предстоит изучить Пустозерский сборник в целом как важнейшую совместную книгу всех пустозерских узников — писателей и идеологов старообрядческого движения, как книгу, в которую включалось Житие Аввакума. В связи с этим отметим некоторые ее особенности.
В составе первой рукописи четко различаются две части: чистый лист (л. 106 об.) отделяет «Припись» о книге Симеона Полоцкого «Жезл правления» от двух «записок» о событиях в Пустозерске. По нашему предположению, этот чистый лист как бы фиксирует границы разных источников, на основании которых была написана первая рукопись Пустозерского сборника. Одним источником ее были тетради с «Ответом православных», «пятой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу и прочими статьями, другим — тетрадь с двумя «записками» о пустозерских событиях.
- 19 -
Этот первый источник начальной рукописи Пустозерского сборника был скопирован не один раз: известна еще одна его копия — сборник XVII в. из собрания В. Г. Дружинина, № 762 (806), полностью воспроизводящий эту часть Пустозерского сборника, в том числе и такой редкий текст, как «Припись» о книге Симеона Полоцкого «Жезл правления».8
Если рассматривать первую часть начальной рукописи Пустозерского сборника как единый цикл сочинений пустозерских узников, тогда становится ясной функция «приписи» в композиции других текстов; она является как бы вторым послесловием к сборнику, завершая собой цикл этих сочинений, «книгу», составленную, по-видимому, в целом «снисканием» дьякона Федора и предназначенную для чтения «верными»: «Ведомо же ти буде и се, православный читателю, что в книге сей поминается о Жезле...»9 «Припись» была сочинена не ранее 1669 г., так как в ней упоминается книга «Мир с богом человеку», изданная в Киеве в 1669 г.10 Напомним, что об отправке похожего цикла сочинений на Мезень писал дьякон Федор осенью 1669 г. семье Аввакума: «А список (с „пятой“ челобитной. — Н. Д.) к вам послан с Поликарпом... И правила, и книга — ответ наш о православных догматех за руками — послано все с Поликарпом».11 Именно эти сочинения Аввакум «приказал» (Федор передает его наставления) отправить в Соловки и в Москву и давать «списывать» их «верным человеком, иже довольны будут и иных научити, а списовали бы добрым письмом».12
Таким образом, эта часть Пустозерского сборника представляет собой один из вариантов общей книги пустозерских узников, вариант весьма ранний: составление его было, по-видимому, закончено в 1669 г. Ведущее участие в создании этой книги принимал дьякон Федор, незадолго до этого написавший «Ответ православных».13
- 20 -
Две «записки» (о пустозерской казни и о посте), переписанные в первую рукопись Дружининского сборника из другого источника, относятся к более позднему времени — к 1670 и к 1671 гг. (они тоже предназначались для «верных»), но иных списков их до нас не дошло.
Характеризуя далее источники Пустозерского сборника Дружинина, важно указать на полную слитность в нем текстов Аввакума и Епифания. А. Н. Робинсон уже отметил факт сознательного объединения Жития Аввакума и Жития Епифания в один цикл в пределах одной рукописи.14 Укажем, что в Дружининском сборнике нет знака разделения и между Житием Епифания и следующими сочинениями Аввакума, находящимися в отдельных, заново пронумерованных тетрадях: четвертая рукопись соединена здесь «впритык» с третьей (между ними нет чистых листов) и вместе с ней составляет единый цикл. В следующем по времени создания Пустозерском сборнике — в сборнике И. Н. Заволоко15 — эти две части цикла также идут как одно целое: сразу вслед за Житием Епифания (первой частью), на середине л. 130 об., Аввакум начал переписывать текст «Снискания и собрания о божестве и о твари».
В связи с этими наблюдениями следует говорить не только о четырех рукописях, составляющих Пустозерский сборник, но и о четырех циклах сочинений пустозерских писателей, соединившихся в нем: цикл, связанный с литературной деятельностью дьякона Федора, комплекс исторических (автобиографических) «записок», цикл сочинений Лазаря и, наконец, совместный цикл Аввакума и Епифания.
Пустозерские авторы, по-видимому, приспосабливали ранее написанные тексты своих сочинений к задачам задуманной ими совместной книги. Наиболее наглядный тому пример — сочинения Лазаря. Его две «скаски» — челобитные царю и патриарху, написанные в феврале 1668 г. и уже отправленные адресатам 21 февраля 1670 г., были теперь снабжены «Предисловием» и особым заключением, которые должны были пояснить читателям сборника историю их создания, обстоятельства отправки царю и патриарху, а также цель их распространения «в мир». После текста челобитной патриарху на л. 185 Лазарь писал, обращаясь к читателям Пустозерского сборника, к «правоверным»: «Сего ради, еже писано, зло стражем, яко злодеи, и муку, и всякую нужду и разлучение терпим, и до смерти подвизаемся терпети, аще сын божий изволит. Сего ради всяк правоверный разумей терпения нашего вину, и молите бога, да утвердит нас во отеческих законах непоступных быти до конца».16
- 21 -
Мотивировка Лазаря («Сего ради... писано... всяк правоверный разумей терпения нашего вину...») созвучна замыслам Аввакума, создававшего свое Житие: «Да и о том уразумеют, за что нас отступники прокляли и осудили на смерть. Пускай ведома в людях правда и кривда» (редакция Б — РИБ, стб. 150); еще ближе текст Прянишниковского списка: «А мы того ради возвещаем о себе правоверным, за что нас отступники прокляли и осудили на смерть. Да ведомо будет всем верным человеком повсюду правда и неправда».17
Когда был сформирован Дружининский сборник? Время создания сборника определяется временем создания редакции Жития Аввакума, находящейся в нем, так как она — самый поздний текст сборника (датируется серединой 1673 г.18). Вряд ли создатели Пустозерского сборника, собрав его и предназначив к отправке «верным», долго держали рукопись в Пустозерске. Поэтому можно предполагать, что сборник был отправлен из Пустозерска уже летом (осенью) 1673 г.19
Отметим, что среди многочисленных рукописных сборников с текстом редакции А нет ни одного, который воспроизводил бы — полностью или частично — состав Пустозерского сборника: во всех сборниках с Житием в редакции А нет ни Жития Епифания, ни группы полемических сочинений Аввакума, ни сочинений других пустозерских узников. Единственный (кроме Жития) текст в этих рукописях, также восходящий к Пустозерскому сборнику, — это текст «пятой» челобитной Аввакума царю
- 22 -
Алексею Михайловичу (в отличие от белового автографа челобитной, написанной и отправленной царю в 1669 г. — ЦГАДА, собр. Госархива (разр. XXVII), № 601 — список Пустозерского сборника имеет характерное заглавие, повторенное всеми последующими копиями: «Сицево послание послано к царю от протопопа Аввакума с сотником 178 года из Пустозерския темницы»). Житие в редакции А, как правило, находится в рукописях вместе с этим текстом «пятой» челобитной (только 4 рукописи из 21, не считая отрывков, содержат текст Жития отдельно, без «пятой» челобитной: Бг, ГПБ 484, Л, Дрв 96). Иногда этот цикл сочинений Аввакума представлен в чистом виде (Ег 1803, Хл 353, Бр 970, С, Ег 1085, Дрв 81), иногда Житие и «пятая» челобитная сопровождаются повестью «О видении некоему мужу духовну» («Видение благовещенского протопопа Терентия»), публицистическим текстом эпохи Смуты (Хл 258, Якм 798, Муз 3861, В, Дрв 77, У-Ц 49). В некоторых рукописях (Мда, Д 59, Д 526) «пятая» челобитная и Житие соединены со старообрядческими сочинениями более позднего времени и сочетаются с другими циклами текстов Аввакума. Так, например, весьма сложным по составу оказывается сборник Д 526. Хотя он представляет собой единую рукописную книгу, написанную одним почерком, происхождение отдельных его частей различно. Мы видим в Д 526 соединение нескольких рукописных «потоков».20
В первую часть сборника (л. 1—196 об.) входят: Житие в редакции А, «пятая» челобитная и цикл сочинений Аввакума, состоящий из: 1) «Книги бесед» (особой редакции); 2) «Книги (или послания) всем нашим горемыкам миленьким» в редакции «в» (т. е. «Книги» особого, сокращенного типа); 3) отрывков из челобитной Аввакума царю Федору Алексеевичу; 4) отрывков из двух посланий Симеону; 5) письма Аввакума Маремьяне Федоровне (редакция «б»); 6) отрывка из его «Нравоучения» в «Книге толкований». Эти выписки из сочинений Аввакума, несомненно, восходят к полным текстам его произведений; отметим попутно, что содержание цикла напоминает состав сборников с Житием в редакции Б, где имеются полные тексты его «Книги бесед» и этих посланий.21
- 23 -
Эта часть Д 526 завершается «историей» раннего старообрядчества — известиями о Павле Коломенском, о соборе старообрядцев в 1656 г., об игумене Досифее, а также выписками из сочинений и посланий выгорецких деятелей. Состав первой части Д 526 и последовательность расположения сочинений совпадают с Д 59 (завершающие статьи в Д 59: «Сказание о страдании и скончании» Павла Коломенского в сокращении, выписки из книг).
Вторая часть (л. 197—234) содержит «Словотворение инока Феоктиста об антихристе и тайном царстве его», выписку из «Епистолии... страдальцев... ис пустозерской темницы» «брату Иоанну», послание Аввакума «верным» (редакция «а») и «записку» Аввакума о казни в Москве. Эта часть включает в себя уже другой цикл сочинений Аввакума, зафиксированный в сборниках: БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 166 (202), XVIII в.; ЛОИИ, собр. Воронцовых (ф. 36), № 711, XVIII в.; ГПБ, собр. А. А. Титова, № 4336 (1836), последняя четверть XVIII в.
Третья часть Д 526 (л. 237—263 об.) содержит «Известие о Филиппе старце, от которого и согласие Филиппово имянуется»;22 четвертая (л. 269—402) — сочинения выговских писателей (послания Андрея Денисова и др.).
Изучение состава сборников с Житием в редакции А привело Робинсона к выводу о связи общего протографа всех этих рукописей с деятельностью книжников Выговской пустыни в первой половине XVIII в. Именно здесь, по мнению исследователя, из Пустозерского сборника было сделано извлечение Жития и «пятой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу; именно здесь перестала переписываться автобиография Епифания (первая часть), так как она «была переработана и вошла в состав только что написанной подробной и риторически украшенной его биографии».23 Одним из аргументов существования текста редакции А на Выге является для Робинсона состав Д 526, сборника второй половины XIX в., который «изобилует сочинениями выговских писателей и, несомненно, тяготеет по своему происхождению к литературной среде Выговской пустыни первой половины XVIII в.».24 Выше мы показали, что наличие в Д 526 большого числа выговских сочинений — факт позднего соединения разных рукописных традиций, и, следовательно, нет оснований рассматривать этот тип сборника как протограф всей группы.
- 24 -
Но отмеченное Робинсоном распространение Жития в редакции А на Выге является несомненным фактом. Приведем еще одно подтверждение этому и даже более раннее по времени, чем пример Робинсона: укажем на выговский сборник Бг конца XVIII — начала XIX в. с редакцией А, в котором сохранились не только выговские сочинения, но и владельческие записи выговцев. Сочинения выговцев находим мы и в сборнике У-Ц 49. Все это доказывает факт существования Жития в редакции А на Выге,25 но только Жития, а не Пустозерского сборника в целом. Возможно, Пустозерский сборник «побывал» на Выге, однако у нас нет никаких данных о знакомстве с ним выговских книжников.26 Напомним, что во всех сборниках, содержащих редакцию А, т. е. редакцию Жития из Пустозерского сборника Дружинина, отсутствует не только Житие Епифания, но и другие сочинения из этого сборника, причем сочинения, несомненно, представлявшие для выговцев интерес: нет ни «Ответа православных», ни сочинений о Никоне и т. д.
Поэтому можно предположить, что «пятая» челобитная Аввакума Алексею Михайловичу и его Житие, переписанные из Пустозерского сборника Дружинина (может быть, на Мезени, где находилась семья Аввакума), попали на Выг уже в виде отдельной рукописи (именно таков, например, состав сборников Ег 1803, Хл 353, Бр 970, С, Ег 1085, Дрв 81). К этой отдельной рукописи аввакумовских сочинений, выделившихся из Пустозерского сборника, время от времени присоединялись другие тексты.
Таким образом, сопоставительный анализ состава рукописей с текстом редакции А убеждает нас в том, что общий протограф всех списков этой редакции довольно рано (может быть,
- 25 -
в конце XVII в.) был переписан из сборника вместе с «пятой» челобитной27 и начал самостоятельную жизнь в новом литературном окружении.
РЕДАКЦИЯ В
Текст этой редакции, представленный вначале единственным Казанским списком, впоследствии был известен только в двух списках.28 Четыре новых списка редакции обнаружил В. И. Малышев, а в 1966 г. И. Н. Заволоко стал владельцем сборника с автографами Аввакума и Епифания, который он подарил в Древлехранилище ИРЛИ АН СССР.29 Таким образом, в настоящее время вместе с автографом известны 7 списков редакции.
1. ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 43 (Сборник Заволоко), 8°, л. 1—115 об., автограф; далее Зв.
Текст Жития находится в составе сборной рукописи автографов сочинений Аввакума и Епифания, оформленной в 1675 г.;30 содержание: л. 1 — 2 об. — «Поучение аввы Дорофея о любви» и обращение к «питомникам церковным» (на л. 2 — рисунок Аввакума, дополненный Епифанием); л. 3—3 об. — послание Аввакума «чаду возлюбленному Алексею» и текст «Исусовой молитвы», написанной Епифанием; л. 4—115 об. — Житие Аввакума; л. 116—130 об. — первая часть Жития Епифания; л. 130 об. — 162 об. — сочинение Аввакума «Снискание и собрание о божестве и о твари»; л. 164 — новое заглавие к Житию Аввакума, написанное Епифанием, и похвала кресту (на л. 164 об. — изображение креста); л. 165—190 — вторая часть Жития Епифания, адресованная «чаду Афанасию». На л. 192 об., подклеенном к нижней крышке переплета, — старое заглавие к Житию Аввакума, заключенное в рамку из трех концентрических окружностей (аналогичное оформление заглавия в сборнике Дружинина). Л. 1—3, 164 до реставрации свободно вынимались из рукописи, теперь прикреплены к корешку. О рукописи см.: Малышев В. И. Найден рисунок протопопа Аввакума. — «Русские новости», Париж, 1968, № 1191, 19 апр., с. 2; Демкова Н. С. Уникальный автограф Жития протопопа Аввакума. — «Вопр. языкознания», 1969, № 1, с. 127—130; Малышев В. И. Новые поступления... — «Рус. лит.», 1969, № 2, с. 123—124; Румянцева В. С. Автореф., с. 16—18.31
- 26 -
2. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 245 (старый № 291), 4°, л. 2—73 об., 60-е годы XVIII в.; далее Д 245.
Житие находится в составе поморской копии сборника Заволоко. Сборник кратко описан Я. Л. Барсковым (Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 370). Д 245 представляет собой парадную поморскую копию сборника Заволоко, предназначенную для дальнейшего распространения (около заголовков отдельных статей, писанных чернилами, на полях указано: «Писать киноварью»). Есть миниатюра, воспроизводящая рисунок Аввакума; она выполнена в пышной поморской манере, обильно украшена золотом, подписи Аввакума под рисунком изменены («Иоаким патриарх» вместо «Павел митрополит», бранные прозвища отсутствуют и т. д.). Последовательность статей в Д 245 аналогична сборнику Заволоко.
3. Рукопись Казанской духовной академии, № 1679 (109), 4°, л. 1—93 об., XVIII в.; далее Казанский список или Кда (местонахождение неизвестно).
Житие находилось в составе поморской копии сборника Заволоко. Рукопись была подробно описана А. К. Бороздиным, который нашел ее и впервые опубликовал по ней текст неизвестной ранее особой редакции Жития (тогда — «второй», теперь — редакции В). См.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Спб., 1900, с. XII. Краткое описание рукописи в кн.: Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. с. 370—371; здесь же — последнее упоминание рукописи в научной литературе (указание Барскова о работе с ней в собрании Археографической комиссии в Петербурге). Как можно судить по описаниям Бороздина и Барскова, рукопись Кда была очень близка Д 245: тот же «пышный» стиль воспроизведения непритязательного рисунка Аввакума, те же, уже измененные, надписи к нему. Состав рукописи был идентичен Д 245, несколько другим был только порядок статей в начале: сборник открывался похвалой Аввакума русскому языку, затем шли новое заглавие к Житию с похвалой кресту, «Поучение аввы Дорофея о любви» и т. д. (в соответствии со сборником Заволоко).
4. ГПБ, собр. А. А. Титова, № 4218, 4°, л. 1—56, конец XVIII в.; далее Т 4218.
Содержит одно Житие. Рукопись найдена и кратко описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). Житие имеет заглавие: «Житие и страдание протопопа Аввакума». Начало утрачено; нет «Поучения аввы Дорофея о любви» и рисунка, текст начинается со слов: «Бог любы есть...».
5. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 200, 4°, л. 2—97 об., конец XVIII — начало XIX в.; далее Бр 200.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). Житие находится в рукописи сложного по содержанию состава: в ней соединились различные циклы сочинений старообрядческих авторов XVII в., сформировавшиеся также, по-видимому, уже в XVII в. Первая часть рукописи содержит копию сборника Заволоко; последовательность начальных статей: похвала кресту, заключенная в рамку, точно копирующую рамку, нарисованную рукой Епифания в сборнике Заволоко, и новое, распространенное заглавие Жития; изображение креста, обращение Аввакума к «чаду возлюбленному», «Поучение аввы Дорофея о любви», далее следует (причем с середины листа, как и в сборнике Заволоко) рисунок, выполненный пером, точно копирующий рисунок Аввакума (все изображения снабжены подписями, некоторые из них искажены: «свел» вместо «Павел», «Иринарх» вместо «Иларион»); обращение Аввакума к «питомникам церковным»; далее идут те же статьи, что и в сборнике Заволоко. Вторая часть рукописи — особый цикл сочинений Авраамия и Аввакума («Вопрос и ответ старца Авраамия», его послание «об антихристовой прелести» и ряд редких
- 27 -
посланий Аввакума — Борису, Исидору, Алексею Копытовскому и др.).32 Третья часть — встречающийся и в других рукописях обширный цикл произведений старообрядческих авторов XVII в.: «Молебное писание» Спиридона Потемкина, послания Ивана Неронова царю Алексею Михайловичу, протопопу Стефану Вонифатьеву и царице Марии Ильиничне и присоединяемая обычно к ним «первая» челобитная Аввакума царю в редакции «б».33
6. ГПБ, собр. ОЛДП, Q. 730 (8716), л. 1—89, 4°, XIX в.; далее ОЛДП.
Сборник указан и кратко описан Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 385). ОЛДП почти точно повторяет первые две части Бр 200, заканчиваясь старообрядческим сочинением о крещении; сочинения третьего цикла — С. Потемкина, И. Неронова и других — отсутствуют.
7. БАН 1.1.39 (Нов.), собр. А. Е. Бурцева, № 10, 4°, л. 2—92, начало XIX в.; далее Бц.
Житие находится в составе поморской копии сборника Заволоко (неполной). Сборник указан и кратко описан Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). В рукописи отсутствуют: послание Аввакума «чаду возлюбленному», «Поучение аввы Дорофея о любви», обращение Аввакума к «питомникам церковным». Текст Жития начинается с «Исусовой молитвы» (в сборнике Заволоко находится на л. 3 об.), и далее повторяются статьи сборника Заволоко (новое заглавие к Житию и похвала кресту расположены перед второй частью Жития Епифания).
Уже анализ состава сборников, содержащих Житие в редакции В, показывает, что в основе всех списков лежит текст сборника Заволоко. Сопоставление списков с автографом обнаруживает существование двух рукописных традиций воспроизведения текста Аввакума: одна восходит непосредственно к сборнику Заволоко (списки Бр 200, ОЛДП, Т 4218 дословно копируют его текст), другая (списки Д 245, Бц, ныне не отысканная рукопись Кда) отражает следы осторожной, но последовательной правки, сделанной, вероятно, на Выге (почерк и оформление рукописей связаны с поморскими традициями).
В работе редактора протографа этой группы списков заметна тенденция к «славянизации», к стиранию ярких черт аввакумовского просторечия: пропускаются характерные для Аввакума разговорные частицы «де», «су» — приметы его сказовой манеры; формы слов «княиня», «посинял», «чол», «молыть», «промолыл», «вдругорядь» последовательно выправляются
- 28 -
в списках этой группы на «княгиня», «посинел», «читал», «молвить», «промолвил», «в другой ряд» и т. д. Слова «дьякон», «дьявол», «ночью», «плачючи» передаются в списках как «диакон», «диавол», «нощию», «плачющи»; слово «москвитин» — как «москвитянин». Небольшое исправление иногда меняет весь рисунок образа: в списках — «Авраамий... нравом Феодора смиреннее», а в автографе — «смирнее». Фраза автографа «Посем друг наш, Никон, привез из Соловков Филиппа митрополита» (л. 21 об., так же и в автографе А) вызвала недоумение переписчика, и он счел нужным вставить пояснительное слово «мощи»: «...привез мощи Филиппа митрополита».
Сличение этой группы списков с автографом редакции обнаруживает в них многочисленные ошибки и искажения текста. Неправильно были прочитаны писцом (и это закрепилось в последующей рукописной традиции и отразилось в изданиях) такие слова и выражения: в автографе — «темниковского протопопа Даниила», в списках — «...там, никольского протопопа Даниила»; в автографе — «помянул», в списках — «помянув»; в автографе — «коровы ту взревели», в списках — «коровы там возревели»; в автографе — «там снегу не живет — так морозы велики», в списках — «там снегу не живет, там морозы велики»; в автографе — «Все гладят, все добры», в списках — «Все глядят, все добры» и т. д.
Можно отметить и ряд пропусков в этих списках Жития по сравнению с автографом: пропущено пояснение Аввакума к рисунку («Зри круга начертание, о нем же святый авва рече» — л. 2), отсутствует окончание фразы («...им, бедным, дал бог, лехче от бесов стало» — л. 43 об.) и др.
После открытия сборника Заволоко выяснились композиция и состав начальной части этой редакции Жития. Со времени первого издания редакции А. К. Бороздиным каноническим текстом ее был молчаливо признан текст Казанского списка, ныне утерянного. Сила инерции была так велика, что Я. Л. Барсков, издавая в 1912 г. эту редакцию по новому списку Д 245, исправил текст Д 245 в соответствии с Казанским,34 а при издании Жития Аввакума в 1927 г. в РИБ избрал Казанский список основным списком редакции. Главное отличие Казанского списка от других известных списков редакции В заключалось в том, что он начинался со знаменитой похвалы Аввакума русскому языку: «...люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить...» Вслед за этим в списке шли похвала кресту и «надписание» Епифания к Житию Аввакума, затем «Поучение аввы Дорофея о любви», обращение к «чаду возлюбленному» и самый текст Жития.
Сборник Заволоко показывает, что обращение Аввакума к читателям и его «похвала» русскому языку — не начало Жития,
- 29 -
а отдельный фрагмент его сочинений, завершение рукописи, которая состоит из Жития Аввакума, первой части Жития Епифания и сочинения Аввакума «Снискание и собрание о божестве и о твари». Этот текст отделен от предыдущих сочинений Аввакума характерной авторской пометой, означающей разделение текстов, — особым узором из точек. Именно таким является порядок расположения сочинений Аввакума и во всех остальных списках редакции, за исключением Казанского.
Обращение к «чаду возлюбленному» оказалось не вступительной статьей к Житию, а частью послания Аввакума, сопровождающего сборник в целом.
Сложнее определить первоначальное место нового заглавия к Житию — похвалы кресту и «надписания», принадлежащих Епифанию: в сборнике Заволоко лист с заглавием не был, как отмечалось выше, прикреплен к корешку переплета и находился перед второй частью Жития Епифания (теперь он, как и л. 1—2, укреплен в рукописи и пронумерован — л. 164). На этом же месте расположен текст «надписания» и в поморской копии сборника Заволоко — Д 245. Однако в других рукописях, причем дословно воспроизводящих текст автографа (Бр 200, ОЛДП), именно похвала кресту и текст «надписания» Епифания начинают Житие Аввакума и сборник в целом. Можно было бы довериться этим тщательным копиям сборника Заволоко, но кажется более осторожным предположить, что новое заглавие заменило старое в том же самом месте рукописи, непосредственно перед текстом основной части Жития, после вступительных статей, и находилось оно на оборотной стороне листа (т. е. вначале шло изображение креста, а затем, как в рукописях Бр 200 и ОЛДП, — «надписание» Епифания35).
Автограф редакции В восстанавливает и целый фрагмент первоначального аввакумовского текста, исправленный впоследствии редакторской рукой Епифания. Во всех списках редакции В в описании пустозерской «казни» старца Епифания — «урезания» ему языка — идет текст, частично совпадающий с текстом из второй части Жития Епифания: «Старец же, прекрестя лице свое, и рече, на небо взирая: „Господи, не остави мя грешнаго, помози ми!“ И в то время божиим промыслом прииде на него некое забвение, яко сон, и не почул резания языка своего, только вмале-вмале некак ощутил, яко во сне, резание языка своего безболезненно, благодатию Христовою осеняемо. Палач же, пожалея старца, хотя ево руку по составом резать...» и т. д. (РИБ, стб. 213).36
- 30 -
Как выясняется из автографа, текст, выделенный курсивом, и был написан самим Епифанием на вклейке, поверх следующего текста, принадлежащего Аввакуму: «...„Господи, не остави мя, грешнаго! И вытяня своима рукама язык свой, спекулатору на нож налагая, да же не милуя его, режет. Палач же, дрожа и трясыися, насилу выколупал ножем язык из горла, ужас бо обдержаше ево и трепетен бяше. Палач же, пожалея старца, хотя ево руку по составам резать...» (л. 81).
Интересен самый характер этой переделки, отразивший разные принципы изображения событий.
В тексте Аввакума, натуралистически описывавшем самый процесс казни, противопоставлены фигуры кроткого и твердого старца и дрожащего от страха палача. Епифаний заменил рассказ Аввакума описанием своего духовного состояния во время казни и «чуда» — «забвения», сна, ниспосланного ему «божиим промыслом».
Такая значительная правка Епифанием текста Аввакума встречается впервые, и, видимо, она оказалась возможной потому, что Епифаний счел необходимым передать описание собственной казни в своей редакции.37
Изучение автографа Жития Аввакума в сборнике Заволоко убеждает в том, что Аввакум переписывал этот текст с имеющегося у него черновика: он допускал пропуски, возможные лишь при механическом воспроизведении текста, и потом восстанавливал их над строкой (см.: «не создан и дух святый», «на патриархове дворе», «В то время и враги кои были» — выделенные курсивом слова вписаны над строкой на л. 11, 62 об., 66 об.).
Однако в автографе есть исправления текста и другого характера: переписывая текст, Аввакум продолжал творческую правку. Так, в начале Жития, приступая к пересказу сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных именех», он над словом «богу» (л. 4 об.) вписывает слово «тебе», отсутствующее в других редакциях памятника; новый вариант текста усиливает впечатление непосредственного общения Аввакума с божеством («...что есть тебе, богу, присносущные имена истинные...»). Правку Аввакума мы обнаруживаем и в конце Жития на л. 115 об. Аввакум последовательно исправляет здесь, в заключительном фрагменте текста, единственное число на множественное, адресуя теперь Житие не одному «рабу Христову», как было в редакциях Б и А («Как умрем, так он помянет нас, а мы его там помянем...»), а многим («Как умрем, так оне помянут нас, а мы их там помянем...»). Это исправление текста Жития, сделанное непосредственно в автографе, полностью
- 31 -
согласуется с нашим представлением об эволюции взглядов Аввакума на Житие,38 которое с течением времени приобретает в его глазах все более обобщающее значение и все активнее подключается автором к святоотеческой литературной традиции.
Рукопись, найденная Заволоко, безоговорочно доказывает принадлежность редакции В и мельчайших изменений в тексте Жития перу самого Аввакума. Наличие же достоверного текста — второго автографа Жития — позволяет исследовать собственно авторские, творческие изменения в тексте памятника, иногда весьма ощутимые.
Что представляет собой сборник Заволоко как авторский сборник и как соотносится он с другим Пустозерским сборником — сборником Дружинина?
Сборник Заволоко по внешнему виду — и форматом (в восьмерку), и переплетом (доски, обтянутые оленьей кожей), и даже сохранившейся застежкой из латуни, и тонким кожаным ремешком-закладкой — напоминает Дружининский сборник.39 Сборники близки и по содержанию (в первую часть сборника Заволоко входит совместный цикл сочинений Аввакума и Епифания, составивший последнюю часть сборника Дружинина). Однако сразу же обнаруживаются и различия.
Сборник Заволоко меньше Дружининского по объему (всего 192 л.) и более «камерный»: в него входят лишь сочинения Аввакума и Епифания, в то время как первый Пустозерский сборник представляет собой корпус основных сочинений пустозерских узников, написанных ими к середине 1673 г.
Сочинения Аввакума и Епифания в этой общей части, совпадающей со сборником Дружинина, представлены иными редакциями и вариантами текста.40 Цикл завершается здесь похвалой русскому «природному» языку. Кроме того, в сборнике Заволоко есть новое вступление к Житию Аввакума («Поучение аввы Дорофея о любви» и обращение Аввакума к «питомникам церковным»), новое заглавие, написанное Епифанием, и новый автограф — вторая часть Жития Епифания. Сохранился и фрагмент
- 32 -
текста сопроводительного послания адресату сборника — Алексею.41
Сборник Заволоко отличается от сборника Дружинина и своим художественным оформлением: в нем есть красочная заставка, выполненная черными чернилами и охристой краской рукой Аввакума, есть рисунок Аввакума,42 иллюстрирующий «Поучение аввы Дорофея о любви» и изображающий пять главных врагов старообрядчества — патриарха Никона, митрополитов Павла и Илариона и вселенских патриархов — Макария Антиохийского и Павла Александрийского (изображения сопровождаются бранными подписями), есть и рисунок Епифания — изображение восьмиконечного креста. В тексте сборника много красочных надписей и буквиц (охристой краской и киноварью), выполненных Аввакумом и Епифанием (элементы художественного оформления сосредоточены в тексте вступительных статей, нового заглавия к Житию Аввакума, во всей второй части Жития Епифания — л. 1—3 об., 164—164 об., 165—190).
Палеографическое и текстологическое исследования сборника обнаружили разновременность создания различных его частей, постепенное формирование сборника в единую книгу.43 Вначале
- 33 -
была собрана совместная рукопись сочинений Аввакума и Епифания (Житие Аввакума в редакции В и первая часть Жития Епифания,44 находящиеся в отдельных тетрадях), затем на последних листах второй тетради с Житием Епифания Аввакум начал переписывать текст своего сочинения «Снискание и собрание о божестве и о твари»,45 а после него поместил похвалу русскому «природному» языку.
Эти сочинения, несомненно, осознавались Аввакумом и Епифанием как устойчивый, сложившийся цикл (явление, отмеченное для Пустозерского сборника Дружинина А. Н. Робинсоном): Епифаний не нумерует тетрадей первой части своего Жития, рассчитывая, что она последует за Житием Аввакума; Аввакум начинает переписывать «Снискание и собрание о божестве и о твари» на л. 130 об., непосредственно вслед за автографом первой части Жития Епифания. Эта рукопись была «одноцветной», без украшений. Житие Аввакума открывалось в ней заглавием — благословением Епифания, помещенным в рамку из трех концентрических окружностей. Впоследствии, при дополнении рукописи, текст заглавия был заменен новым, а старый вариант подклеен к нижней крышке переплета (л. 192 об.). Сделано это было вскоре после написания, так как чернила надписи четко отпечатались на деревянной крышке.
Следующим этапом творческой работы Аввакума и Епифания над циклом своих сочинений было присоединение к нему в качестве отдельной рукописи второй части Жития Епифания, адресованной Афанасию. Обратим внимание на это раздельное существование двух частей Жития Епифания в пределах одного сборника: оно означает, что Аввакум и Епифаний собирали эту свою совместную книгу из разных рукописей, которые были у них в наличии (рукопись Епифания, вполне законченная и обильно украшенная, почему-то не была отослана Афанасию).46 Таким образом, принцип создания этого сборника отличается от создания Аввакумом и Епифанием цикла своих сочинений в составе
- 34 -
сборника Дружинина, где все их сочинения были переписаны одновременно.
Интересно, что сам Епифаний не пытался соединить вместе обе части своего Жития, рассматривая, по-видимому, первую его половину как неотъемлемую часть совместного с Аввакумом цикла сочинений, хотя известно, что во вступлении ко второй части Жития — в обращении ко всем адресатам — Епифаний просил их объединить обе части («Вото тебе и другая часть жития моего беднаго и грешнаго... и сложи его с прежнею частию жития моего вместо...»47). Возможно, что у Епифания в тот момент не нашлось лишней бумаги (для объединения текстов требовалось не только заново сброшюровать тетради, но и переписать часть текста). Но как бы то ни было, важно подчеркнуть следующее: сборник Заволоко доказывает, что хотя обе части Жития были одновременно в распоряжении Епифания, он не переработал их творчески — ни тогда, ни впоследствии — в одно целое. Это значит, что в его художественном сознании еще господствовал композиционный принцип «свода», свойственный средневековой литературе.
Этот же принцип наблюдается и в композиции Жития Аввакума, когда старый, ранее написанный текст соединяется с новым без специального хронологического приурочивания, что создает тем самым анахронизмы, не поддающиеся иногда анализу исследователей.48
Одновременно с включением второй части своего Жития в сборник Епифаний написал новое заглавие к Житию Аввакума, предварив его изображением креста (для нового заглавия была использована бумага присоединяемой рукописи со второй частью Жития Епифания). Аввакум написал новое вступление к Житию — «Поучение аввы Дорофея о любви» (с рисунком) и обращение к «питомникам церковным».49 Эта часть сборника была обильно украшена Епифанием и Аввакумом. Второй этап творческой истории рукописи и есть, собственно, создание Пустозерского сборника И. Н. Заволоко — конволюта, объединенного общим переплетом.
Дополнения к Житию Аввакума, предпринятые при новом оформлении сборника, показательны для характеристики эволюции взглядов Аввакума и Епифания на свое творчество. «Понуждение» Епифания становится здесь пространнее и торжественнее: «Многострадальный юзник темничьной, горемыка,
- 35 -
нужетерпец, исповедник Христов, священнопротопоп Аввакум понужден бысть Житие свое написати...» (ср. РИБ, стб. 152); тексту «понуждения» предшествовала похвала кресту и изображение рукой Епифания восьмиконечного голгофского креста с объясненной символикой отдельных его частей. Епифаний не только сообщал теперь о том, что он благословил Аввакума создать Житие (Епифаний был духовным отцом Аввакума), но и характеризовал автора Жития как мученика и страдальца за веру. Эта характеристика, как мы увидим далее, отражает устанавливающиеся взгляды пустозерских узников на свое дело и на самих себя: примерно с 1674 г. в их сочинениях все ощутимее начинает звучать тема осознания собственной «святости». Эта же идея обнаруживается и в новом вступлении Аввакума: выписки из «Поучения аввы Дорофея» о движении «святых» к богу сопровождаются изображением «святых» со старообрядческими восьмиконечными крестами; Аввакум оправдывает (дополнительно по сравнению с другими редакциями) тему Жития ссылкой на авторитетный пример почитаемого «отца церкви» — аввы Дорофея («Авва Дорофей описал же свое Житие ученикам своим... и я такожде...» — РИБ, стб. 154). В написанном несколько позже послании адресату сборника Алексею Аввакум назовет свое Житие «книгой живота вечнаго».
Исследование начальных статей рукописи позволило установить, что послание Алексею является третьим этапом совместной работы Аввакума и Епифания, отразившимся в рукописи (судя по почерку Аввакума, текст послания был написан не одновременно со вступлением, а позже). Послание Аввакума было «украшено» Епифанием: Епифаний вывел красочный киноварный инициал и текст «Исусовой молитвы» (единственный раз в тексте сборника была использована киноварь). Послание Алексею было вложено в рукопись уже после ее окончательного оформления, возможно даже вне стен пустозерской темницы. Текст послания Алексею дошел не полностью: утрачено его начало, и лист с фрагментом послания был неверно (не той стороной) вложен в рукопись (правильная последовательность текста — л. 3 об. — 3).
Не на своем месте в сборнике оказалось и новое заглавие к Житию: расположенное на отдельном листе, позже вложенном в рукопись, оно отделилось (или было отделено?) от переплета и занимает по современной пагинации л. 164, предваряя рукопись со второй частью Жития Епифания. Таким образом, сборник в дошедшем до нас виде начинается с «Поучения аввы Дорофея о любви».
Весьма возможно, что заглавие к Житию Аввакума было убрано из начала сборника в конспиративных целях, для уничтожения явных признаков аввакумовского текста. Забота позднейших хранителей рукописи об уничтожении конкретных имен сказалась и в том, что в тексте послания Алексею были выскоблены имя и отчество корреспондента, которому был отправлен
- 36 -
сборник. Имя с трудом поддается прочтению: «Чаду возлюбленному Алексею...».50
Завершение работы Аввакума и Епифания над сборником — написание нового вступления к Житию Аввакума и нового заглавия к нему — можно датировать относительно точно. В обращении к «питомникам церковным» Аввакум сообщал своим читателям: «...предлагаю Житие свое от юности и до лет пятьдесят пяти годов» (л. 2 об.). Это значит, что обращение, как сосчитал уже П. С. Смирнов, было написано в 1675—1676 гг.51 Год рождения Аввакума устанавливается на основании его сообщения о том, что в протопопы он был поставлен 31 года от роду, и исторических данных, свидетельствующих о том, что сан протопопа он получил не ранее начала 1652 г. Располагая этими данными, Смирнов определил, что рождение Аввакума «надо относить к 1620 или 1621 году» (т. е., по Смирнову, Аввакум родился до марта 1621 г., но неизвестно когда: в 1620 или в начале 1621 г.).52 Паскаль, разделяя этот принцип определения времени рождения Аввакума и в основном выводы Смирнова (он лишь несколько уточнил их, полагая, что протопопом Аввакум стал в апреле 1652 г.), высказал остроумную догадку о возможном месяце и дне рождения Аввакума: «Аввакум родился, без сомнения, в 7129 году от сотворения мира... так как ему был 31 год в 7160 г. и, возможно, 25 ноября, так как день памяти пророка Аввакума празднуется 2 декабря, а был обычай давать детям имя святого, приходящееся на 8-й день после их появления на свет. Это был 1620 год от воплощения Христова» (Паскаль ссылается на аналогичные факты XVII в. и на обычаи алтайских старообрядцев в XX в.).53 Но Паскаль не доказал, что Аввакум был назван именно в честь ветхозаветного пророка, поэтому А. Н. Робинсоном был предложен и другой вариант дня и месяца рождения Аввакума — 29 июня, так как 6 июля отмечается память мученика Аввакума (в группе римских мучеников III в. н. э.),54 однако точно год рождения Аввакума Робинсон не определяет («...он родился в 1620—1621 г.»; «...рождение его следует относить к промежутку между 1620 и 1621 гг.»).55 Сочинения Аввакума не дают,
- 37 -
к сожалению, материала для окончательного решения вопроса о его святом. Но как бы то ни было, в каком бы месяце ни родился Аввакум — в июне или в ноябре 1620 г., 55 лет ему исполнилось не ранее 29 июня 1675 г., и, следовательно, именно этим периодом времени (около 29 июня 1675 г. и до 25 ноября 1676 г.) можно датировать написание обращения «к питомникам церковным».
Дату написания этого обращения можно еще более уточнить.
Как мы уже отмечали во Введении, Паскаль обратил внимание на то, что в тексте редакции В (т. е. редакции сборника Заволоко) игнорируется ряд событий осени 1675 г. — смерть Ф. П. Морозовой, Е. П. Урусовой, митрополита Павла.56 События 1675 г., на которые указывает Паскаль, не равноценны для Аввакума по своему значению: упоминание о митрополите Павле, здравствующем «ныне» (РИБ, стб. 197), могло попасть в редакцию В из предшествующего текста (оно имеется и в редакции А) аналогично подобным же сообщениям об Иларионе Рязанском и Федоре Ртищеве или о сроке «протопопства» Аввакума. Отсутствие же в тексте основной части редакции В и вновь написанного вступления к ней упоминания о смерти Ф. П. Морозовой, а также сохранение сообщений о ней как о живой57 представляется серьезным аргументом для установления верхней границы редакции и сборника Заволоко в целом. Аввакум не мог благодушно обращаться к «питомникам церковным» с рассуждением о любви, ни словом не обмолвившись в новом, специально написанном для сборника тексте вступления к Житию о смерти Морозовой и о своих чувствах. Хорошо известно то трагическое впечатление, которое произвела на Аввакума смерть Морозовой и других боровских узниц: он написал специальное «Слово плачевное», выразившее всю глубину его горя и душевного смятения. Это было событие, многое изменившее в дальнейшей духовной жизни Аввакума, и поэтому невозможно предположить, чтобы Аввакум по «недосмотру» оставил в тексте Жития старые факты такого содержания, отправил Житие читателям, не откликнувшись никак на смерть Морозовой ни в заключении, ни во вновь написанном вступлении.
Это наблюдение позволяет считать, что обращение к «питомникам церковным» (т. е. и сборник Заволоко в целом) и, конечно, редакция В были созданы Аввакумом до получения в Пустозерске известий о смерти Морозовой. У нас нет точных данных о том, когда эти известия были получены Аввакумом («Слово плачевное», являющееся непосредственным откликом на трагические новости, не содержит датирующих его указаний, и время написания его определяется как первая половина
- 38 -
1676 г.58). Обычный срок прихода новостей, определявшийся скоростью передвижения курьеров от Москвы до Пустозерска, — около двух месяцев. Известно, например, что стрелецкий полуголова Иван Елагин, бывший еще 23 февраля 1670 г. в Москве, 14 апреля 1670 г. уже вершил казнь в Пустозерске, а до этого успел учинить расправу на Мезени (на все ему понадобилось 49 дней).59 Следовательно, сообщение о смерти Морозовой могло прийти в Пустозерск уже в конце декабря 1675 г. Однако на этот раз новости могли сильно задержаться: в «Житии боярыни Морозовой», историческим сведениям которого можно доверять,60 сообщается, что царь Алексей Михайлович специально задержал распространение известий о смерти боровских узниц на «три седмицы» (последняя из заключенных — Мария Герасимовна Данилова — умерла 1 декабря 1675 г.).61
Это значит, что известие о смерти Морозовой могло прийти в Пустозерск только в конце декабря 1675 г. или даже в конце января 1676 г., т. е. сборник Заволоко был создан до января (или февраля) 1676 г.
До сих пор не учитывалась еще одна датирующая деталь начальных статей сборника: изображение митрополита Павла на л. 2 сопровождается еле видимой теперь подписью «сын митрополит», т. е. сейчас существующий митрополит. Эту подпись следует рассматривать как фиксацию определенных сведений Аввакума о судьбе митрополита Павла, которыми он располагал в момент создания рисунка, в отличие от тех упоминаний, которые одинаковы в текстах всех трех редакций (пример Паскаля) и которые в силу своей незначительности могли повторяться без изменений в новых вариантах текста, будучи заимствованы из предшествующей редакции в составе большого фрагмента. Известно, что Павел, митрополит Сарский и Подонский, умер 9 сентября 1675 г.62 Это значит, что и рисунок, и текст «Поучения аввы Дорофея о любви» с обращением Аввакума к читателям датируются временем до октября (ноября) 1675 г. Этим же временем соответственно датируется и создание сборника в целом: около 29 июня — до октября (ноября) 1675 г.63
- 39 -
Дата написания вступительных статей и создания сборника не распространяется на основную рукопись первой части совместной книги Аввакума и Епифания, написанную несколько раньше.64 Румянцева высказала мнение,65 что эта рукопись сборника Заволоко предшествует аналогичной рукописи сборника Дружинина. Решающим текстологическим признаком для Румянцевой является установленный ею факт первоначальности текста первой части Жития Епифания (правка, сделанная на полях рукописи Заволоко, в рукописи Дружинина находится в тексте). Поскольку текст Жития Епифания расположен внутри единого цикла сочинений Аввакума и Епифания, то заключение о первоначальности распространяется и на весь цикл. Анализ «Снискания и собрания о божестве и о твари», проведенный Румянцевой, также убедил ее в старшинстве варианта Заволоко и подтвердил тем самым общий вывод. Относительно редакции В Жития Аввакума Румянцева не располагала текстологическими доказательствами первоначальности ее текста по сравнению с редакцией сборника Дружинина, однако анализ хронологических данных редакции, привлеченных Румянцевой, — даты событий и фактов, упоминающихся в ней, — не противоречил этому выводу; настроения же Аввакума, отразившиеся в редакции В, с точки зрения Румянцевой, соотносятся с более ранним периодом его творчества — с концом 1672 — началом 1673 г.
Наблюдения Румянцевой должны быть учтены при исследовании обоих Пустозерских сборников и отдельных сочинений Аввакума и Епифания, но не все ее выводы могут быть приняты и прежде всего вывод о датировке редакции В Жития Аввакума, сделанный на основании частичного анализа текста редакции и косвенных данных (первоначальность Жития Епифания в сборнике Заволоко определяет, по ее мнению, и первоначальность редакции Жития Аввакума).
Между тем заключение о первоначальности Жития Епифания в сборнике Заволоко не может распространяться на Житие Аввакума, ибо они находятся в разных тетрадях. Соотношение автографов Епифания оказалось более сложным: правка на полях его рукописи появилась в результате сверки действительно первоначального текста Жития Епифания с новым его вариантом в сборнике Дружинина66 (т. е. текст Жития Епифания в сборнике Заволоко «двуслоен»: основной текст — более ранний, он предшествует тексту сборника Дружинина, правка же
- 40 -
Л. 115—116 Пустозерского сборника И. Н. Заволоко (конец Жития Аввакума и начало новой тетради с первой частью Жития Епифания).
- 41 -
на полях — поздняя, она сделана на основании текста, вошедшего в сборник Дружинина). Существенным моментом для относительной датировки этих двух текстов является то обстоятельство, что сверка по тексту Дружининского сборника была сделана Епифанием, по нашему наблюдению, до включения его тетрадей в общий с Аввакумом цикл сочинений (в первую рукопись сборника Заволоко): часть вставок Епифания расположена на самом краю нижнего поля листа, так что обрез рукописи иногда захватывает линию рамки, в которую эти вставки заключены (см. л. 116, 118 об., 120 об., 129). Из этого следует вывод, что объединение рукописей обоих Житий происходило после создания текста Жития Епифания, вошедшего в сборник Дружинина.
Сопоставление автографов «Снискания и собрания о божестве и о твари», проведенное нами, показало, что они текстологически не зависят один от другого, являются равноправными стилистическими вариантами, и имеют своим источником общий текст, равно предшествующий им обоим; этот текст мы обнаруживаем в сборниках с редакцией Б Жития Аввакума.67
Таким образом, вопрос о хронологическом соотношении обеих пустозерских рукописей, содержащих совместный цикл сочинений Аввакума и Епифания, нельзя считать решенным Румянцевой, и для получения ответа о времени создания редакции Жития Аввакума, включенной в сборник Заволоко, необходимо произвести анализ ее текста.68
РЕДАКЦИЯ Б
Автограф редакции Б неизвестен.69 При издании редакции Жития в 1927 г. Барсков располагал только тремя списками редакции.70 10 новых списков редакции и 3 списка отрывков из нее обнаружил В. И. Малышев, еще один список и фрагмент были найдены И. М. Кудрявцевым. Общее число списков редакции (в том числе и отрывков) сейчас 21.
В отличие от рассмотренных редакций Жития текст редакции Б представлен двумя вариантами, что ранее не отмечалось. Основная масса списков редакции (14 полных списков) передает текст, известный по изданию РИБ. Назовем его основным видом редакции (далее — Бо). Другой, особый вид сохранился очень
- 42 -
плохо: он известен только в одном (возможно, неполном) списке конца XVII — начала XVIII в., представляющем собой переделку Жития (текст Б1), и в трех отрывках, содержащих начало Жития и передающих текст, близкий Б2 но несколько отличающийся от него (текст Б2).
Главное и приметное отличие особого вида (обозначим его Б1—2) от основного заключается во вступлении к Житию: в Б, и в Б2 есть молитва писателя «троице», отсутствующая в списках основного вида, а перед обращением к «троице», вслед за начальными строками Жития, содержащими «понуждение» Епифания, находится «Гимна о пресвятей богородице» — текст полемического сочинения Аввакума, известного и в отдельных списках.71 Оба вида обладают характерными, только им присущими чтениями, которые будут рассмотрены ниже.
Списки основного вида
1. ГИМ, Музейское собр., № 2582, 4°, л. 182—243, конец XVIII в.; далее Муз 2582.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 383). Житие находится в составе цикла сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия, повторяющегося и в других сборниках: «Книга бесед» Аввакума (вступление, беседы 1-я — 2-я, начало 3-й беседы, отрывок из 8-й беседы об «антихристе», беседы 3-я, 6-я, другие отрывки из 8-й беседы, беседа 9-я); сочинение Аввакума «Снискание и собрание о божестве и о твари» (текст отличается от вариантов в сборниках Дружинина и Заволоко и назван нами вариантом Б); послание Аввакума «братии на всем лице земном» (редакция «а» по классификации РИБ); беседа 10-я из «Книги бесед» Аввакума; отрывок из неизвестного сочинения Аввакума об Ионе-казанце;72 послания Аввакума: Морозовой, Урусовой и Даниловой в Боровск, Морозовой и Урусовой и послание Морозовой (см.: РИБ, стб. 917—920); сочинение Аввакума «О сложении перст» (вариант, сопровождающий редакцию Б Жития); послания Аввакума: Маремьяне Федоровне (особый вид редакции «а»), «отцу, брату, другу и советнику», «всей тысящи рабов Христовых» (редакция «а»), старице Меланье «с сестрами»; челобитная Аввакума царю Федору Алексеевичу; послание Аввакума Морозовой, Урусовой и Даниловой в Москву; отрывок из «Книги толкований и нравоучений» Аввакума (см.: РИБ, стб. 559—562); три послания Аввакума Симеону (см.: РИБ, стб. 563—566, 568—576, 929—932); «Вопрос и ответ старца Авраамия»; послание Аввакума Стефану; послание Авраамия к «некоему боголюбцу»; послание Аввакума к «рабом Христовым»; письмо Аввакума семье (см.: РИБ, стб. 919—924); Житие Аввакума; Житие Епифания (начало ранней редакции).73
2. ЦГАДА, собр. Ф. Ф. Мазурина (ф. 196), № 701, 4°, л. 146—193 об., конец XVIII в.; далее Мз.
- 43 -
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). По содержанию повторяет Муз 2582 (нет Жития Епифания, послания Аввакума Стефану, письма семье).
3. ГБЛ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1885, 4°, л. 282—362, конец XVIII в.; далее Ег 1885.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 383). Содержание сборника воспроизводит указанный выше цикл сочинений в Муз 2582 (без Жития Епифания), дополненный произведениями дьякона Федора, с которых сборник начинается: Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании, «Ответ православных», «О богоотметнике Никоне достоверно свидетельство...» (см.: Материалы... т. VI. М., 1881, с. 45—48, 269—298, 299—302), «Сказание о том же Никоне патриархе».
4. ГБЛ, собр. Н. С. Тихонравова (ф. 298), № 721, 4°, л. 270 об. — 345, конец XVIII в.; далее Тх.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384); по содержанию повторяет Ег 1885 (отсутствует текст об Ионе-казанце).
5. Калининский областной исторический архив, собр. Калининского гос. пед. ин-та, оп. 3, № 2, 8°, л. 1—76, конец XVIII в.; далее Кпи.
Рукопись указана И. Ф. Голубевым в его статье «Собрания рукописных книг г. Калинина» — ТОДРЛ, М. — Л., 1955, т. XI, с. 460 (№ 1). Содержание: Житие, «Книга бесед» Аввакума (вступление без начала, беседы 1-я — 10-я, послание Морозовой, Урусовой, Даниловой в Боровск).
6. ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 257, 4°, л. 285—373 об., начало XIX в.; далее Хл 257.74
Рукопись подробно описана в кн.: Попов А. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, с. 508—512. Состав повторяет Тх, но с некоторыми изменениями: отсутствуют сочинения Авраамия и, видимо, в силу дефекта протографа выпущена часть следующих друг за другом статей (нет челобитной царю Федору Алексеевичу, послания Морозовой, Урусовой и Даниловой в Москву, отрывка из «Книги толкований и нравоучений», послания Симеону); добавлены послание «брату верну» Иоанну (см.: Материалы... т. V. М., 1879, с. 224—230), «пятая» челобитная царю Алексею Михайловичу; порядок следования статей изменен.
7. ГБЛ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1898, 4°, л. 190—253 об., первая треть XIX в.; далее Ег 1898.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 383). По содержанию повторяет Муз 2582 (без Жития Епифания).
8. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 297, 4°, л. 1—44, первая половина XIX в.; далее Бр 297.
Сборник дефектный: ряд тетрадей и отдельных листов отсутствует, пагинация листов перепутана, текст Жития Аввакума не полон. Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). Содержание: Житие Аввакума (кроме дефектов, в тексте есть и сокращения: полностью отсутствует вступление с выписками из Псевдо-Дионисия Ареопагита и Афанасия Великого); «Вопрос и ответ старца Авраамия» (не полностью); послания Аввакума: Стефану (не полностью), Маремьяне Федоровне (особый вид
- 44 -
редакции «а»); отрывок из «Книги толкований и нравоучений» Аввакума; одно послание Симеону (см.: РИБ, стб. 563—566); послание Авраамия к «некоему боголюбцу» (без конца и с пропусками в середине из-за дефектности рукописи).
9. ГБЛ, собр. архива Общества истории и древностей российских (ф. 203), № 188/12 (старый № 490), 1°, л. 185—246 об., середина XIX в.; далее ОИДР.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). См. также: Соколов Е. И. Библиотека имп. Общества истории и древностей российских, вып. 2. М., 1906, с. 391. По содержанию сборник близок Муз 2582, но восходит к испорченному протографу, листы которого были перепутаны, а тетради частично утрачены; начинается с послания Аввакума «братии на всем лице земном», далее (до послания Аввакума Морозовой и Урусовой) идет текст, совпадающий с Муз 2582, затем в протографе ОИДР был пропуск: в сборнике отсутствует группа следующих друг за другом текстов (нет окончания послания Морозовой и Урусовой, послания Морозовой, статьи «О сложении перст», письма «отцу, брату, другу и советнику», начала «Книги всем нашим горемыкам миленьким»); после пропуска идет «Книга бесед»; в тексте «Книги» есть статья «О причастии» из послания «всем нашим горемыкам миленьким», находящегося выше. Далее вновь идет текст, совпадающий с Муз 2582 (послание Аввакума Меланье и т. д. до «Вопроса и ответа старца Авраамия»). «Вопрос и ответ старца Авраамия» механически разделен на две части, в его текст вклинились отрывки из 8-й беседы Аввакума, 9-й беседы и из сочинения Аввакума «Снискание и собрание о божестве и о твари», находившиеся в Муз 2582 в начале сборника. После второй части «Вопроса и ответа старца Авраамия» следуют тексты, аналогичные Муз 2582; завершается сборник началом Жития Епифания (отрывок ранней редакции).
10. ГПБ, архив В. А. Бильбасова, № В-68, 1°, л. 151—187, середина XIX в.; далее Бл.
Сборник указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). См. также: Сборник Российской Публичной библиотеки, т. I, вып. 1. Пг., 1920, с. 99—101. — По содержанию повторяет сборник ОИДР.
11. ГПБ, собр. А. А. Титова, № 2344 (1435), 1°, л. 154—217, середина XIX в.; далее Т 2344.
Сборник из библиотеки П. И. Мельникова-Печерского с его пометами. Указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 384). См. также: Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании А. А. Титова, т. IV. М., 1901, с. 390. — По содержанию повторяет сборник ОИДР.
12. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 966, 1°, л. 177—232, середина XIX в.; далее Бр 966.
Сборник обнаружен И. М. Кудрявцевым, указан в статье В. С. Румянцевой «О датировке краткой редакции Жития Аввакума» (Вестн. Моск. ун-та. Сер. истории, 1969, № 6, с. 60). По содержанию повторяет Хл 257.
13. ГБЛ, собр. А. Н. Попова (ф. 236), № 2548, 4°, л. 105—142, 1855 г.; далее Пв.
Житие находится в 1-й рукописи (л. 1—142); писцовая запись (л. 168 об.) свидетельствует, что книга писалась «со старописанного подлинника» в 1855 г. Начиная с л. 20 об. на полях, в подзаголовках и в сносках имеются многочисленные пометы А. Н. Попова (в частности, со ссылками на рукопись собр. Хлудова XVII в.). Состав рукописи с Житием подобен Хл 257, но в отличие от Хл 257 (и от Бр 966) послание «всем нашим горемыкам
- 45 -
миленьким» (приложение к «Книге бесед») предшествует здесь письму Маремьяне Федоровне, а не следует за ним.
14. ГПБ АН УССР (Киев), собр. митрополита Макария, № 56 (Аа 137), 4°, л. 1—77, XIX в.; далее Мак.
Рукопись описана Н. И. Петровым в его кн.: Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. 1. М., 1892, с. 100; содержит только Житие Аввакума. Этот список был положен в основу издания редакции в РИБ (стб. 83—150).
Только один список текста Бо — Мак — является отдельной рукописью, остальные 13 списков основного вида находятся в сборниках, очень близких друг другу по составу. Контуры состава этих сборников «подвижны», между ними есть разница в отдельных статьях, но анализ постатейного описания сборников с текстом Бо обнаруживает существование одного, общего для всех сборников этого вида цикла сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия. По типам воспроизведения этого общего источника все сборники с текстом Бо делятся на две группы, каждая из которых что-то утратила из состава этого цикла или, напротив, добавила к нему.
Первая группа сборников (Муз 2582, Мз, Ег 1898, Бр 297, ОИДР, Бл, Т 2344) содержит только этот цикл, причем иногда из состава сборников исключается последняя, дефектная статья — начальный фрагмент Жития Епифания (отсутствует в рукописях Мз, Ег 1898, Бр 297). Древнейшие рукописи первой группы — Муз 2582 и Мз (бумага с датой «1791»). К этому же протографу, но к одному из дефектных экземпляров, восходят сборники ОИДР, Т 2344 и Бл. Относительно этих трех сборников возникает предположение: не вышли ли они если не из-под одного пера (почерк, которым написан Т 2344, несколько отличается от почерка двух других сборников), то из одной канцелярии. Это сборники не старообрядческие (последовательно сохраняется написание «Иисус»); одинаков их внешний вид: все они форматом в лист, без переплета, в обложке из той же писчей бумаги, с одинаковым заглавием, повторенным дважды: «Аввакум протопоп»; написаны на бумаге со штемпелем Петербургской бумажной фабрики, причем почерк писца Бл напоминает почерк, которым написан сборник ОИДР (запись писца ОИДР: «Переписывал Николай Переведенцев»). По объему текстов эти сборники несколько меньше других (вследствие пропусков), но во всех сохранился начальный фрагмент Жития Епифания. Иным является и расположение сочинений внутри сборников: «Книга бесед» Аввакума разделена здесь на три части вместо обычных двух, «Вопрос и ответ старца Авраамия» разделен на две части сочинениями Аввакума (например, в ОИДР он находится на л. 106 об. — 108 об. и на л. 144—165). «Осколком» общего для всех сборников текста является Бр 297, в котором сохранилась только часть сочинений Аввакума и не полностью «Вопрос и ответ старца Авраамия».
- 46 -
Вторая группа (Тх, Ег 1885, Хл 257, Бр 966, Пв) включает в свой состав кроме сочинений общего цикла статьи из «Ответа православных», сочинения дьякона Федора о Никоне, его же «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании» (фрагмент из Жития Епифания здесь последовательно отсутствует).
Древнейшие сборники группы Тх и Ег 1885 — это сборники-«близнецы», состав их полностью совпадает (в Тх пропущено лишь сочинение об Ионе-казанце), оба они написаны на одинаковой голубой бумаге ярославского производства 1793 г. сходным полууставом. Общий протограф сборников Хл 257, Бр 966 и Пв также не имел сочинения об Ионе-казанце в своем составе, но, кроме того, из него были исключены и оба сочинения Авраамия; цикл сочинений Аввакума здесь был несколько сокращен, сделаны некоторые перестановки в порядке следования произведений. Кроме того, в Хл 257, Бр 966 и Пв есть послание пустозерских узников «брату Иоанну» (сочинение дьякона Федора и Аввакума) и «пятая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу, отсутствующие в других родственных сборниках.
Изучение 14 полных списков основного вида редакции Б показало, что все списки также делятся на две основные группы, каждая из которых независимо друг от друга восходит к протографу основного вида и хранит архетипные чтения.
В источнике первой группы (списки Муз 2582, Мз, ОИДР, Бл, Т 2344, Ег 1898, Бр 297) было много архетипных чтений, утраченных протографом Тх, Хл 257, Пв, Бр 966. Если в списках первой группы читаем «окрочю Христом», «божие присещение», «корамкаются на лду» (чтения совпадают с автографами), то во второй группе — «окрочю крестом», «божие посещение», «корабкаются» и т. д. В фрагменте, передающем речь Аввакума на соборе 1667 г., текст второй группы вполне связный («...а первые наши пастыри крестилися также пятию персты и благословляли по преданию святых отец» — Тх и другие списки), но с автографами совпадает текст первой группы («...а первые наши пастыри, якоже сами пятию персты крестилися, так же пятию персты и благословляли по преданию святых отец наших...», ср. РИБ, стб. 127). Совпадает с автографом А и следующий текст первой группы: «Еремей сам-друг дорошкою ранен мимо избы моея едет» (Ег 1898 и другие списки), во второй группе — «раненко».
Среди списков первой группы обособляются Муз 2582, Мз, ОИДР, Бл, Т 2344; они восходят к тексту, в котором было много ошибок, искажений, замен («меч» вместо «шелепуга», «челомбитная (так!) грамота», «сарафишко» вместо «сарафанишко» и др.); но здесь много индивидуальных чтений, отсутствующих в других списках и, может быть, восходящих к архетипу основного вида. Только в списках этой группы читаем: «И я потешил ево, что делать, царь-то есть от бога учинен» (Муз 2582, ОИДР); «Все размыло да ростащило до крошки...» (Муз 2582);
- 47 -
«...а зимою сосны ели» (Муз 2582) и т. д. Списки Муз 2582 и Мз своим источником имеют общий протограф, а к списку, предшествовавшему ему, восходят ОИДР, Бл, Т 2344, составляющие особую подгруппу одинаковых списков, но сохранившие все ошибки и переделки общего с Муз 2582 и Мз протографа (здесь тоже читается «меч», «сарафишко» и т. д.). Эта поздняя подгруппа изобилует описками и пропусками. Лучший список труппы — Ег 1898, он содержит текст Бо полностью и имеет много архетипных чтений, общих с Тх, Ег 1885 и Муз 2582. Близок к нему и список Бр 297, хотя это список дефектный, утративший многие фрагменты Жития.
Общий источник списков второй группы (Тх, Хл 257, Пв, Бр 966) в свою очередь обладал архетипными чтениями. Так, например, в ряде списков текста Бо о возвращении Пашкова и Аввакума из Сибири сообщается следующим образом: «Перемена пришла, и мне грамота пришла, и он меня утаил, на Русь не отпустил...» (так в списке Мак — РИБ, стб. 117). В других списках текст похожий, но сохранивший несколько больше архетипных чтений: «Перемена ему пришла... на Русь меня не отпустил» (Мз, Бр 297, ОИДР, Бл, Т 2344); «Перемена пришла... на Русь меня не отпустил» (Ег 1898); «Перемена ему пришла... на Русь не отпустил» (Муз 2582). Текст здесь явно испорчен. Почему «утаил» и «не отпустил», если далее речь идет о выезде Пашкова и Аввакума из Сибири? Разъяснение имеется только в списках Тх, Пв, Хл 257, Бр 966: «Перемена ему пришла и мне грамота пришла, а преже тово пришла, и он меня утаил, на Русь меня не отпустил» (так в Тх, сходно в остальных списках). Это сообщение о первой грамоте, пришедшей Аввакуму еще до указа о возвращении Пашкова, разъясняет смысл замечания Аввакума об утайке ее Пашковым.
Только в этой группе списков есть подробность, связанная с исцелением «бешанова» Федора: «Жена ево привела ко мне, просит меня и кланяется...» (в списке Тх текст отсутствует вследствие пропуска). Но в то же время в списках Тх, Хл 257, Пв, Бр 966 есть общие пропуски (нет части фразы «... и весла в них златы, и шесты златы» в описании видения Аввакума, отсутствует уточнение, что бояре Шереметевы были «добры» к Аввакуму «преже мору» и т. д.), есть перестановки, лексические замены, искажающие первоначальный текст.
У списков Пв, Хл 257 и Бр 966 — свой общий протограф, поэтому они вместе или по отдельности имеют особые, отличающиеся от Тх чтения. Например: «У боярони куры переслепли... ко мне прислала, и велела мне о них молится, чтоб не извелися. И я взял их, где дется» (так в Пв, сходно Хл 257, Бр 966; в других списках и в Тх нет слов: «... взял их»). Список Пв требует в дальнейшем особого изучения, так как обладает интересными индивидуальными чтениями (в частности, только в нем сохранилось правильное наименование протопопа Данила «темниковским», во всех остальных списках читаем: «Данила Темникова
- 48 -
Схема взаимоотношений списков основного вида редакции Б.
- 49 -
скова»). Особенностью списка Тх является дополнение его текста молитвой к «троице», отсутствующей во всех текстах основного вида редакции Б. Молитва была дописана уже в XIX в. на полях рукописи; таким же образом было указано и иноческое имя матери Аввакума («инока Марфа»), известное по другим текстам Жития. Больше никаких вставок в текст сделано не было. Список Тх — один из старейших и лучших списков основного вида.
Особую подгруппу списков составляют Ег 1885 и Мак. В них наблюдается наибольшее число пропусков разговорных частиц и постпозитивных членов. Только в этих двух списках пропущена часть монолога Евдокии Цехановицкой («...помилуй, кветенька мой», ср. РИБ, стб. 146) и др. Большинство архетипных чтений связывает эти два списка с первой группой, но есть чтения, обнаруживающие их связь с группой Пв, Хл 257, Бр 966. Так, например, в этих списках и в Ег 1885 (как и в списке Мак) при описании собора 1667 года следующим образом передается речь вселенских патриархов, обличающих Аввакума: «...один ты стоиш во своем упрямстве...» (см. РИБ, стб. 126); во всех остальных списках первой группы и в Тх — «упорстве» (так и в автографах Жития). Вопрос о месте протографа Ег 1885 и Мак в стемме списков основного вида нуждается поэтому в дополнительном исследовании: напомним, что список Ег 1885 и находится, как отмечалось выше, в составе сборника второй группы, причем в такой рукописи, которая в палеографическом отношении очень близка рукописи Тх.
К сожалению, нами не был рассмотрен список Кпи, оказавшийся по ряду причин недоступным; изучение этого текста, возможно, прояснит соотношение ряда списков основного вида.
Установленные взаимоотношения списков основного вида редакции Б (Бо) представлены графически на с. 48.
Списки особого вида
I. Текст Б1 известен сейчас в единственном списке — ЦГАДА, собр. б-ки бывшего Главного архива Министерства иностранных дел (ф. 181), № 899/1539, 8°, л. 1 — 128, конец XVII — начало XVIII в.; далее Ар.
Рукопись обнаружена и кратко описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 383), содержит только Житие Аввакума. В 1-й тетради утрачены первые листы, текст Жития начинается со слов: «...истинному, и богородице, и святым его. Аминь. Гимна о пречистей и преблагословенней и славней владычице нашей богородице...» (на правом поле помета: «Сие Аввакум писал»). Соответственно выпали из брошюровки л. 5 и следующие, часть их утеряна, поэтому механические пропуски есть во всей начальной части Жития; кроме того, отсутствует рассказ о черной «курочке», кормившей в Сибири семью Аввакума, и текст Жития короче: оно кончается «похвалой церкви», которую поют пустозерские узники после заключения их в земляную тюрьму, нет здесь ни обличения «никониан», ни рассказов о бесноватых, завершающих Житие.
- 50 -
II. Текст Б2 известен в трех списках (в отрывках):
1. Ярославский областной краеведческий музей, № 965 (15 106), 8°, л. 70—87 об., последняя четверть XVII в.; далее Якм 965.
Рукопись указана В. И. Малышевым, см. его статью: Два неизвестных письма протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1958, т. XIV, с. 413. См. также: Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. Ярославль, 1959, с. 28; Демкова Н. С. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1965, т. XXI, с. 217. Якм 965 — сборная рукопись керженского происхождения, состоящая из пяти частей; Житие Аввакума (только начало) находится в четвертой рукописи (л. 56—118 об.), датируемой последней четвертью XVII в. Заглавие: «Аввакум протопоп понужен бысть житие свое написать иноком Епифанием, понеже отец ему духовный инок, да не забвению предано будет дело божие. И сего ради понужен бысть от отца духовнаго на славу Христу богу, сыну божию. Аминь»; начало: «Гимна о пресвятей и преблагословенней, и славней владычице нашей богородице... Всесвятая троице...» и т. д.; конец: «...и медведей двух великих отнял, одново ушиб и паки ожил».
Рукопись редкого состава текстов, содержит отрывки из сочинений Аввакума: из послания «сибирской братии», из «Книги толкований и нравоучений» (обращение к царю Алексею Михайловичу; ср. РИБ, стб. 476—477), из послания Симеону (ср. РИБ, стб. 569); письмо Аввакума царевне Ирине Михайловне; обращение Аввакума к душе, обычно сопровождающее текст его «записки» о казни в Пустозерске (ср. РИБ, стб. 719); письмо Аввакума К. А. Болотовых; конец «первой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу (редакция «в»); «слово священномученика и исповедника нового Аввакума о рогатом клобуке»; отрывок из сочинения Аввакума о кресте и другие неатрибутированные тексты. По-видимому, протограф сборника Якм 965 был большой книгой, так как писец делал пометы: «В той же книге ниже».
2. Ярославский областной краеведческий музей, № 121 (15 367), 4°, л. 159—167, 60-е годы XVIII в.; далее Якм 121.
Сборник указан В. И. Малышевым. См. также: Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея, с. 48—49. Рукопись содержит только начало Жития; заглавие и начало текста совпадают с Якм 965; конец: «...правоверных избави, боже, сего начинания злаго о Христе Исусе, господе нашем, ему же слава ныне и присно и во веки веком. Аминь».
Сборник состоит из ранних старообрядческих текстов, в том числе содержит сочинения Аввакума: «первую» челобитную царю Алексею Михайловичу (редакция «б»); тексты из «Книги бесед» (вступление, беседы 1-я — 5-я, отрывки из 6-й и 8-й бесед); послание Морозовой, Урусовой и Даниловой в Боровск (без последней части). Непосредственно Житию (оно является заключительной статьей в сборнике) предшествует послание «брату верну» Иоанну.
3. ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 16, 4°, л. 120—129, начало XX в.; далее Дрв 16.
Рукопись указана и кратко описана В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. XIII, с. 584—585). Содержит только начало Жития (объем фрагмента, заглавие, начало и конец совпадают с Якм 121). Сборник написан ярославским иконописцем А. А. Великановым и обильно украшен им (в рукописи много заставок, инициалов, несколько красочных миниатюр). Сборник по составу повторяет Якм 121 (за одним исключением: после челобитной царю идут различные выписки из книг и «Вопрос и ответ старца Авраамия»).
- 51 -
Список Ар сохранил текст Жития в переработанном виде. Основное направление переделки заключалось в замене автобиографического, личного повествования повествованием от 3-го лица. Это достигалось заменой личных местоимений 1-го лица на 3-е (например, вместо «Рождение мое» в Ар «Рождение его», вместо «отец мой» — «отец его»), пропуском местоимений (вместо «Мати же моя постница» — «Мати же постница»), переводом прямой речи в косвенную (например, вместо «Не вем, како плачю» — «Не вем, рече, како плачю») и т. п. Иногда замена 1-го лица 3-м сочеталась с агиографической стилизацией текста; например, в Житии: «И я рек: востани!» — в Ар: «Блаженный же рече: востани!»; в Житии: «А мне был отец духовной» — в Ар: «Священному Аввакуму отец был духовной»; в Житии: «Стефан духовник, моля бога и постяся з братнею седмицу, и я с ним тут же...» — в Ар: «Стефан духовник, моля бога и постяся седмицу з братьею, и блаженный сей с ними туто же бысть...». Строго следил неизвестный редактор за просторечными, грубоватыми оборотами стиля Аввакума, исключая из текста и заменяя в нем все то, что смущало его редакторский слух; например, вместо «Аз же, треокаянной врач, сам разболеся» в Ар: «Он же сам разболелся»; вместо «Не почивал, аз, грешный, прилежа во церквах и в домех» в Ар: «Не почивая, блаженный сей...» и т. д.
Эта замена просторечных форм оборотами книжного языка конца XVII — начала XVIII в. составляет третье направление переделки текста Жития в Ар.
Приведем соответствующие примеры:
Бо (по списку Мак,
изданному в РИБ)
Ар
Отец ея был кузнец, именем Марко, богат гораздо... (стб. 90).
Отец же ея бысть именем Марко, художеством кузнец, богат зело...
И я, чаял, обманывают меня... (стб. 94).
И он чаял, яко лстят его...
...диявол научил попов... (стб. 95).
...диавол наусти попов...
Воевода... умчал в мое дворишко... (стб. 95).
Воевода... увезоша в дом ево...
На Кострому прибежал... (стб. 95).
На Кострому приидоша...
Егда приволоклися на Иргень-озеро... (стб. 111).
Егда приидохом на Иргень-озеро...
корамкаются... (стб. 111).
ползают...
...Ложку в руки дал... и штец дал похлебать... (стб. 98).
...лжицу в руки даде... и штец вкусить
ребеночек (стб. 112).
чадо
колобок (стб. 108).
опреснок и др.
- 52 -
«Славянизация» текста в Ар приводит иногда к тому, что не только разговорная лексика заменяется книжной, но и полногласные русские формы переводятся в неполногласные: вместо слова «коровы» в Ар «кравы».
Неизвестный редактор иногда решительно сокращал текст Жития, например:
Бо (по списку Мак)
Ар
Много о тех кознях говорить! (стб. 96).
(текст отсутствует)
Бысть же я в третий день приалчен, — сиречь есть захотел... (стб. 98).
Бысть же в третий день приалчен...
Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат и около меня ползают... (стб. 98).
Никто не приходил к нему, токмо малыя гады крычат и около его ползают...
Перечисление сибирских птиц и зверей в Житии («В тех же горах орлы и соколы, и кречета, и курята индиския (так!), и бабы» и т. д.) заменяется в Ар обобщением: «Множество птиц разные и звери многие всякого рода» и т. д.
Таким образом, отсутствие в Ар ряда эпизодов по сравнению с текстом Бо может быть объяснено не только предполагаемым дефектом протографа Ар, но и редакторской правкой текста.
По-видимому, редактором текста Б1 в списке Ар был сам переписчик, так как список сохранил следы правки, предпринятой непосредственно в этой рукописи. Замена 1-го лица 3-м была проведена в рукописи непоследовательно, кое-где сохранилось личное местоимение 1-го лица («Егда же аз прибрел к Москве», «на ум приидоша ми речи пророческия», «мы же здесь и на Мезени» и др.). В некоторых случаях формы 1-го лица исправлялись здесь же. Так, в тексте «...да же сочетается за меня законным браком» слово «меня» исправлено в строке на «него», слово «вижю» (в тексте: «Вижю, пловут стройно два корабля») исправлено в строке на «видит». Иногда исправление выносилось на поле: рядом с текстом «всегда учаше мя» написано «его», рядом с текстом «А се потом вижю третей корабль» на поле исправление — «видит». Характер исправлений в списке обнаруживает, что правка велась не по памяти, что перед писцом-редактором Ар лежал текст Б1: иногда, исправив его в соответствии со своими требованиями, редактор снова возвращался к первоначальному варианту самого Аввакума. Так, описывая голод в Сибири, Аввакум сокрушался о собственном осквернении: «И сам.. причастен мясам кобыльим...» (РИБ, стб. 108); в Ар было сначала написано «ядох», а затем «ядох» исправлено снова на «причастен». Упоминая о своей службе
- 53 -
в тобольской церкви, Аввакум писал: «Был я у заутрени в соборной церкви на царевнины именины, — шаловал с ними в церкви-той...» — РИБ, стб. 120; в Ар «шаловал» заменено словом «ходих», а затем вновь исправлено на «шаловал».
Эта близость списка Ар к исходному тексту Б1, его непосредственная связь с ним и делают данные списка Ар, несмотря на ряд стилистических исправлений в нем текста Жития, важными для восстановления текста Б1.
Объем дошедшего текста Б2 различен в разных списках.
Якм 965 (список конца XVII в.) доводит повествование Жития до сообщения о встрече Аввакума с Василием Петровичем Шереметевым. Весь дальнейший текст отсутствует, причем не за счет дефектности данной рукописи: после отрывка из Жития часть листа была оставлена чистой и дальше шли выписки из Исаака Сирина. Внутри Якм 965 также есть большой пропуск: отсутствует текст от слов «Сей Дионисий научен вере Христове» до слов «... соприсносущно величество; яков отец — таков сын, таков и дух святый», и т. д., но отсутствие этого текста в Якм 965 — не редакционное сокращение: выпал текст с упоминанием Афанасия Великого, а далее сохранилась отсылка к этому не существующему в данной рукописи тексту (по «вышереченному Афанасию»). Дефектным, по-видимому, был протограф Якм 965.
В Якм 121 и в близкий ему список Дрв 16 вошел еще меньший отрывок из начальной части Жития, однако здесь полностью есть текст, пропущенный в Якм 965. Оба эти списка — Якм 121 и Дрв 16 — восходят к одному протографу, они даже находятся в сборниках почти одинакового содержания, сохранивших определенный цикл сочинений.
Сопоставление текстов Якм 965, Якм 121 и Дрв 16 со списком Ар показывает, что если исключить дефекты текста, присущие этим трем фрагментам, то в целом Якм 965, Якм 121 и Дрв 16 очень близки списку Ар и, сохранив вместе с ним ряд общих чтений, дают некоторое представление об архетипе текстов Б1 и Б2.
Особенностями этого архетипного текста Б1—2, источника Б1 и Б2, по сравнению с Бо является не только наличие молитвы к «троице» и «Гимны богородице» во вступительной части Жития, но и отсутствие двух дополнительных заголовков, имеющихся в Бо («О рождении», «О Никоне»). Кроме того, текст Б1—2 обладал целым рядом таких общих чтений с редакциями А и В, которых не было в тексте Бо
Сравним несколько примеров.
1. Бо: «На, плавай на нем, коли докучаеш» (РИБ, стб. 91; так же во всех остальных списках);
Б1 (в списке Ар): «На, плавай на нем з женою и з детьми, коли докучаеш» (так же Якм 965);
- 54 -
А (так же В): «На,75 плавай на нем з женою и детми, коли докучаешь!» (РИБ, стб. 10, 163).
2. Бо: «...ано и стены разорены моего дому» (РИБ, стб. 93; так же в других списках);
Б1 (в списке Ар): «...ано и стены разорены ево храмины» (РИБ, стб. 11, 165); в Якм 965: «...ано и место и стены разорены моих храмин».
А (так же В): «...ано и стены разорены моих храмин» (РИБ, стб. 11).
3. Бо: «Приидоша в село мое скоморохи с медведьми и з бубнами и з домрами...» (РИБ, стб. 93; сходно в остальных списках);
Б1 (в списке Ар): «Приидоша в село его плясовые медведи и з бубнами и з домрами»; Якм 965: «Приидоша в село мое плясовые с медведи и бубнами и з домрами».
А (так же В): «Приидоша в село мое плясовые медведи з бубнами и з домрами...» (РИБ, стб. 11, 165).
Текст Б1—2 сближает с А и В и отсутствие в нем пояснения, характерного только для Бо: «Сердитовал на меня за церковную службу: ему хочется скоро, а я пою по уставу, не борзо, так ему было досадно» (РИБ, стб. 92). Одинаков с А (РИБ, стб. 1) сокращенный тип заимствования из Псалтыри в молитве «троице» («...утверди сердце мое приготовитися на творение добрых дел...») вместо полного заимствования, как в Прянишниковском списке: «...утверди сердце мое не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел...»;76 в редакции В по сравнению с А цитата была передана более полно: «...утверди сердце мое не о глаголании устен стужати си, но приготовитися на творение добрых дел...» — РИБ, стб. 155. Обращает на себя внимание в тексте Б1, повествующем о княгине Е. П. Урусовой (в Б2 текст не сохранился), дополнение, отсутствующее в Бо: «А бояроню Феодосью Прокопьевну Морозову, дочь мою духовную, и совсем разорили, и сына у нея уморили, а она в монастыре под началом; а сестру ею меншую Евдокею, дочь же мою духовную, бив батогами, от мужа и от детей отлучили». «Бив батогами» — нет ни в одном из списков Бо, но есть в А: «бивше батогами» (отметим, что здесь это чтение выступает в измененном контексте).
Однако при всем сходстве с Ар текст этих трех фрагментов — Якм 965, Якм 121 и Дрв 16 — не совпадает с ним полностью (точнее с текстом Жития, использованным Ар), он обладает двумя особенностями по сравнению с ним.
Во-первых, вариант «надписания» Епифания несколько изменен: вместо слов «...на славу Христу, сыну божию и богу
- 55 -
истинному, и богородице, и святым его», которые являются характерной приметой текста Бо (так же в Ар), читаем: «...на славу Христу богу, сыну божию» (т. е. текст Б2 ближе А и В).
Во-вторых, конец молитвы «троице», заимствованный в целом, как установил П. Паскаль, из Псалтыри,77 и переход к выпискам из Псевдо-Дионисия Ареопагита полностью соответствует тексту Псалтыри: «...да воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице78 Дионисия Ареопагита о божественных именах» (Якм 965, так же Якм 121 и Дрв 16), в то время как в списке Ар имеется удвоение текста (есть и формулировка Псалтыри, и перефразировка ее: «...да воздохнув от сердца и языком возглаголю о божественных именех, воспою глаголя сице Дионисия Ареопагита о божественных имянех...»).
Схема взаимоотношения списков
особого вида редакции Б.
Таким образом, источником этих трех отрывков был несколько иной текст, чем тот, на основе которого был создан список Ар; поэтому можно говорить о двух группах списков особого вида: одна из них представлена списком Ар, переработкой текста Жития, восходящей к Б1; другая — отрывками из начальной части несохранившегося списка, весьма близкого к тексту Б1, но отличающегося от него рядом чтений; мы определяем его как стилистический вариант Б1 и обозначили выше Б2 (т. е. Б2 — это протограф Якм 965, Якм 121 и Дрв 16). Определить окончательно характер взаимодействия этих двух источников пока не удалось.
Сопоставление списков Бо с текстами Б1 и Б2 обнаруживает независимое происхождение двух видов редакции Б из общего источника.
Список Ар сохранил в ряде случаев архетипные чтения редакции, совпадая при этом с текстом некоторых списков основного вида. Как и в списках второй группы, в Ар читаем: «Перемена пришла, и ему грамота пришла, а преже того грамота пришла же, Пашков же утаил от него...» Если в списке Мак
- 56 -
(РИБ, стб. 98) читаем: «...снял патриарх со главы у архидиякона дискос...», то в других списках (Муз 2582, Мз, Тх, Ег 1885, Ег 1898) указано имя архидьякона: «со главы архидиякона Ефрема». Это архетипное чтение есть и в Ар («архидиякона Ефрема»), и т. д.
Но кроме архетипных чтений, общих с Бо, в списке Ар есть чтения архетипа текста Б, испорченные во всех списках Бо (чтения Ар в этом случае соответствуют тексту редакций А, В и Прянишниковскому списку).
Сравним тексты:
Бо (по списку Мак,
изданному в РИБ)
Ар
1. По переносе меня стригли и бороду обрезали. Дети, чему быть? Волки то есть (стб. 123).
По переносе меня стригли и бороду отрезали, вражии дети! Чему быть? Волки то есть...
2....раненова от муглинских людей увел... (стб. 116).
...раненова от мунгалских людей увел.
3. А власти, яко пестрыя козы, разширя хвост, прыскать на меня стали (стб. 121; в Муз 2582, Мз, Тх, Ег 1898, Бр 297, ОИДР, Бл, Т 2344: «пырскать»).
А власти, яко пестрые козлы, разширя хвост, прыскать на меня стали.
Ряд правильных, исконных чтений, восходящих к архетипу редакции Б, сохранился в тексте Б1 и во фрагментах Б2 во вступительной части к Житию; например, в Ар, Якм 965, Якм 121, Дрв 16 — «токмо прелесть и тля», во всех списках Бо — «тма»; в Ар, Якм 965, Якм 121, Дрв 16 — «ангельские речи», так и в автографах редакций А и В, в списках Бо — «аллилуйя речи» и др.
Из сопоставления текстов выясняется, что Б1—2 сохранил целый слой архетипных чтений редакции, отсутствующих, как правило, в тексте Бо. Поэтому некоторые чтения архетипа редакции можно восстановить с помощью Б1—2. Сложнее сделать заключение об объеме архетипа, его составе в начальной и заключительной частях, т. е. там, где у нас нет материала для сравнения.
Была ли «Гимна» в архетипе редакции или она появилась только в тексте особого вида? Сейчас окончательно ответить на этот вопрос нельзя. Несомненно, что «Гимна» связана с идеями вступительной части к Житию и могла находиться в первоначальном виде редакции Б; может быть, именно ее последующее исключение из текста было причиной того, что вместе с ней из текста протографа Бо была нечаянно удалена и молитва «троице» (напомним, что в Бо молитва отсутствует, хотя, несомненно,
- 57 -
была в архетипе редакций). Конец же редакции (или текста Б1) вполне мог быть сокращен позднейшим редактором списка Ар, смущенным нескромностью героя Жития, занимавшегося «чудотворением» (напомним о многих переделках текста Б1 рукой этого редактора). По этой же причине из текста Б1 в списке Ар мог быть исключен и фрагмент о «черненькой курочке».
Отрывки Жития
При изучении текста редакции Б надо учитывать также отдельные фрагменты (определить вид редакции в этих фрагментах удалось не всюду в силу их краткости, а также неполноты текста особого вида).
1. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 654, 4°, конец XVIII в.; далее Бр 654.
Содержит два фрагмента редакции Б (текст Бо): 1) л. 265—266 об. — о «бешаном» Феодоре (начало: «А егда я был в Тобол[ьс]ке...»; конец: «Богу нашему слава и ныне и присно и во веки веком. Аминь»; ср. РИБ, стб. 140—141); 2) л. 266 об. — 267 — окончание Жития, характерное для редакции Б (начало: «Ну, старец моего вякан[ь]я много веть ты слышал»; конец: «Пускай ведома в людях правда, и лож, и кривда. Богу нашему слава и ныне и во веки веком. Аминь»; ср. РИБ, стб. 149—150).
Фрагменты Жития находятся среди сочинений Авраамия, Аввакума и Епифания (челобитная Авраамия царю Алексею Михайловичу, тропарь и кондак соловецким инокам, послание Аввакума «братии на всем лице земном» в особой редакции, Житие Епифания в первоначальной редакции).
Сборник найден И. М. Кудрявцевым, впервые введен в научный оборот как сборник, содержащий первоначальную редакцию Жития Епифания, В. С. Румянцевой (Автореф., с. 18).79 Принадлежность отрывков из Жития Аввакума к редакции Б устанавливается на основании сопоставления текстов (только в основном виде редакции Б есть фраза в обращении к Епифанию: «...напиши ...и как бес-от мужика-то задавил»; с Бо совпадает и самый конец Жития).
2. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 33 (старый № 53), 4°, л. 89—89 об., конец XVIII в.; далее Д 33.
Дефектный отрывок из Жития в редакции Б (начало: «В памяти Никон пишет...»; конец: «...время приспе страдания») продолжен далее (л. 89 об. — 92) текстом сочинения Аввакума «О жертве никонианской» (особый вариант); оба фрагмента объединены общим заглавием: «Слово св. отца Аввакума протопопа о никонианской ереси». «Слово» издано А. К. Бороздиным в его кн.: Протопоп Аввакум. Спб., 1900, прил., с. 124—126. Д 33 — старообрядческий сборник, содержащий наряду с отрывками из сочинений Аввакума (из «Книги бесед», из послания Морозовой, Урусовой, Даниловой в Боровск) выговские сочинения и памятники ранней старообрядческой литературы («Словотворение» инока Феоктиста об антихристе, «Повесть о Петре и Евдокиме»).
3. БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 59 (старый № 83), 4°, конец XVIII — начало XIX в.
На л. 2—27 внесены исправления в текст Жития редакции А по неизвестному списку редакции Б; о сборнике см. выше, с. 13—14.
- 58 -
Переработка Жития
Кроме рассмотренных выше списков Жития в редакции Б, существует еще одна разновидность его текста — поздняя переработка, пересказ, сохранившийся в двух идентичных списках:
1. ГБЛ, собр. Е. В. Барсова (ф. 17), № 983. I, 8°, л. 13—29, 31 об. —32, середина XVIII в.; далее Бр 983.
2. ИРЛИ, Древлехранилище, коллекция И. А. Смирнова № 6, 4°, л. 64—81 об., 84—85 об., начало XIX в.; далее См.
Список См известен давно: сборник с этим списком был указан и кратко описан В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. XIII, с. 585), отметившим, что «текст Жития в данном отрывке сильно подновлен, местами пересказан совершенно заново переписчиком современным языком, так что даже трудно сказать, какой редакцией Жития пользовался переписчик при переработке». А. Н. Робинсон рассматривал См как текст редакции Б «в сильно подновленном и переработанном списке».80 Аналогичная характеристика содержится в моей статье.81
Бр 983, обнаруженный И. М. Кудрявцевым, исследован в диссертации В. С. Румянцевой, охарактеризовавшей список как «наиболее краткий вариант Жития, неизвестный в литературе», как текст, связанный с самой ранней редакцией Жития, предшествовавшей «краткой» (т. е. редакции Б), но прошедший, однако, позднюю обработку.82 Это утверждение основано на рассмотрении ряда особенностей текста Бр 983: «Близость к устному сказу отдельных эпизодов, ярче выраженные конкретность и непосредственность повествования, отсутствие ярко выраженного богословско-мистического начала, в том числе некоторые фактические детали (характеристика митрополита Илариона, описание встречи с царем после изгнания из Юрьевца-Повольского и др.), позволяют сделать такое предположение».83
Иными словами, в Бр 983 (и соответственно в См) отразился текст первоначальной редакции Жития, менее книжной и более непосредственной. Значительность этого утверждения заставляет вернуться к характеристике текста.
Текст «наиболее краткого варианта Жития» находится (в обеих рукописях) в составе цикла из сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия, четко выделяемого заглавием («Выписано из книги протосиггела Аввакума») и концовкой («Еще после Никона чаем поправления. Так глаголет протосиггел»). Содержание цикла: краткие извлечения из 8-й беседы Аввакума (ср. РИБ, стб. 337, 341, 357); фрагменты из переработанного Жития Аввакума (начало: «Службу я певал по уставу единогласно...»;
- 59 -
конец: «...а оне по-старому висят. А другие повести ниже положены будут»); пересказ первой части Жития Епифания, названной «О Авраамии поведание»; отрывки из той же переработки Жития Аввакума (начало: «Во 162-м году за месяц пред мором...»; конец: «...понеже бремя тяжко, не могу носить»); сокращенный текст статьи Аввакума «О сложении перст»; «Вопрос и ответ старца Авраамия» (в переработке); сочинение Аввакума «О жертве никонианской» (в сокращении); отрывок из его послания «братии на всем лице земном».
По-видимому, См и Бр 983, как об этом можно судить на основании сопоставления текстов, воспроизведения помет на полях рукописи и др., восходят к общему протографу (если только Бр 983 не послужил источником для См). Отметим сразу же, что состав статей в этом цикле напоминает рассмотренные выше сборники с текстом Бо и что все сочинения в цикле — сокращения, переделки.
Текст Жития в Бр 983 (берем его за основу для сопоставления как более ранний список) производит впечатление дефектного текста: в нем отсутствует вся начальная часть Жития, перепутана последовательность повествования (фрагмент, сообщающий о рождении Аввакума, находится в рукописи вне Жития, следует за пересказом Жития Епифания; о проповеди Ававакума в Москве в 1664 г., послужившей причиной его ссылки на Мезень, сообщается после рассказа о ссылке и т. п.). Текст иногда отрывочен и непонятен. Сравним тексты.
Бр 983
Житие в редакции Б
...И отвезли меня не стригше в Сибирской приказ. Савватей-старец на Новом сидит в земляной тюрме. Из Сибирскаго приказу послали мене з женою и з детьми до Тобольска... (л. 16 об.).
Не стригши, отвели в приказ Сибирской и отдали дьяку Третьяку Бошмаку, что ныне стражет же за православную веру с нами, Саватей-старец, сидит на Новом, в земляной тюрме. Спаси ево, господи! И тогда мне добро делал. Таже послали меня в Сибирь... (РИБ, стб. 99).
Отрывочность повествования Бр 983 — одна из характерных особенностей этого текста. По существу это не цельный текст Жития, а ряд фрагментов из него. Например: «Боярыню Феодосию разорили, и сына ея Ивана уморили, а сестру ея Евдокею меншую от мужа и от детей разлучили. У газского митрополита табаку 60 пуд выняли, да домру, и другия вещи зазорныя монастырския...» (ср. РИБ, стб. 124—125). Отдельные, никак не связанные эпизоды оказываются в непосредственной близости друг от друга, производят впечатление фрагментарных, иногда конспективных выписок из Жития.
Выборочный характер выписок из Жития подтверждается и заглавием всего цикла сочинений Аввакума и Епифания
- 60 -
(«Выписано из книги протосиггела Аввакума»), и замечаниями редактора-компилятора, сопровождающими отдельные фрагменты. Так, из всех рассказов о борьбе с бесами, заключающими Житие в редакциях А, Б, В, в Бр 983 упоминаются только два: первый — о книге Ефрема Сирина и последний — о «бесовском действе» в церкви. Завершающая фраза — «А иные повести ниже положены будут» — свидетельствует о знакомстве создателя этого текста и с другими «повестями», однако их в Бр 983 нет. На этом текст Жития обрывается (далее идет переделка первой части Жития Епифания). Перечисляя сибирские воспоминания Аввакума, редактор текста явно сокращает их изложение и перечень: «Был я... в соборной церкви в Тобольске... а к обедни не пошол, и проч[ее]». Тот же характер сокращений и указаний на них обнаруживается и в других сочинениях цикла, например в сочинении Аввакума «О жертве никонианской» (...проклял Никона и жертву их, и прочее»), в выписке из послания «братии на всем лице земном».
По-видимому, отсутствие большинства риторических фрагментов и библейских заимствований в Житии по списку Бр 983 тоже является результатом редакторской деятельности, так как в источнике Бр 983 эти фрагменты были и некоторые из них сохранились: здесь дважды повторено заимствование из Апокалипсиса («Фиял бог излиял за церковной раскол», или: «Того ради бог излиял фиял гнева на Рускую землю»), есть прорицание Неронова («Неронов прорек прежде мора три пагубы: мор, меч, разделение. Тако и бысть») и др.
Вмешательство позднего редактора в текст Жития очевидно. Так, наряду с изложением от 1-го лица вдруг возникает изложение от 3-го лица: «До патриаршества с ними, как лисица, обходился лукаво (речь идет о патриархе Никоне. — Н. Д.), а как получил патриаршество, так Стефана и товарищей ево и в крестовую не велел пущать» (л. 14 об.; ср. РИБ, стб. 96: «Егда же приехал, с нами, яко лис: челом да здоров[о]! Ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы отколе помешка какова не учинилася. Много о тех кознях говорить! Егда поставили патриархом, так друзей не стал и в крестовую пущать!»).
Отметим в этом фрагменте Бр 983 не только редакторское сокращение, но и переосмысление текста: система контрастных противопоставлений Аввакума, имеющая этическое содержание (отношение Никона к его друзьям до и после избрания на патриаршество), разрушается, так как упоминание о «друзьях» Никона в Бр 983 отсутствует (здесь, в Бр 983, речь идет о «товарищах» Стефана Вонифатьева) и внимание сосредоточено на теме политического лукавства Никона, дорвавшегося до власти: «Стефана и товарищей ево... не велел пущать» (в отличие от Бр 983 в Прянишниковском списке Жития, отразившем, как будет показано далее, текст первоначальной редакции памятника, сохранилось именно это выражение — «друзья» Никона — и текст передает интонацию непосредственного
- 61 -
участника событий: «А нас, друзей своих, не стал и в крестовую пущать»84).
Но иногда вмешательство редактора в текст Жития Аввакума трудно выявить: сказовые интонации повествователя производят впечатление авторских, лаконичный синтаксис текста, «рубленый» рисунок фразы (характерная примета «сказовой манеры»), казалось бы, хорошо согласуются с аналогичными явлениями стиля и композиции отдельных фрагментов Прянишниковского списка. Несомненно, текст Бр 983 напоминает запись устного рассказа, но чьего? Аввакума или позднего редактора?
Против авторства Аввакума свидетельствует тот факт, что в Бр 983 нет ни одного эпизода, которого не было бы в известных текстах Жития. Некоторые детали описания, подробности кажутся в Бр 983 «новыми», например известие о том, что Аввакум перед царем Алексеем Михайловичем умолчал о своем «изгнании» из Юрьевца-Повольского, что жена одного из «начальников», преследовавших Аввакума (имени его — Евфимей Стефанович — известного нам по другим текстам Жития, в Бр 983 нет), была «боярыней», что Аввакум на патриаршем дворе в Юрьевце-Повольском «судиею был» и т. д. Однако анализ этих сообщений в контексте Жития обнаруживает, что это не что иное, как умозаключения, выведенные из полного текста Жития, результат восприятия повествователем текста Жития, разъяснение им не вполне понятных мест, установление новых связей в сообщениях текста. Все «новые» фрагменты в Бр 983 оказываются ничем иным, как стилистически подновленным повествованием.
Таким образом, анализ Бр 983 обнаруживает определенные принципы редакторской работы над текстом Аввакума: выборка отдельных эпизодов из Жития, в основном конкретных по содержанию, называние основной темы фрагмента. Составителя, несомненно, интересует событийная, биографическая канва повествования, хотя в источнике, как мы видели, были и риторические пассажи. Очевидно стремление редактора-компилятора самостоятельно осмыслить текст Жития, записать его (со слуха? по памяти?), а не скопировать. Абсолютным доказательством того, что переработка Жития в Бр 983 не принадлежит Аввакуму, является подобная же переделка всех текстов в этом сборнике. Один из самых ярких примеров аналогичной «редактуры» — Житие Епифания.
Текст Жития Епифания в Бр 983 представляет собой сокращенное изложение первой его части, иногда довольно близкое к авторскому тексту. Создателя пересказа интересует прежде всего история борьбы с Никоном, поэтому биография Епифания (он называется в этом тексте Авраамием, а все Житие озаглавлено
- 62 -
«О Авраамии поведание»85) начинается с известия о никоновской реформе — о печатании книг Арсением-«жидовином». Предыстория Епифания (известия о рождении его и о приходе в Соловецкий монастырь) заменена в Бр 983 кратким тезисным указанием: «Житель и постриженик соловецкой» (с этой фразы и начинается текст изложения; обращение к читателям в тексте Бр 983 отсутствует). Иногда редактор предваряет автобиографическое повествование справкой от себя: «Тут повесть, как ево старец Кирила послал в келию жить свою, а в ней бес жил. Авраамий, живучи в той кельи, помощию пресвятыя богородицы из кельи той беса выгнал и невредимо в ней жил» (далее следует сокращенный текст Епифания о том же). В пересказе текста Жития отсутствуют все конкретные наименования лиц, местностей, упоминаемых Епифанием, нет хронологических указаний, но в целом сохраняется канва повествования первой части Жития, где описывается борьба Епифания с бесами, хотя и со значительными сокращениями в передаче отдельных эпизодов.
По-видимому, источник Бр 983 по объему и композиции соответствовал тексту, известному нам по автографам Епифания в обоих Пустозерских сборниках — Зв и Д. В стилистическом отношении Бр 983 представляет повествование, заметно отличающееся от Зв и Д: Бр 983 больше ориентируется на синтаксис устной речи и является менее книжным текстом в подборе лексики (например, в эпизоде борьбы Епифания с бесами читаем: в Житии86 — «приидоша», в Бр 983 — «вошли»; в Житии — «почиваю», в Бр 983 — «сплю»; в Житии — «в велицем ужасе», в Бр 983 — «трепещет»; в Житии — «Аз же велегласно вопию ко господу по вышереченному», в Бр 983 — «А аз вопию к богу: „Господи, помоги!“»). Это своеобразие Бр 983 проявилось и в последнем эпизоде текста: описание борьбы Епифания с муравьями заметно обновлено (Епифаний муравьев «жег и в реку, нагребши кузовок, носил», и др.; ср. Зв и Д: «варом варил», «кошницею носил в воду» и т. д.). Эти подробности и новые стилистические варианты описания в принципе могут рассматриваться и как авторские, принадлежащие Епифанию, а не последующему редактору. Но доказать авторство Епифания в настоящее время невозможно: все оригинальные чтения Бр 983 не находят соответствия ни в одном из известных текстов Епифания,
- 63 -
в том числе и в ранней редакции его Жития.87 Стилистические особенности Жития Епифания в Бр 983 связаны с последующей обработкой первоначального текста, которая была не «книжной», а наоборот, «неухищренной». Компилятора интересовали прежде всего события жизни Епифания, он излагал их по-своему, в разговорном стиле, почти точно воспроизводя иногда синтаксис своего устного рассказа.
Такой же обработке в протографе Бр 983 подвергся и «Вопрос и ответ старца Авраамия», и сочинение Аввакума «О жертве никонианской» (в основе его лежит полный текст, указанный выше: «Слово св. отца Аввакума и протопопа о никонианско[й] ереси»88). Сочинение это было сокращено, хотя представляло, казалось бы, несомненный интерес для старообрядческого читателя. Из послания Аввакума «братии на всем лице земном» редактор выбрал только автобиографический фрагмент: «Пишет о себе, яко в детстве голубятник был. Я-де их смолоду держал, попович был».
Таким образом, в Бр 983 мы встречаемся с новым типом воспроизведения Житий Аввакума и Епифания, отличающимся от переделки Жития Аввакума в Ар или от выговского Жития Епифания, насыщенного «риторическим художеством»,89 — с вольным пересказом.90 Возможно даже, что пересказ делался по памяти, без непосредственного использования оригинала.
Трудно ответить на вопрос о причинах такой переработки, но можно допустить, что компилятор хотел восстановить текст книги, которая находилась когда-то в его распоряжении и которую он неоднократно читал (книга могла быть конфискована, утрачена, владелец ее — создатель текста Бр 983 или его протографа — мог оказаться в тюрьме, в ссылке и т. п.).
Рукопись с пересказом, возможно, была впоследствии повреждена, и этот дефектный текст лег в основу Бр 983 (или его протографа).
Анализ текста пересказа Жития Аввакума обнаруживает его близость к тексту Бо (есть сообщение о том, что Иван Родионович «сердитовал», что в село приходили «скоморохи», фрагмент о Морозовой и т. д.).
- 64 -
Выше мы отмечали, что и состав цикла сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия в Бр 983 (как и в См) напоминает сборники с Житием Аввакума, содержащими текст Бо. Есть текстологическое доказательство этой непосредственной связи: сокращенный пересказ статьи Аввакума «О сложении перст» в Бр 983 восходит именно к той разновидности текста этого сочинения, который находится в сборниках вместе с текстом Бо Жития Аввакума, — к варианту Б (текст статьи из сборника Дружинина мы по аналогии с Житием называем вариантом А, из сборника Заволоко — В).91 Если последовательность повествования и некоторые выражения Бр 983 (такие, как «мудрование» папы Фармоса) присущи в равной мере и варианту А, и варианту Б, то указания на возраст иподиякона Дамаскина («70 лет») — характерная примета только текста Б.
Именно сборник с текстом Жития Бо послужил источником компилятивного, вольного пересказа в протографе Бр 983 и См.
Подробная характеристика сборника Бр 983 и анализ отличий его от оригинала — протографа сборников с текстом Бо — может составить предмет особого исследования, и выводы его, несомненно, будут нужны для суждения о разных типах редакторской обработки текста в старообрядческой рукописной традиции.
Однако рукопись Бр 983, датируемая серединой XVIII в., представляет самый непосредственный интерес для нашей темы: она свидетельствует о существовании еще до середины XVIII в. сборника, близкого по составу к протосборнику сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия, содержащего текст Бо Жития Аввакума.
Каким же был первоначальный облик сборника, содержащего редакцию Б Жития? Выше мы отмечали существование общего протографа для обеих групп списков с текстом основного вида редакции Б, в состав которого входил цикл сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия. Сборник-протограф представлял собой своеобразную антологию их сочинений, подобранных иногда тематически (особый цикл в сборнике составляют, например, послания и письма Аввакума Ф. П. Морозовой и и Е. П. Урусовой). Можно предположить, что местом составления сборника-протографа и распространения его копий была такая старообрядческая община, где память о «начальных страдальцах» была сильна и где их сочинениями дорожили. Этого не могло быть на Керженце, где из-за сочинений Аввакума происходили ожесточенные раздоры в начале XVIII в. Поморскую рукописную традицию эти сборники как будто миновали, во всяком случае в XVIII в.92 (вспомним, что на Выге получила распространение редакция А Жития Аввакума). Остается Москва
- 65 -
— московская община старообрядцев, в среде которых и распространялись эти сборники. Предположение о московском происхождении протографа всех этих сборников поддерживается и тем, что основной круг сочинений, содержащихся в них, связан с Москвой: это сочинения москвича Авраамия, послания Аввакума Морозовой в Москву и в подмосковный Боровск, его же послания московскому священнику Стефану и московской старице Меланье, челобитная царю Федору Алексеевичу и т. д. «Транзитом», через Мезень, шли эти сочинения в Москву, может быть, это объясняет наличие в «московских» сборниках письма Аввакума семье, которая, находясь в ссылке на Мезени, способствовала распространению сочинений Аввакума.
Наряду с этим циклом сочинений, повторяющимся в обеих группах сборников, в составе сборника-протографа второй группы были и другие сочинения ранней старообрядческой литературной традиции, связанные в основном с деятельностью дьякона Федора: тексты из «Ответа православных», сказания о патриархе Никоне, «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании», содержащее историю суда над ними и московской казни в августе 1667 г. (с этих текстов сборник-протограф второй группы, по-видимому, и начинался).
Входили ли эти сочинения в состав сборника-протографа основного вида? С нашей точки зрения, вероятность этого очень велика. Дело в том, что списки второй группы никак не обнаруживают своего позднего происхождения, они совершенно равноправны с первой группой по количеству имеющихся в них чтений архетипа редакции, а иногда только они сохраняют правильный первоначальный текст. Кроме того, один из старейших сборников этой группы — Ег 1885 — содержит текст Жития, относящийся к первой группе списков, что может рассматриваться как доказательство существования в протографе основного вида полного сборника, включавшего в свой состав не только цикл сочинений Аввакума, Епифания и Авраамия, но и сочинения дьякона Федора. Эти тексты дьякона Федора составляли, по-видимому, начальную — вероисповедную и «историографическую» часть сборника: здесь излагались основные расхождения старообрядцев с «никонианской» церковью, сообщались необходимые сведения о начале раскола. Затем уже шли сочинения других пустозерских узников и сочинения Авраамия.
Обращает на себя внимание наличие в составе этого реконструируемого сборника основного вида редакции Б ряда текстов, напоминающих о Пустозерском Дружининском сборнике. Кроме «Ответа православных» и сказаний о патриархе Никоне, здесь есть и совместный цикл сочинений Аввакума и Епифания, известный нам по обоим пустозерским сборникам (он представлен другими редакциями их сочинений): Житие Аввакума (в редакции Б), первая часть Жития Епифания (в ранней редакции, предшествующей исправленному варианту в сборнике Заволоко), «Снискание и собрание о божестве и о твари» (вариант Б),
- 66 -
статья Аввакума «О сложении перст» (вариант Б). Эта совокупность текстов не кажется случайной и позволяет предположить существование еще одного авторского сборника пустозерских писателей, подобного Дружининскому, но более узкого по составу: «Ответ православных» был представлен здесь краткой разновидностью, не было «записок» о казнях в Пустозерске (возможно, им соответствовало повествование дьякона Федора о московской казни), отсутствовали челобитные Лазаря.93
Житие Аввакума в редакции Б было послано из Пустозерска, вероятно, в составе такого сборника и только впоследствии, в результате соединения нескольких рукописных традиций, произведенного, по-видимому, в Москве, оно оказалось в сборнике широкого состава.
Следует сделать еще один вывод, важный для последующего выяснения соотношения авторских сборников Аввакума и Епифания: текст первой части Жития Епифания, аналогичный его автографу в сборнике Заволоко (причем тексту, находящемуся в строке, без учета исправлений на полях рукописи), сопровождал в этом сборнике редакцию Б Жития Аввакума.
- 67 -
Глава II.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ТЕКСТОВ
ТРЕХ РЕДАКЦИЙ ЖИТИЯ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯТекстологическое исследование редакций Жития Аввакума уместно предварить анализом хронологических данных, содержащихся в них. Нельзя ли датировать редакции Жития и тем самым сразу установить последовательность их возникновения?
Напомним, что, согласно представлениям Я. Л. Барскова, все три редакции были созданы в одно время — во вторую половину 1672 — первую половину 1673 гг., и только вступление к редакции В — «поучение питомникам церковным» — относится к 1675 или 1676 гг.1
С датировкой Барскова совпадает и датировка П. Паскаля,2 с тем, однако, отличием, что Паскаль стремился датировать отдельно каждую редакцию Жития и тщательно анализировал те хронологические приурочивания различных редакций, которые ему удалось обнаружить. Паскаль относил возникновение редакции А ко второй половине 1672 г., редакции Б — к концу 1672 — началу 1673 г., редакции В, текст которой во многом близок Б, — также к 1673 г. с последующим дополнением ее в 1675—1676 гг.3
Анализ данных, привлеченных П. Паскалем для датировки, обнаруживает, однако, что не все объяснения его правдоподобны и не все факты им учтены. Кроме того, как мы уже отмечали ранее, общие принципы хронологических уточнений исследователя также вызывают сомнение: Паскаль использует данные общего слоя известий всех редакций для датировки отдельных редакций и чрезмерно доверяет точности хронологических указаний Аввакума. Между тем, используя указания, которые делает сам Аввакум, надо учитывать и общие принципы его собственного счета времени, и возможность ошибок памяти, и чисто «эмоциональные» хронологические сдвиги, возникающие в его тенденциозном художественном повествовании.
Аввакум иногда считал время не по фактической его продолжительности, а в соответствии с календарным его обозначением.
- 68 -
Так, например, сообщая о возвращении из Сибири, Аввакум писал в Житии (редакция А): «Три годы ехал из Даур...» (РИБ, стб. 43); на самом деле путешествие его продолжалось около двух лет4: «перемена» Афанасию Пашкову и грамота Аввакуму, в которой ему было «велено ехать на Русь», пришла в Иргенский острог 14 мая 1662 г., Пашков уехал 25 мая, а Аввакум — «месяц спустя», т. е. в конце июня 1662 г.;5 в Москву Аввакум приехал не позднее середины мая 1664 г.6 Это противоречие фактической хронологии событий и счета лет Аввакумом можно объяснить тем, что он имеет в виду здесь календарное исчисление лет: Аввакум возвращался из Сибири в течение 7170, 7171 и 7172 гг.7
Часто Аввакум охотно «округлял» сроки то в одну, то в другую сторону. Так, по-разному называет он сроки сибирской ссылки. «И сибирския беды хощу воспомянути, колико во одиннатцеть лет... делаша язв...», — пишет он в первой челобитной Алексею Михайловичу и там же ниже: «И не то, государь-свет... едино, но в десеть лет много тово было...» (РИБ, стб. 725, 727).8 Срок своего пребывания «под началом» Афанасия Пашкова Аввакум значительно преувеличивает: «Десеть лет он меня мучил»; между тем Аввакум был во власти Пашкова не 10, а 7 лет («мучения», вынесенные от Пашкова, Аввакум распространяет на все время своей сибирской ссылки9). Точно так же Аввакум сообщает о своем заключении в Пафнутьевом монастыре: «...скована держали год без мала» (РИБ, стб. 53); на самом деле его заключение на этот раз продолжалось с 5 сентября 1666 г. по 30 апреля 1667 г.10
Неточности авторской хронологии событий вызываются иногда не публицистическим заданием, а простыми ошибками памяти: описывая солнечное затмение 1654 г., Аввакум указывает,
- 69 -
что оно было «перед Петровым постом недели за две», т. е. в середине июня, в то время как на самом деле оно было 2 августа. В середине же июня (22 июня) «в Петров пост» было другое затмение — затмение 1666 г., которое случилось через 12 лет после первого, а не через 14, как опять ошибочно указывает Аввакум.11
Таким образом, при использовании хронологических указаний самого Аввакума всегда нужна качественная их оценка.12 При анализе сообщений, датирующих текст, прежде всего необходимо выбрать такие, которые являются индивидуальными сообщениями данной редакции.
В редакции А есть слой известий, общий и для других редакций Жития: сообщение о «чуде» с Лазарем, у которого вырос «совершенной» язык через «2 года» после казни в апреле 1670 г., счет лет «священства» Аввакума («...совершен в протопопы... тому двадесеть лет минуло, и всего тридесять лет, как имею священство» — РИБ, стб. 8), указание на «полтретьятцеть» лет его проповеднической деятельности и др. Но есть в редакции А сообщения, нигде более не повторяющиеся; такими соообщениями являются: 1) известие о возрасте дочери Аввакума Аграфены («...а ныне уж ей 27 годов...» — РИБ, стб. 28), 2) указание Аввакума на двадцатилетний срок его мучений от «никониан» («...20 лет тому уж прошло...» — РИБ, стб. 41). Сочетание обоих этих известий позволяет приурочить редакцию А к 1673 г. В самом деле, если Аграфена родилась, как доказал П. Паскаль, 16 июня 1645 г.13 и 27 лет ей исполнилось в июне 1672 г., то можно предположить, что текст редакции А был написан после 16 июня 1672 г. и до 16 июня 1673 г., когда Аграфене исполнилось уже 28 лет (Паскаль без объяснений «закрепил» текст А за второй половиной 1672 г.). Указание же Аввакума на 20 лет мучений от «никониан» позволяет отнести этот текст именно к 1673 г., а не к 1672 г.: Аввакум был арестован в августе 1653 г. Это второе указание редакции П. Паскаль считает «трудным» для объяснения: оно не вполне согласуется с данными о возрасте Аграфены (в августе 1673 г. ей уже было 28 лет) и противоречит сообщенному Аввакумом сроку его «священства», так как в 1673 г. Аввакум носил сан
- 70 -
протопопа уже 21 год, а не 20 лет.14 Паскаль предлагает считать это сообщение анахронизмом, который возник в силу того, что Аввакум мог вспомнить здесь о своих притеснениях в Юрьевце-Повольском в 1652 г.
Объяснить это сплетение хронологических данных в тексте редакции А можно следующим образом. Сообщения о возрасте Аграфены и о мучениях Аввакума от «никониан» относятся только к тексту редакции А и указывают на 1673 г., причем, по-видимому, на первую его половину, до 16 июня, так как 16 июня 1673 г. Аграфене исполнилось уже 28 лет; срок же своих мучений от «никониан» Аввакум назвал приблизительно, может быть, даже ориентируясь не на точную протяженность времени (20 лет — 240 месяцев), а на календарное исчисление лет: время с августа 7161 г. по июнь 7181 г. вполне можно было обозначить как «двадцать лет». Можно предположить также, что текст редакции А создавался не в течение одного месяца, поэтому фрагмент об Аграфене мог быть написан до 16 июня, а воспоминание о начале мучений, не очень отдаленное по времени от предшествующего текста, — в июле — августе 1673 г. Поэтому, строго говоря, не исключена возможность создания Аввакумом текста редакции А и в течение лета 1673 г., когда Аграфене только что исполнилось 28 лет.15 Что же касается сообщения о «протопопстве» Аввакума, то остается только предположить, что оно, как и известие о «чуде» с Лазарем и сообщение о его двадцатипятилетней проповеднической деятельности, имеющиеся, кроме редакции А, в редакциях Б и В, относится к предшествующему редакции А тексту, созданному именно в 1672 г. Аналогичные анахронизмы встречаются в тексте В: отправляя его «питомникам церковным» в 1675 г., Аввакум оставил в нем те же старые даты без изменений.
В свете рассмотренных выше данных представляется невозможным использовать для датировки редакции А следующие факты: упоминание митрополита рязанского Илариона как здравствующего («ныне архиепископ резанской» — РИБ, стб. 71) и отсутствие известия о смерти Федора Ртищева. Известно, что Иларион Рязанский умер 6 июня 1673 г.,16 Федор
- 71 -
Ртищев — 21 июня того же года;17 казалось бы, эти факты могут рассматриваться как terminus ad quem для редакции А.18 Но этот же текст Аввакум сохранил в редакции В, отправленной читателям в 1675 г., есть он и в редакции Б и поэтому не может служить аргументом для датировки именно редакции А.
Абсолютно прав был Барсков, который считал, что слово «ныне» (в упоминании об Иларионе) «указывает на то, что Житие Аввакума написано не позже смерти Илариона».19 Однако это замечание справедливо только для первоначальной редакции текста. При переписывании Жития и при его переделке Аввакум, как видим, сохранял старые указания.
При рассмотрении хронологических данных двух других редакций — Б и В — дело обстоит сложнее. В редакции Б (здесь и далее используем текст основного вида редакции, так как особый вид создан несколько позже) совсем нет «индивидуальных» датирующих чтений (она сохраняет только тот слой известий, который является общим для всех трех редакций).
Редакция В (в основной части, вступление к ней датируется осенью 1675 г.), кроме общего слоя известий, упоминаемых в А и Б, содержит еще новые данные, совпадающие только с редакцией А.
Рассмотрим вначале вопросы датировки редакции Б. Нельзя ли предположить на основании уже сделанных замечаний, что общий слой известий, сохранившийся без каких бы то ни было дополнений в редакции Б, и был связан с первоначальным текстом Жития, созданным в 1672 г.?
В связи с этим предположением важно обратить внимание на отсутствие в редакции Б упоминания о казни инока Авраамия, сожженного в Москве «на Болоте».
Инок Авраамий — «духовный сын» и любимец Аввакума (до пострижения юродивый «Афонасьюшко»), публицист и историограф начального периода старообрядчества, создатель «Христианоопасного щита веры» (1669—1670 гг.), кодекса важнейших сочинений в защиту «старой веры»,20 был арестован, по-видимому,
- 72 -
в январе 1670 г.21 за энергичную пропаганду раскола, за «письма», распространяемые им, и за постоянную связь с Пустозерском. «Что ты, Аврамей, бедной, худо делае[ш], — говорил ему на допросе митрополит Павел, — пишеш ко Аввакуму протопопу грамотки».22 Сам Аввакум одобрительно относился к деятельности Авраамия: «Любо мне, что ты еретиков побеждаешь, среди торга их, псов, взущаешь».23
Дата казни Авраамия неизвестна из исторических документов. Я. Л. Барсков полагал, что Авраамий «был казнен в Москве... в конце 1671 года».24 Основанием для этой датировки послужили слова Аввакума, что Авраамия казнили «два года спустя» «после Феодорова удавления», а так как казни на Мезени («Феодорово удавление») принято было датировать концом 1669 г., то соответственно казнь Авраамия датировалась концом 1671 г. Этот вывод Барскова использовал Паскаль (инок Авраамий «был сожжен на Болоте в конце 1671 или в самом начале 1672 г.»);25 ему следует и А. Н. Робинсон («...после казни Авраамия в Москве в 1671 г...»26). Но сам же Паскаль доказал, что казни на Мезени не могли быть раньше конца марта 1670 г.,27 следовательно, слова Аввакума («спустя два года») указывают на более позднее время — не на конец 1671 г. (Барсков) и не на самое начало 1672 г. (Паскаль), а на время не ранее апреля 1672 г. — весну — лето 1672 г. Именно так и датирует казнь инока Авраамия в комментарии к книге Робинсон: «Авраамий был сожжен в Москве „на Болоте“ весной 1672 г.».28
- 73 -
Заканчивая Житие описанием заключения пустозерских узников в земляную тюрьму, Аввакум в редакции А продолжал перечень расправ «никониан» сообщением о казнях в Москве: «И прочих наших на Москве жарили да пекли: Исаию сожгли, и после Авраамия сожгли...» (РИБ, стб. 65). Еще ранее, вспоминая о своей московской жизни в 1666—1667 гг., Аввакум с умилением описывал «миленькова Афонасьюшка»: «Хорош был и Афонасьюшко — миленкой, сын же мне духовной, во иноцех Авраамий, что отступники на Москве в огне испекли, и яко хлеб сладок принесеся святей троице...» (РИБ, стб. 57). Первый фрагмент, упоминающий о казни Авраамия, присущ только редакции А, в Б и В этот текст отсутствует. Но в редакции В сохранился второй фрагмент, соответствующий тексту А, — похвала «подвигу» Авраамия, несколько переделанный по сравнению с А и дополненный новыми подробностями о «стязании» Авраамия с московскими властями: «Павел Крутицкой за бороду ево драл и по щокам бил своими руками, а он истиха писанием обличал их отступление...» (РИБ, стб. 204). Эти подробности Аввакум почерпнул, несомненно, из сочинений самого Авраамия: Авраамий писал об этом и в челобитной царю, и в послании единомышленникам, известном под названием «Вопрос и ответ старца Авраамия».
В редакции Б (в списках Бо и Б1) отсутствуют оба этих фрагмента: о казни Авраамия автор этой редакции Жития как будто еще не знает.
Для определения возможного времени написания редакции Б обратим также внимание на изменения в тексте Жития, повествующем о боярыне Ф. П. Морозовой, ее сестре княгине Е. П. Урусовой и о смерти ее сына — И. Г. Морозова. Редакционные изменения коснулись и подробностей, сообщаемых Аввакумом, и самого тона повествования.
В редакции Б говорится о том, что Морозову «совсем разорили и сына у нее уморили, а она в монастыре под началом» (одинаковый текст читается и в списках Бо и Б1). О Е. П. Урусовой сообщается, что ее «от мужа и от детей отлучили». В специальном фрагменте текста в Бо Аввакум выражает сожаление о смерти сына Морозовой, юного Ивана Глебовича, и утешает всех сокрушающихся о нем: «Пускай Христос своих собирает к себе! Умер же бы Иванушко всяко, а то мученик Христов, Морозовых бояр. Исповедал ево, света, в темнице на Москве бывше, и причастил тела Христова, яко непорочнаго агнца. Добро, полно тово. Любо мне, что за Христа умирают, я их тому и учил. Что по них и тужить?» (РИБ, стб. 124—125).
В редакции А имеется одинаковое с Б известие о разорении Морозовой и о смерти ее сына, но здесь нет упоминания о том, что боярыня находится в «монастыре под началом», а кратко сообщается: «...и ея мучат». Зато в А сообщается новая подробность о Евдокии Урусовой: ее «бивше батогами», «с мужем розвели, а ево князь Петра Урусова на другой-де женили»
- 74 -
(РИБ, стб. 53). Но в редакции А нет никаких рассуждений о смерти Ивана Глебовича Морозова.
Таким образом, несмотря на общий слой известий, лежащий в основе этих обоих фрагментов (сообщения об аресте Морозовой и Урусовой и об окончательном разорении опальной боярыни, о смерти ее сына,29 о разлуке Урусовой с детьми и мужем), каждый из текстов своеобразен в передаче фактов.
Кажется, что сообщения редакции А — это сведения текста, написанного позже; в редакции А появляются детали, соответствующие уже следующему периоду испытаний: Евдокию «бивше батогами»,30 до Аввакума дошли слухи не только о разлучении Е. П. Урусовой с семьей, но и о новой женитьбе П. С. Урусова, что произошло в начале 1673 г.31
Редакция В в целом передает известие о Морозовой и Урусовой так же, как и А, причем с подробностями именно этой редакции (Урусову «с мужем и з детьми бивше розвели»), но В располагает и целым рядом чтений, присущих только редакции Б: Морозову и Урусову Аввакум называет здесь своими «духовными дочерями», сын Морозовой назван по имени — «Иван Глебович». Текст В как будто объединил данные редакций А и Б.
Особыми в каждой из трех редакций являются и лирические отступления Аввакума от изложения событий, выражающие его чувства и оценку событий.
В редакции Б лирическое отступление передает восхищение Аввакума подвигом сестер во имя веры («Красные и светлые боярони в Руской земли явились; не токмо славы, но и плоти своей и деток не пощадели, да Христа приобрящут») и содержит мысль о необходимости терпения («Пускай их, светов моих, мучатся Христа ради!» — РИБ, стб. 124). В тексте редакции А имеется только вторая часть рассуждения Аввакума о необходимости терпения, значительно более разработанная (тема мучения раскрывается здесь как тема ниспосланного богом испытания), причем рассуждение о дальнейшей судьбе сестер
- 75 -
переходит в экзальтированную похвалу Христу: «Да что петь делать? Пускай их, миленких, мучат: небеснаго жениха достигнут. Всяко-то бог их перепровадит век сей суетный и присвоит к себе жених небесный в чертог свой, праведное солнце, свет, упование наше!» (РИБ, стб. 53).
Известие о мучении сестер рассматривается в редакции В не только в ряду сообщений о сторонниках «старой веры» среди боярства, но и как один из многих фактов мучительства «никониан»: «...и ныне мучат всех: не велят веровать в старова сына божия, спаса Христа, но к новому богу, антихристу, зовут. Послушай их, кому охота жупела и огня, соединись с ними в преисподний ад!» (РИБ, стб. 200).
В этой редакции возникает совсем новый план повествования: факты судьбы Морозовой и Урусовой переключаются в рассуждение Аввакума о вероисповедных вопросах, о «новом боге» — антихристе; чувство умиления ниспосланным испытанием, проповедь терпения сменяются чувством негодования.32 Перенесение эмоционального центра с судьбы сестер на вопросы веры вызвало изменение тона и в самом известии о них: изложение редакции В суховато и строго документально, указаны все имена, и обозначены все отношения («...а дочь-ту мою духовную, Федосью Морозову, и совсем разорили, и сына ея Ивана Глебовича уморили, и сестру ея, княгиню Евдокею Прокопьевну, дочь же мою духовную...» (РИБ, стб. 200); ср. более фамильярное изложение в Б: «...и сестру ея меньшую Евдокею, дочь же мою духовную...» (РИБ, стб. 124).
Таким образом, несомненна разница не только в фактических подробностях трех редакций, но и в самом тоне повествования; в редакциях А и Б личное отношение к судьбе сестер выражено сильнее, причем кажется, что именно текст Б как более эмоциональный, содержащий и восхищение Аввакума подвигом Морозовой и Урусовой, и его скорбь по поводу смерти И. Г. Морозова, является первоначальным, что именно он выразил непосредственный отклик Аввакума на события конца 1671 — начала 1672 г. — на известия об аресте и заключении Морозовой, о смерти ее сына, последовавшей вскоре после ареста.
Против предложенной трактовки фрагментов о Морозовой и Урусовой в редакциях А и Б может быть использован текст послания Аввакума, адресованного им, текст, очень близкий по тону и чувствам именно к редакции Б, но обычно датируемый 1674 г.33
- 76 -
Как и в редакции Б, Аввакум выражает здесь свое восхищение подвигом сестер. Высокая патетика («Как вас нареку? Вертоград едемский именую и Ноев славный ковчег...») сменяется неподдельным человеческим удивлением: «Подумаю, да лише руками возмахну! Как так, государыни, изволили с такия высокия степени ступить и в бесчестия вринутися?»34 Кажется близким и внутренний смысл образов в том и другом тексте: «Красные и светлые боярони в Руской земли явились» (в редакции Б — РИБ, стб. 124) — «...светила великия, солнца и луна руския земли... красота есте церкви и сияние...» (в послании). В других посланиях Аввакума Морозовой и Урусовой — совсем иная система уподоблений: «Херувимы многоочитыя... воеводы огнепалныя, воинство небесных сил» (РИБ, стб. 393); «...земнии ангели и небеснии человецы», «светлии и доблии мученицы, столпи непоколебимии» (РИБ, стб. 411).
Как и в редакции Б, тема подвига Морозовой и Урусовой сопровождается в послании скорбным плачем об умершем сыне Морозовой: «Увы, чадо драгое! Увы, мой свете..! Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле приклонился...». Поразителен творческий диапазон Аввакума, его свободный переход от сильных, но привычных «книжных» образов к единственным в мире словам, способным передать чувства матери: «...тебе уже неково чотками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки некого погладить, — помнишь ли, как бывало?» Как и в редакции Б, здесь вспоминается последнее свидание Аввакума с «Иванушкой» Морозовым в московской темнице и причастие его Аввакумом. Заключительные слова фрагмента в редакции Б (РИБ, стб. 125) почти совпадают с завершением этой темы в послании Морозовой и Урусовой: «Да пускай, богу надобно так... Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумеем, яко царствию небесному достоин».
Среди дошедших до нас посланий Аввакума Морозовой и Урусовой (известны еще два послания, адресованные им и М. Г. Даниловой) и специальных отрывков, посвященных сестрам в других сочинениях (в «Книге бесед», «Книге толкований», в «Слове плачевном»), это послание выделяется силой и, главное, непосредственностью выражения чувств по отношению к Ивану Глебовичу. В одном из последних посланий Аввакума в Боровск, написанном, по-видимому, после летних казней 1675 г.35 и предназначенном,
- 77 -
несомненно, не только для боровских узниц, но и для широкого круга читателей, об Иване Глебовиче вспоминается даже как о добровольной жертве Морозовой, причем в тонах, не вызывающих сомнения в том, что речь идет о давно прошедшем событии: «Напоследок же сына своего Ивана в жертву принесе богу, православия ради, еже есть скончался скоро отрок от великия печали, егда отступники с тобою разлучили. Ты же нимало от подвига уклонися...» (РИБ, стб. 410). Аналогичный по тону текст имеется и в «Слове плачевном» (1676 г.), несмотря на всю прочувствованность этого сочинения: «По смотрению же божию скоро преставися Феодосьин сын единородный Иван Глебович, и вся вотчины... быша в разграблении. Она же вся, яко уметы, вменила ради сына божия».36 В «Книге бесед» (РИБ, стб. 252) и в «Книге толкований» (РИБ, стб. 471) об Иване Глебовиче не упоминается. В послании Аввакума Морозовой, Урусовой и Даниловой, сопровождавшем отправленную им же часть «Книги бесед» («Книга иноке Феодоре, а по-мирски боярыне с сестрами...» — РИБ, стб. 393), большой фрагмент об Иване Глебовиче связан, собственно, не с чувствами, возникшими у Аввакума при раздумье о его смерти, а с утешением Морозовой, которая сокрушалась, что «никониане» перед смертью причастили сына и погубили тем самым его душу. Этот фрагмент и индуцирован специальным обращением Морозовой к Аввакуму: «А что петь о Иване-то болно сокрушаешься? „Главы, главы не сохранил!“ Полно су плюскат[ь]-то, Христа для!» (РИБ, стб. 397); «...собаки опоганили при смерти, так у матушки и брюхо заболело: „Охти мне, — сына опоганили! во ад угодил!“ Не угодил, — не суетися! Для тебя так попущено, чтоб ты не вознеслась» (РИБ, стб. 398).
В рассматриваемом послании Морозовой и Урусовой Аввакум сам сокрушается о кончине «миленькова своего государя». Послание написано не в ответ на обращение к нему Морозовой: Аввакум ничего не знает о ее судьбе («Свет моя, еще ли ты дышишь? Друг мой сердечной, еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя?.. Провещай... един глагол: жива ли ты?»37). Близость текста этого послания к событиям начала 1672 г., к полученному Аввакумом известию о смерти Ивана Глебовича весьма ощутима. Показательно, что в этом же послании Аввакум продолжает вспоминать о раздорах Морозовой с юродивым Федором, казненным в марте 1670 г. на Мезени: «Он не больно пред вами виноват был, — обо всем мне пред смертию, покойник, писал: стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить, и им-де на дорогу ничево не дала...».38 Эти темы связывают
- 78 -
послание Аввакума с событиями жизни Морозовой и Урусовой еще на свободе, предполагают не сильный разрыв в мыслях корреспонденток Аввакума между их настоящим и прошлым.
Почему же это послание в научной литературе датируется 1674-м годом? Основанием для такой датировки является фраза Аввакума: «Недивно, яко 20 лет и единое лето мучат мя...» (РИБ, стб. 926). Начиная отсчет лет «мучений» Аввакума от ареста его в 1653 г., исследователи и получают дату 1674 г. Однако эта датировка произвольна, так как мы не можем быть уверены, что за начало отсчета следует брать именно 1653 г. Ведь в послании Аввакума не сказано, что его 21 год мучат «никониане» (в отличие от аналогичной фразы редакции А). Обычно не обращается внимание и на то, что Аввакум начинает отсчет своих «бед» от разных событий. Так, например, в первой челобитной Алексею Михайловичу (1664 г.) он ведет отсчет «бед» с событий 1647 г. — с преследования его «начальными людьми»: «Изволиш[ь], государь, з долготерпением послушат[ь], и я тебе, свету, о своих бедах и напастех возвещу немного. Егда я был в попех в Нижегороцком уезде, ради церкви божия был удавлен...» (РИБ, стб. 724—725). С событий 1647 г. Аввакум начинал повествование о «бедах» и в экспозиции своего Жития: первый рассказ из этой серии — «у вдовы начальник отнял дочерь» — это тот самый эпизод, которым открывается перечень «бед» и «напастей» в его «первой» челобитной; к 1647 г. он относил и начало своей проповеднической деятельности: «Не почивая, аз, грешный ...проповедуя и уча слову божию, — годов будет тому с полтретьятцать» (РИБ, стб. 90, одинаково в редакции А, Б, В).
Трудно сказать, какие именно события вспомнил Аввакум при написании послания Морозовой и Урусовой, но несомненно, что оно было отправлено в Москву до ссылки их в Боровск, т. е. до осени — зимы 1673 г. До сих пор не обращалось внимания на то, что послание это адресовано только Морозовой и Урусовой, личность их третьей «соузницы» по боровскому заключению Марии Герасимовны Даниловой здесь начисто игнорируется, в то время как два других послания адресованы «тричисленней единице» — Морозовой, Урусовой и Даниловой (см. РИБ, стб. 393, 405). Это обстоятельство нуждается в особом разъяснении. Почему, направляя послание в Боровск в 1674 г. (если принять существующую датировку), Аввакум избегал обращаться в нем к почитаемой им М. Г. Даниловой? «Лоза преподобия и стебль страдания, цвет священия и плод богоданен... мучеником сликовна», — так именовал ее Аввакум в своих посланиях.39 Если же предположить, что послание Морозовой и Урусовой было направлено в Москву, тогда отсутствие обращения к М. Г. Даниловой становится понятным: в Москве они все находились в раздельном заключении (их соединили только
- 79 -
во время пытки, а затем вновь разлучили). Аввакум мог и не знать тогда о заключении Даниловой, ставшей «соузницей» сестер лишь в Боровске, а обращался к Морозовой и Урусовой, извещенный об их участи.
Какой же этап «подвига» сестер славит в этом послании Аввакум? Что он имеет в виду, когда пишет: «Женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприявше, диявола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще: „Приидите, телеса наши мечи ссецыте и огнем сожгите, мы бо, радуяся, идем к жениху своему Христу“».40 Ответ дает «Слово плачевное»: этими же самыми словами Аввакум описывает в нем начало «подвига» — заключение Морозовой и Урусовой под стражу 16 ноября 1671 г. («Егда же время приспе, женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприемше, и на муки пошла, Христа ради мучитися»41).
Если же послание Морозовой и Урусовой имеет в виду это событие и написано Аввакумом сразу же после получения им известий об аресте Морозовой и Урусовой и о смерти сына Морозовой (возможно, эти новости пришли в Пустозерск вместе), то все легко объясняется в его тексте. Понятно, почему в нем не упоминается М. Г. Данилова, о связи участи которой с судьбой сестер Аввакуму еще ничего не известно. Понятна и форма обращения, не свойственная другим посланиям Аввакума (он обращается сначала к Ф. П. Морозовой, а потом уже возникает имя другого адресата — Евдокии Урусовой): последовательное, а не одновременное обращение к ним объясняется тем, что это первое послание, отправленное обеим сестрам вместе (обычно он писал одной Морозовой; судьба их с этого момента стала общей). Понятен и эмоциональный тон послания: «Увы, Феодосья! Увы, Евдокея!»; Аввакум ничего не знает о дальнейшей судьбе арестованных «духовных дочерей», он полон тревоги и беспокойства («Свет моя, еще ли ты дышишь?.. Не вем и не слышу; не ведаю — жива, не ведаю — скончали!..»). Именно поэтому в послании так много сообщений, ассоциирующихся с представлениями о прежней свободной жизни боярыни: вспоминая о ее раздорах в 1669 г. с Федором, Аввакум (по-видимому, впервые) сообщает Морозовой о письме Федора, написанном Аввакуму незадолго перед смертью; он благодарит ее за денежную помощь семье («Спаси бог, денег те жене моей и кое-что послала...»). И как итог этой прежней жизни Морозовой, и одновременно как напутствие ей, вступившей теперь на новую стезю — стезю мученичества, звучат слова Аввакума: «Мучьтеся за Христа хорошенько, не оглядывайтеся назад... Ну, и тово полно — побоярила...».42
- 80 -
Таким образом, хотя пока и не представляется возможным объяснить упоминание Аввакума о 21 годе его мучений,43 несомненно, круг его представлений связан именно с началом 1672 г.
Послание Морозовой и Урусовой не противоречит тем самым нашей датировке редакции Б Жития, а наоборот, подкрепляет ее, указывая на первую половину 1672 г.
Датировка этой редакции Жития 1672-м г. подтверждается и следующим обстоятельством. Житие Аввакума в редакции Б входит в состав устойчивого цикла его сочинений, включающего особый вариант текста «Снискания и собрания о божестве и о твари», названный нами (по аналогии с Житием) вариантом Б. Время создания этого сочинения — 1672 год — указано самим Аввакумом.44 Однако до сих пор было неизвестно, к какому варианту «Снискания» относится эта дата. Сопоставление текстов трех вариантов «Снискания» — в сборнике Дружинина, в сборнике Заволоко и в сборниках с редакцией Б — показало, как мы уже отмечали, что именно текст варианта Б является источником для двух других, он и датируется 1672-м г.45
Таким образом, анализ хронологических данных редакций Жития перестраивает традиционную схему последовательности их возникновения, согласно которой редакция А предшествует Б, и ставит под сомнение существующую их общую характеристику. Это наблюдение о первоначальности редакции Б необходимо проверить данными текстологического анализа.
Главное отличие редакции Б от А — отсутствие в ней ряда эпизодов, что и позволяет характеризовать ее как «краткий вид» Жития.46 В редакции Б значительно менее подробно описаны некоторые «сибирские беды» Аввакума (ср. РИБ, стб. 28 и 108—109), нет рассказа о том, как Аввакум спрятал «замотая» и соответственно нет приписки-«прощения» Епифания, отсутствует подробное описание доброты безымянного приказчика воеводы Афанасия Пашкова, снабдившего семью Аввакума едой
- 81 -
при возвращении их на Русь, нет сцены с Анастасией Марковной, благословляющей Аввакума «проповедать слово божие по-прежнему», отсутствует описание встречи с «иноземцами» в Сибири, нет длинного воспоминания об уединенных молитвах Аввакума, рассказа о «чуде», свершившемся с его дочерью — «Огрофеной» (она онемела, а потом стала порицать Аввакума за небрежное выполнение службы); нет в редакции Б и рассказов о «духовных детях» Аввакума, казненных на Мезени (юродивом Федоре и кожевнике Луке), о казнях в Москве, нет обличения «никониан» в конце Жития и др.
Текстологический анализ редакций А и Б обнаруживает, что краткость редакции Б зависит от разных причин. Отсутствие ряда фрагментов, как оказывается, не было изначально присуще тексту редакции, оно объясняется дефектами текста Бо, который рассматривался до сих пор как текст, полностью соответствующий авторскому, в то время как это лишь один из вариантов редакции Б; его дефектные чтения и пропуски восстанавливаются с помощью текстов Б1 и Б2. Отсутствие других фрагментов и эпизодов, имеющихся в редакции А, объясняется иными причинами.
Рассмотрим один фрагмент Жития, текст которого позволяет понять взаимоотношение редакций А и Б.
Вот как описывает Аввакум свое положение в Москве в 1664 г., незадолго перед мезенской ссылкой, в редакции Б: «Видят оне, что я не соединяюся с ними: приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтоб я молчал. И я потешил ево: царь то есть, от бога учинен; маленка помолчал и паки заворчал; написав, ему подал, чтобы он старое благочестие взыскал и мать нашу, общую святую церковь, от ереси оборонил и на престол бы патриаршеский пастыря православного учинил вместо волка и отступника Никона, злодея. Царь же с того времени на меня кручиноват стал» (РИБ, стб. 121).
В редакции А текст в начале отрывка полностью соответствует Б: «Видят оне, что я не соединяюся с ними: приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтоб я молъчал. И я потешил ево: царь то есть, от бога учинен...» (РИБ, стб. 49). Как видим, тексты здесь тождественны, нет сомнения в непосредственной зависимости редакций друг от друга. А дальше начинается расхождение текста. В редакции А появляется дополнительная характеристика царя: «...а се добренек до меня, — чаял, либо помаленку исправится», и большой новый фрагмент текста об обещании властей дать Аввакуму место на Печатном дворе «книги править», о подарках ему, о том, что сам он ходил «к Федору Ртищеву бранитца со отступниками». После этого вновь идет текст, уже известный по редакции Б: Аввакум «паки заворчал, написав царю многонко-таки, чтоб он старое благочестие взыскал... пастыря православнова учинил вместо волъка и отступника Никона, злодея и еретика». И снова — неизвестный редакции Б фрагмент: «И егда писмо
- 82 -
изготовил, занемоглось мне гораздо, и я выслал царю на переезд с сыном своим духовным, с Феодором юродивым, что после отступники удавили ево... на Мезени...». Далее следует подробная история вручения челобитной царю, «шаловства» Федора в церкви перед царем, заточения Федора в Пафнутьевом монастыре. Весь фрагмент завершается следующим образом: «...и царь, пришед в монастырь, честно ево велел отпустить. Он же паки ко мне пришел. И с тех мест царь на меня кручиноват стал; не любо стало, как опять я стал говорить, любо им, как молчю, да мне так не сошлось» (РИБ, стб. 50). Повествование в редакции А возвращается к тексту, известному по редакции Б: «И с тех мест царь на меня кручиноват стал...». Предположение о сокращении редакции А до объема Б маловероятно, потому что, не говоря уже о невозможности объяснить цель и смысл такого сокращения, есть еще одно препятствие: как можно при сокращении текста без добавлений и переделок сохранить синтаксис и грамматические формы слов таким образом, чтобы они снова образовали связный, правильный текст? Обратим внимание на то, что текст А не совсем согласован в смысловом отношении. Сразу после известия о приходе Федора к Аввакуму сообщается: «И с тех мест царь на меня кручиноват стал...» Получается двусмысленность, которой нет в Б: по редакции Б царь «стал кручиноват» на Аввакума после его «писма». Эта удаленность следствия от причины (царской «кручины» от «писма» Аввакума) — признак разрыва текста, примета скорее стилистическая, чем текстологическая, но все-таки примета вторичности текста А. Чувствуя неловкость, возникшую в тексте после его распространения (по редакции А получается, что царь сердится за то, что Федор пришел к Аввакуму), Аввакум преодолевает ее дополнительным разъяснением причины: царь «кручиноват стал», так как ему «не любо», что Аввакум «стал говорить». В редакции В описаны все эти факты, но в другой тональности и с другими объяснениями. Рассказ близок Б только в начальной части, а дальше совсем переработан,47 поэтому текст В органичен и никаких следов переделки предшествующего текста в редакции В нет.
Аналогичный пример «раздвинутого» текста в редакции А по сравнению с Б — это описание возвращения Аввакума из Сибири. Обширный рассказ о встрече с «иноземцами» на Иртыше, когда Аввакум, чтобы успокоить их, вышел из лодки и стал «обниматца с ними, што с чернцами», и «лицемеритца», помещен в тексте редакции А в своеобразную «рамку» из одной и той же фразы («Таже приехал к Москве. Три годы ехал из
- 83 -
Даур... (далее следует описание встречи)... Также к Москве приехал...» — РИБ, стб. 43—44) и воспринимается как вставка, отступление от основного повествования, представленного текстом редакции Б.
Приметой первоначальности текста редакции Б может считаться и сохранение остатка евангельской цитаты в сцене суда над Аввакумом: «Возми, возми, распни его!» — кричат «власти» на Аввакума, не собираясь его распинать на самом деле; так и в тексте Бо (РИБ, стб. 128), и в Прянишниковском списке,48 в редакциях же А и В цитата сокращена, как бы «подчищена», осталось только необходимое: «Возми, возми!».
Одно из важных текстологических доказательств первоначальности текста Б по отношению к А связано с близостью этой редакции к тексту Прянишниковского списка (редакция Б восходит к протографу Прянишниковского списка) и рассматривается ниже, в главе III.
Таким образом, и хронологические, и текстологические данные убеждают в первоначальности редакции Б. Для общей характеристики движения текста Жития этот вывод очень важен. Оказывается, что те эпизоды, которые в Б отсутствуют (по сравнению с А), еще просто не были написаны.
Редакции А и Б созданы почти в один и тот же промежуток времени (1672—1673 гг.) и очень близки по настроениям Аввакума, отразившимся в них. Описывая историю своей жизни, Аввакум стремится найти вечный, вневременной смысл в ее событиях: равномерность чередования добра и зла в судьбе героя (идея, реализованная в самой композиции повествования), обязательность воздаяния за добро и зло здесь, в земной жизни. Аввакум еще полон в эти годы задора борьбы и, чувствуя свою силу, охотно прощает врагов. «Я бы и Никона отступника простил, как бы он покаялъся о блудни своей ко Христу; ино лиха не та птица... Пущай ево еще поиграет!» (РИБ, стб. 118), — пишет он в редакции Б. Правда, в редакции А этого прощения Никона нет, оно было снято, по-видимому, как чрезмерное, но прощение царя и бояр одинаково в обеих редакциях («Диявол между нами разсечение положил; а оне всегда добры до меня» — РИБ, стб. 53, 124).49
Создание этих редакций относится ко времени, когда пустозерские узники еще не потеряли надежд на отмену никоновской реформы и окончание репрессий: пять лет борется с царскими войсками, не сдается Соловецкий монастырь, ширится движение старообрядчества, Аввакум верит в возможность перемен. «Но милостив господь, — пишет он в редакции Б, — ...прогнав болезни душ и телес наших, и тишину подаст» (РИБ, стб. 102). «А нынешнюю зиму потерпите только маленько...» —
- 84 -
обращается он к семье в письме на Мезень в 1673 г.50 Интенсивная литературная деятельность Аввакума рождает сознание собственного реального участия в продолжающейся борьбе. «Мне веть неколи плакать, — обращается он к своим единомышленникам в Поморье в эти же годы, — всегда играю со человеки... В нощи что пособеру, а в день рассыплю...»51
Однако разница между этими редакциями существует. Она заключается не только в разном объеме их текста: дополнительные (по сравнению с Б) эпизоды редакции А определяют новое литературное качество этого текста. Текст А не просто подробнее — он много глубже в смысле художественного воссоздания жизни. Так, например, диалог с Анастасией Марковной, возникающий при возвращении Аввакума из Сибири и воспроизведенный им в редакции А, отражает всю сложность психологического бытия героя автобиографического повествования, его сомнения, муки долга и чувства («Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? — Связали вы меня!» — РИБ, стб. 43). В редакции А Аввакум в полной мере ощутил свободу от литературных условностей, он как бы играет с подвластной ему формой повествования, сам созидая и разрушая ее, превращая подчас свое Житие в реальную беседу с читателями (так, в рукописи Жития он оставляет чистое место, чтобы Епифаний мог приписать свое прощение).
В редакции Б отсутствуют не только отдельные эпизоды, известные А, но и различные отступления Аввакума от основного текста повествования. Если проанализировать характер всех этих отступлений, имеющихся в А и отсутствующих в Б, то окажется, что они отражают различные аспекты полемических высказываний Аввакума или представляют собой комментарии истолковательного характера, примеры личной церковнослужебной практики. В редакции А появляются подробные описания исповеди и причащения, уединенных молитв Аввакума, рассказы о крещении им своих собственных детей и т. п., т. е. эпизоды, явно рассчитанные на практическое восприятие их средой «правоверных».
Не только новые эпизоды, но и те изменения, которые Аввакум вносит в текст Жития, имеющийся в редакции Б, свидетельствуют о характере и направлении его редакционной работы. Сравним тексты.
В редакции Б, как и в двух других редакциях Жития, есть рассказ о «черненькой курочке», спасавшей в Сибири семью Аввакума от голодной смерти и доставшейся Аввакуму после исцеления им больных кур боярыни Пашковой. Рассказ о «курочке» кончается в Бо так: «От тово племяни и нам курочка досталась» (в Б1 этот текст отсутствует). В редакции А конец повествования о курочке усилен комментарием: «Да полно тово
- 85 -
говорить! У Христа не сегодни так повелось. Еще Козма и Дамиян человеком и скотом благоденствовали и целили о Христе. Богу вся надобно: и скотинка, и птичка во славу его, пречистаго владыки...» (РИБ, стб. 32). Читатель редакции А убеждается здесь не только в эрудиции проповедника: явственно выступает и тот ряд героев, к которому тяготеет герой Жития, — это «святые», благодействовавшие о Христе.
Рассказ об исцелении Аввакумом внука Пашкова (Аввакум смог его исцелить после покаяния матери) в редакции А почти соответствует Б, но завершается свойственным только этой редакции обращением Аввакума: «Виждь, слышателю, покаяние матерне колику силу сотвори: душу свою изврачевала и сына исцелила. Чему быть? — Не сегодни кающихся есть бог!» (РИБ, стб. 34) и т. д. Повествование в редакции Б более «событийное» и в меньшей степени, чем в А, связано с явно выраженным дидактическим заданием. Отсутствие в А некоторых эпизодов, характерных для редакции Б (например, рассказов о Цехановицкой), объясняется, по-видимому, именно этим дидактическим заданием новой редакции.
Вернемся к вопросу о возможности датировки редакции В.
Ранее мы датировали эту редакцию Жития 1675-м г. на основании данных вступительной статьи Аввакума — его обращения к «питомникам церковным», полагая, что ко времени написания этого нового вступления следует относить и окончательную авторскую работу над текстом и что написание вступления и основной части рукописи было одновременным.52 Однако изучение истории создания Пустозерского сборника Заволоко показало, что хотя основная часть редакции действительно весьма близка по идеям к новому вступлению Аввакума, она была написана раньше,53 так как входила в состав рукописи с Житием, существовавшей до создания сборника Заволоко. Поэтому к датировке основной части редакции следует подойти более осторожно, извлекая данные для ее хронологического приурочивания непосредственно из ее текста.
Напомним, что датирующие чтения В в основном совпадают с общими чтениями Б и А (эта редакция также передает общий слой известий). Именно поэтому возникла научная традиция (Смирнов, Барсков, Паскаль, Робинсон) отделять время написания предисловия от основной части редакции и датировать ее 1672—1673 гг. Но, кроме того (и ранее это не отмечалось), ряд фрагментов В соответствует только данным редакции А, отличающимся от Б: 1) в редакции В дважды упоминается о казни инока Авраамия; 2) по-видимому, Аввакум уже знает об окончательном переходе Ф. С. Пашковой, своей «духовной
- 86 -
дочери», к «никонианам» весной 1673 г. (в редакции Б Аввакум называл ее «духовной дочерью», в редакциях А и В этого чтения нет);54 3) фраза в конце Жития «...не пошто нам ходить в Персиду мучитца, а то дома Вавилон нажили» (РИБ, стб. 240) соответствует тексту заключения редакции А: «Кому охота венчатца, не пошто ходить в Перъсиду, а то дома Вавилон» (РИБ, стб. 65). Образы «Персиды» и «Вавилона», восходящие к библейской Книге пророка Даниила, где рассказывается популярный в средневековье сюжет о преследованиях трех отроков вавилонским царем Навуходоносором, обычно используются в сочинениях Аввакума в связи с упоминанием (или описанием) пребывания Морозовой, Урусовой и Даниловой в боровской земляной тюрьме, в которую они были заключены во время патриаршества Питирима (после 19 апреля 1673 г.).55
На основании этих фактов можно утверждать, что редакция В написана после Б (как и А), круг ее сведений совпадает с кругом известий редакции А (т. е. она создана не ранее лета 1673 г.), но в тексте ее нет хронологических ограничений, присущих тексту редакции А: нет известия о возрасте дочери Аввакума и сообщения, что Аввакума мучают 20 лет. Правда, в редакции В сохранилось упоминание об Иларионе, который «ныне архиепископ резанской», но мы знаем, что Аввакум не придавал этому сообщению большого значения: отправляя в 1675 г. эту редакцию «питомникам церковным», он не исправил текста. Terminus ad quem для редакции В — время ее включения в сборник Заволоко, т. е. лето или осень 1675 г.
Таким образом, хронологические данные текста основной части редакции В совпадают с аналогичными данными редакции А, поэтому, исходя из фактов, известий, сообщаемых редакциями, нельзя определить последовательность их создания (напомним, что и палеографически рукописи автографов очень близки друг другу). Однако представляется невозможным предположить и одновременность их написания: редакция В очень отличается от текстов А и Б, в ней усиливается и развивается дидактическая направленность Жития, как бы продолжается процесс дополнения и распространения текста Жития, отчетливо выявившийся уже при создании новой (по сравнению с Б) редакции А.
Вопрос о последовательности написания этих двух редакций Жития, сохранившихся в автографах, следует решать на основании сопоставления текстов Жития и анализа их содержания.
- 87 -
Сложность изучения соотношения текстов различных редакций Жития заключается в том, что все редакции авторские.
Обычно при изучении средневекового текста и восстановлении отдельных звеньев его литературной истории исследователи ищут письменный источник, первоначальный список, протограф. Решающими аргументами при анализе могут оказаться мельчайшие совпадения разночтений, ошибки, «выдавшие» тайну генетической связи текстов. В авторских же переделках текста практически невозможно обнаружить «швы» — места соединения источников, границы предшествующих редакций. К тому же при создании авторских редакций произведения — и это необходимо учитывать в данном случае — возможны переход через звено, совпадения не с текстами, непосредственно предшествующими, а со значительно более ранними, так как источником здесь не всегда является текст письменный, а само творческое сознание писателя выступает в роли «сводчика» всего ранее созданного им.
Однако при исследовании Жития есть все основания полагать, что Аввакум перерабатывал тексты редакций, а не только создавал и воссоздавал их по памяти.
Выше, рассуждая о времени написания редакции А, мы отмечали, что Аввакум оставил в ее тексте без изменения и старые эпизоды, и старые даты («...тридесять лет как имею священъство», — пишет он в 1673 г., переписывая текст 1672 г.). Из установления этого факта вытекает несколько наблюдений: 1) перед нами очень своеобразное явление средневековой литературы, когда авторское повествование обнаруживает свойства летописного свода: тексты соединяются без перевода из одной системы времени в другую, прочно сохраняя связь с тем моментом, когда они были созданы;56 2) некоторые факты, сообщаемые Аввакумом, не могут рассматриваться как основание для датировки произведения в целом, так как он мог брать их из ранее написанных сочинений, в составе больших отрывков текста и переносить, «пересаживать» в новый текст; 3) сохранение в тексте не согласованных с моментом повествования, «устаревших» фактов (анахронизмов) свидетельствует о письменной зависимости текстов одного от другого. Композиция, свойственная устному произведению в различных его версиях, создаваемых и воссоздаваемых каждый раз заново, по памяти, способствует полной соотнесенности момента повествования и момента говорения.
- 88 -
Эти рассуждения справедливы и в отношении редакции В: она тоже сохраняет старые сведения, хотя написана, как и редакция А, не ранее середины 1673 г. Следовательно, редакция В писалась не по памяти, а на основании предшествующего текста, лежавшего перед Аввакумом.
Каким был этот текст?
При последовательном сопоставлении всех трех редакций обнаруживается, что в основном слое эпизодов, имеющихся и в А, и в Б, и в В, текст В, как правило, связан с Б композицией и общими чтениями. Как пример, рассмотрим один фрагмент, извлеченный из текста Жития.
Рассказывая о «духовной дочери» Анне, Аввакум писал в редакции А: «В Тоболске была у меня девица, Анною звали, дочь духовная, гораздо о правиле прилежала о церковном и о келейном, и вся мира сего красоту вознебрегла. Позавиде диявол добродетели ея, наведе ей печаль о первом хозяине своем Елизаре, у него же взросла, привезена ис полону ис кумыков» (РИБ, стб. 77).
Ср. Б: «Была у меня девица в Тоболске, Анною звали, как впред ехал. Маленка ис полону ис кумык привезена, възрасла у хозяина у Елизара, девство свое соблюла непорочно; в совершенстве возраста отпустил ее хозяин ко мне, зело правилне и богоугодне жила. Позавиде диявол добродетели ея, наведе ей печаль о первом хозяине ея, и стала плакать по нем...» (РИБ, стб. 142).
Текст В повторяет Б почти дословно: «В Тобольске была девица у меня, Анною звали, как впредь еще ехал. Маленька ис полону ис кумык привезена; девьство свое непорочно соблюла; в совершеньстве возраста отпустил ея хозяин ко мне, зело правилне и богоугодне жила. Позавиде диявол добродетели ея, наведе ей печаль о Елизаре, о первом хозяине ея, и стала плакать по нем...» (РИБ, стб. 224).
Отдельные мелкие чтения В, общие с редакцией Б, многочисленны.
В редакции Б, описывая «бешанова» Федора, Аввакум сообщал, что «князь... велел ево в село к своим отослать» (РИБ, стб. 141); в редакции А: «...в деревню к жене и детям сослать» (РИБ, стб. 75); в редакции В, как и в Б: «...в село ко своим ево отслать» (РИБ, стб. 223). В описании возвращения с Нерчи-реки (известный эпизод падения «протопопицы» на лед вместе с «иным томным человеком») редакция В сохраняет обороты, свойственные Б; ср. А: «...оба кричат, а встать не могут...» (РИБ, стб. 31); Б: «...корамкаются на лду, а встать не могут» (РИБ, стб. 111); В: «...оба карамкаются, а встать не смогут» (РИБ, стб. 185) и т. д.
Одним из доказательств связи редакции В с текстом Б служит и композиция заключительной части Жития в ней: сразу после «хвалы церкви» идет не обличение «никониан», как в тексте А, а обращение к читателям, известное по тексту Б:
- 89 -
«Посем у всякого правоверна прощения прошу...» (РИБ, стб. 214, ср. 132), и т. д.
Характер связи редакции В и А иной. Кроме некоторых отдельных мелких чтений, которые будут рассмотрены далее, в редакции В использованы общие с А эпизоды. Но все эти эпизоды представлены в ином стилистическом оформлении, они пересказаны, используются лишь их подробности, сведения, но не полностью текст (нет ни одного буквального совпадения текста В с А, которого не было бы в редакции Б).
Так, например, в редакции А, вспоминая Ивана Неронова в связи с описанием расправы Никона с московскими протопопами, Аввакум сокрушался о его «падении»: «А напоследок, по многом страдании, изнемог бедной, — принял три перста, да так и умер. Ох, горе! всяк, мняйся стоя, да блюдется, да ся не падет! Люто время... Зело надобно крепко молитися богу...» (РИБ, стб. 16). В редакции Б этот текст отсутствует, в редакции В, где описание ссылок и казней полностью соответствует Б, его также нет, но в другом месте Жития, где вновь упоминается Неронов, этот фрагмент появляется, причем в переделанном виде, а не в дословной передаче (ср.: РИБ, стб. 174).
Много подробнее в редакции А по сравнению с Б было описано возвращение Аввакума в Москву из сибирской ссылки; эти подробности отразились и в редакции В, но воспроизведены они были не дословно и не точно. Ср. начало этого эпизода в разных редакциях.
Б: «Егда к Москве приехал, государь к руке поставил и слова милостивые были: „Здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де велел бог видатца!“ И много кое-чево было» (РИБ, стб. 120).
А: «Таже к Москве приехал, и, яко ангела божия, прияша мя государь и бояря, — все мне ради. К Федору Ртищеву зашел... (следует подробное описание встречи. — Н. Д.)... и потом [он] царю обо мне известил. Государь меня тотъчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил: „Здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де видатца бог велел“. И я сопротив руку ево поцеловал и пожал, а сам говорю: „Жив господь, и жива душа моя, царь-государь, а впредь, что изволит бог!“ Он же, миленькой, вздохнул, да и пошел куды надобе ему. И иное кое-что было...» (РИБ, стб. 44—45).
В: «Егда же к Москве приехал, государь велел поставить меня к руке, и слова милостивыя были; казалося, что и вправду говорено было: „Здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де велел бог видатца!“ И я сопротив того рек: „Молитвами святых отец наших еще жив, грешник. Дай, господи, ты, царь-государь, здрав был на многа лета“. И поцеловал руку, пожал в руках своих, да же бы и впредь меня помнил. Он же вздохнул и иное говорил кое-што» (РИБ, стб. 194).
В редакциях А и В упоминаются одинаковые подробности сцены встречи с царем (Аввакум «поцеловал» и «пожал» ему
- 90 -
руку), но использованы они в каждой редакции по-своему: текстологическая зависимость их друг от друга никак не проявляется.
Имеющийся в редакции А отрывок о правилах причащения (РИБ, стб. 30) есть и в редакции В, но здесь он выделен в конце Жития в особую статью и отличается текстуально (РИБ, стб. 229—230).
Только в А и В есть рассказ о приходе юродивого Федора в Пафнутьев монастырь, но и здесь нельзя обнаружить каких-либо примет связи текстов: это повествование об одном и том же, но рассказанное по-разному. Сравним начало отрывков. Редакция А: «Тут же приезжал ко мне втай з детми моими Феодор покойник, удавленой мой, и спрашивалъся со мною: „Как-де прикажет мне ходить, — в рубашке ли по-старому, или в платье облещись? Еретики-де ищут и погубить меня хотят“» (РИБ, стб. 55). В: «Тут же приезжал и Феодор покойник з детьми ко мне побывать, и спрашивался со мною, как ему жить, в рубашке ль-де ходить, али платье вздеть? Еретики-де ищут меня» (РИБ, стб. 202).
Дальше в тексте такие же заметные отличия.
На основании этих сопоставлений можно сделать вывод: хотя в редакции В есть целый ряд эпизодов, отсутствующих в редакции Б и имеющихся только в редакции А (рассказ о встрече с иноземцами на Иртыше, подробное описание «московского бытия» протопопа после сибирской ссылки, рассказ о приходе в Пафнутьев монастырь юродивого Федора и др.), все они рассказаны иначе, совершенно самостоятельны в стилистическом отношении, иногда находятся даже в других композиционных связях с основным текстом. Источником текста для редакции Жития в сборнике Заволоко (как и для редакции в сборнике Дружинина) послужил текст редакции Б; между редакциями сборника Дружинина (А) и сборника Заволоко (В) нет непосредственной текстологической зависимости.
Вот одно из доказательств того, что обе редакции Жития — А и В — исходили из текста Б и что они автономны по отношению друг к другу.
В рассказе о «волоке» на Иргень-озере читаем в разных редакциях.
Б: «А дети маленки были — не с кем таскать; едаков много, а работать некому: один бедной протопоп зделал нарту и зиму всю волочился за волок» (РИБ, стб. 107).
А: «А дети маленки были — едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту зделал и зиму всю волочилъся за волок» (РИБ, стб. 26);
В: «А дети были маленьки, таскать не с кем: один бедной протопоп зделал нарту и зиму всю за волок бродил» (РИБ, стб. 181).
Текст В не может происходить из А: откуда в этом случае в тексте В появилось бы сообщение «таскать не с кем?» Источником
- 91 -
его является текст Б. Но точно так же и А не может происходить от В: дополнение А («едоков много, а работать некому») отсутствует в сокращенном тексте В; редакция А почти дословно воспроизводит текст Б.
Вывод об отсутствии непосредственной связи текстов этих двух редакций Жития поддерживается и полной автономностью автографов в отношении к редакторским поправкам Епифания в тексте Жития Аввакума. А. Н. Робинсон, проанализировавший все случаи редакторской правки Епифания в тексте Пустозерского сборника Дружинина,57 отметил, что ни одна поправка Епифания не попала в текст редакции В.58 Добавим, что в автографе Жития Аввакума в сборнике Дружинина также не учтена редакционная вставка Епифания в описание казней в Пустозерске, сделанная им в тексте Жития в сборнике Заволоко.
Аввакум принял только одну поправку (вернее, дополнение) Епифания: в статье «О жертве никониянъской» в сборнике Дружинина Епифаний указал, каким именно «гласом» пел Аввакум. В тексте Аввакума («...пою в поддымене стих гласом: „И печаль мою пред ним возвещу“») над словом «печаль» Епифаний написал: «3 глас».59
Это уточнение имеется и в автографе сборника Заволоко, но уже находится в строке (статья включена здесь в Житие): «...и от печали запел стих на глас третей» (л. 100). Ни в каком другом тексте Аввакума, повествующем о «жертве никонианской» (известно 5 вариантов этого текста), нет уточнения «гласа», т. е. Аввакум не указывал, как правило, каким «гласом» пелся этот псалом. Именно поэтому уточнение в редакции В («глас третей») мы воспринимаем как влияние Епифания, а не как свидетельство прямой зависимости текстов.60
Выводу об отсутствии генетической связи между текстами А и В как будто противоречит наличие ряда общих мелких чтений, иногда дословно совпадающих. Например, в редакции В: «Приидоша в село мое плясовые медведи з бубнами и з домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал...» (РИБ, стб. 165). Точно такой же текст и в А, а в Бо иной: «Приидоша в село мое скоморохи с медьведьми и з бубнами и з домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их...» (РИБ, стб. 93). Еще пример. В редакции В читаем:
- 92 -
«Лотку починя и парус скропав, пошли чрез море» (РИБ, стб. 192); в А: «...лотку починя и парус скропав, чрез море пошли» (РИБ, стб. 41); но в Бо: «Лотку починя и парус искропав, — бабье сарафанишко и кое-что — пошли за море» (РИБ, стб. 118).
Этот ряд общих мелких чтений трудно объяснить авторской памятью. По-видимому, должна существовать какая-то связь текстов, которая способствовала сохранению этих мельчайших деталей повествования. Если непосредственного влияния текстов редакций А и В друг на друга не было, то объяснить эту связь можно только наличием общего источника, использованного и той и другой редакцией.
Источником для текста редакций А и В послужил, как установлено выше, текст Б, причем особый текст Б, обладавший отдельными чтениями, свойственными редакциям А и В. Подобный тип текста Б известен, он сохранился, хотя и не полностью: это текст Б1 и его вариант Б2, подробно охарактеризованные в I главе.
Рассматривая выше особенности отдельных списков редакции Б, мы установили наличие двух видов ее текста — основного и особого, восходящих к архетипу редакции (первоначальные чтения редакции восстанавливаются на основании сопоставления текстов Бо и Б1—2). Подробный анализ и характеристика Б1 и Б2, сравнение этих текстов с текстами других редакций Жития обнаружили стилистическое сходство этого вида редакции Б с редакциями А и В: часть их общих чтений восходит к архетипу редакции Б, а часть присуща только текстам Б1—2, А и В. Эти наблюдения, а также первоначальность редакции Б по отношению к А позволяют высказать мнение, что текст Б1 был стилистическим вариантом редакции Б (в отличие от основного вида, который сохранил текст редакции без изменений).
Даже при переписывании текстов сказывалась творческая натура Аввакума: он вносил исправления и в текст дошедших до нас автографов. Возможно, что, переписывая текст редакции Б для отправления его новому адресату, Аввакум внес в него некоторые стилистические исправления. Именно этот текст был использован при создании редакции А, он же (или его новая стилистическая модификация — Б2) послужил источником для редакции В.
Это наблюдение объясняет многие факты связи текстов редакций А и В, но не последовательность их создания. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к анализу текста В и тех изменений в нем, которые отличают этот текст от редакций Б и А.
Редакция В была подробно охарактеризована А. К. Бороздиным, впервые опубликовавшим ее по Казанскому списку.61 Однако характеристика Бороздина сводилась лишь к указанию
- 93 -
на главнейшие «фактические отличия» Казанского списка (т. е. редакции В) от известного текста Жития (т. е. редакции А). Задачей Бороздина было атрибутировать новый текст Жития, и вывод его о принадлежности этой редакции Аввакуму был достаточно обоснован, причины же авторской переделки текста совсем не привлекли его внимание. Краткую характеристику этой редакции как дидактической мы находим у П. Паскаля и А. Н. Робинсона.62
Редакция В, несомненно, является распространенной редакцией Жития.
В ее текст в конце Жития включены специальные полемические статьи Аввакума — «О жертве никониянской», «О причастии»,63 «О сложении перст», в ней появляются новые «повести» в цикле рассказов «о чудесах», завершающие Житие.
Повествование в редакции В все время обрастает (по сравнению с Б и А) новыми подробностями, эпизодами, припоминаниями. В этой редакции появляются воспоминания Аввакума о братьях, которых Стефан Вонифатьев «устроил» в Москве (одного — «в верху у царевны, а инова при себе жить... попом в церкви», — РИБ, стб. 168), о «бесноватом» из Хамовников, присланном в Андроньев монастырь, которого Аввакум спас молитвой — «бесов отгнал», о княгине Хилковой, которая готова была спасти Аввакума от «мятежников» в Тобольске («Княгиня меня в сундук посылала: „Я-де, батюшко, над тобою сяду, как-де придут тебя искать к нам», — РИБ, стб. 173) и т. д.
Иногда новые припоминания Аввакума в редакции В, новые детали в его описаниях носят характер как будто чисто импровизационный (например: «И я су в куст зашед, ко богородице припал...», — РИБ, стб. 180; этой подробности, что Аввакум молился в «кусте», нет в редакциях А и Б), но чаще всего их направленность очевидна: это дополнительные свидетельства авторитета Аввакума, подробности перенесенных им жизненных невзгод.
Новые тексты в редакции В заметно усиливают агиографическую стилизацию произведения. В текст Жития вводятся не только специальные полемические статьи, но и библейские цитаты и соответствующие сентенции. Так, например, описывая свой ропот на бога на Шаманском пороге и раскаяние в нем,
- 94 -
Аввакум вспоминает (во всех редакциях) библейского Иова. В редакции Б это воспоминание ограничивалось кратким комментарием, смысл которого сводился к тому, что ропот Иова был более оправдан, чем ропот Аввакума, так как Иов «праведен был, непорочен». В редакции А к этому тексту добавлен еще аргумент: «...он ...писания не разумел... во стране варварстей...» (РИБ, стб. 23). В редакции В эта же мысль распространена повествованием о родословной Иова, полностью приводится и подробно комментируется его речь к богу и т. д. (РИБ, стб. 177—178). В другом эпизоде Жития, рассказывая о возвращении из Даурии, когда он один, без войска Пашкова, безоружный, вынужден был ехать среди «иноземцев», Аввакум приводит (только в редакции В) соответствующие цитаты из посланий апостола Павла и псалмов, долженствующие показать суетность человеческих помыслов о смерти в то время, как всю надежду следует возложить на бога (РИБ, стб. 191—192), и т. д.
В редакции В можно уловить определенную агиографическую стилизацию и в изображении главного героя Жития. Если в редакции А, рассказывая о своем уходе из Лопатиц, Аввакум, повторяя текст Б, кратко сообщал: «Аз же, взяв клюшку, а мати — некрещенова младенца, побрели, аможе бог наставит, и на пути крестили, якоже Филипп каженика древле» (РИБ, стб. 11), то в редакции В это описание превращено в изображение ухода подвижника: «Аз же, взяв клюку, а мать — некрещенова младенца, пошли з братьею и з домочадцы, аможе бог наставит, а сами, пошед, запели божественныя песни, евангельскую стихеру болшим роспевом: „На гору учеником идущим за земное вознесение предста господь и поклонишася ему“, всю до конца; а пред нами образ несли. Певцов в дому моем было много; поюще, со слезами на небо взираем, а провождающии жители того места, мужи и жены, и отрочата, множество народа, с рыданием плачюще и сокрушающе мое сердце, далече нас провожали в поле. Аз же, на обычном месте став и хвалу богу воздав, поучение прочет и благословя, насилу в дом их возвратил, а з домашними впредь побрели, и на пути Прокопья крестили, яко каженика Филипп древле» (РИБ, стб. 164—165). Только в этой редакции Аввакум настойчиво называет себя «пророком» (РИБ, стб. 234—235).
Наряду с распространением Жития в редакции В наблюдается и сокращение текстов, преследующее те же цели агиографической стилизации произведения.
Ярким художественным моментом в редакциях Б и А Жития является описание гнева Аввакума на Пашкова. Рассердившись на то, что воевода и казаки слушали предсказания шамана, Аввакум призывал гибель на все русское войско: «В хлевине своей кричал с воплем ко господу: „Послушай мене, боже! Послушай мене, царю небесный-свет, послушай мене! Да не возвратится въспять ни един от них...“» и т. д. Аввакум не скрывает
- 95 -
здесь страстности, непосредственности собственной натуру. «И много тово говорено было. И втайне о том же молился», — писал он (РИБ, стб. 114, ср. стб. 35). В редакции В есть этот эпизод, но текст самой молитвы отсутствует, сохранились только известия о ней (РИБ, стб. 188). Сокращение текста вызвано, по-видимому, несколько изменившейся тенденцией Жития, стремлением Аввакума «смягчить» в этом эпизоде изображение автобиографического героя.
Значительно переделан в этой редакции по сравнению с редакцией А эпизод встречи Аввакума с иноземцами на Иртыше и то, как Аввакум начал с ними «лицемеритца» (см. РИБ, стб. 43—44; в редакции Б текст отсутствовал). В редакции В, где текст сильно сокращен, благополучный итог встречи объясняется не дипломатической тактикой Аввакума, как в тексте А, а исключительно «словом божиим» («И я, ис судна вышед, с ними кланяяся, говорю: „Христос с нами уставися“. Варвари же, Христа ради, умягчилися...» — РИБ, стб. 193).
В свете рассмотренных примеров тенденциозной переработки Жития становится понятным отсутствие в этой распространенной редакции некоторых эпизодов. Так, в редакции В нет выдающегося по художественным достоинствам эпизода, описывающего раздумья Аввакума после сибирской ссылки и благословение Анастасией Марковной его на новую борьбу (см. редакцию А, РИБ, стб. 42—43); нет здесь и рассказа о спасении Аввакумом «замотая» Василия при отъезде «на Русь» (РИБ, стб. 38—39). Этих фрагментов нет в редакции В не потому, что их не было в источнике — в тексте редакции Б (память Аввакума хранит весь запас воспоминаний); текст В становится строже в отборе фактов биографии Аввакума, и поэтому описанию его сомнений в выборе пути или обмана, пусть и вынужденного («...а я, простите бога ради, лгал в те поры...»), нет места в тексте, изображающем автобиографического героя как «святого» и «пророка».
Стремление к агиографической стилизации Жития в этой редакции отнюдь не сопровождалось проповедью смирения и кротости. Напротив, в редакции В заметно растет злоба Аввакума на мучителей-«никониан», более резкими становятся характеристики врагов. «Архиепископ Симеон сибирской — тогда добр был, а ныне учинился отступник...», — пишет Аввакум только в этой редакции (РИБ, стб. 172); из подробного рассуждения, имевшегося в редакциях Б и А, о доброте царя Алексея («Кажется потому и жаль ему меня, да уж то воля божия так лежит... Бог их простит!.. Диявол между нами разсечение положил, а оне всегда добры до меня» — РИБ, стб. 124, ср. стб. 52—53) в редакции В остается только первая фраза о «воле божьей», весь остальной текст отсутствует, а в конце появляется гневная реплика: «Послушай их, кому охота жупела и огня, соединись с ними в преисподний ад!» (РИБ, стб. 200).
Описывая столкновения с боярином В. П. Шереметевым
- 96 -
в 1647 г. (Шереметев приказал Аввакума «посадить в Волгу»), Аввакум заканчивал этот фрагмент в редакции Б словами прощения своему врагу, воспоминанием о последующем смирении Шереметева: «Помяни его, господи, во царствии своем беднинькова! Опосле со мною прощался у царя на сенях, и дети ево, Петр и Матфей Шереметевы, прежде мору добры до меня были» (РИБ, стб. 93). В редакции А слов прощенья Шереметеву уже нет, но осталось указание на доброту семейства Шереметевых к Аввакуму; определяющее значение в описании человеческих отношений в редакции А приобретает тема «судеб божиих»: «А опосле учинились добры до меня: у царя на сенях со мною прощались; а брату моему меншому бояроня Васильева и дочь духовная была. Так-то бог строит своя люди!» (РИБ, стб. 12). В редакции В прощение и известие о покаянии Шереметева отсутствуют, оставлено только описание акта самодурства вельможи.
Рассуждая о никоновской реформе, Аввакум напоминал читателям о моровой язве 1654 г., которую он рассматривает как «знамение» («Излиял бог фиял гнева своего за церковный раскол!» — РИБ, стб. 102). Отношение его к противникам-«никонианам» — властям и добровольным приверженцам Никона — в редакции Б насмешливое и сожалеющее: «Да не узналися, бедные горюны!» (РИБ, стб. 102). Этот тон сохраняется и в редакции А, но здесь он несколько приглушен: «Да не узнались горюны, — однако церковью мятут» (РИБ, стб. 20). В обеих редакциях выражена вера Аввакума в грядущие общественные перемены: «Но милостив господь: наказав, покаяния ради и помилует нас, прогнав болезни душ и телес наших, и тишину подаст» (РИБ, стб. 102, ср. стб. 20).
В редакции В приведенный выше фрагмент текста отсутствует; надежд на изменения у Аввакума уже нет, для него ясно, что наступило царство антихриста: «Таково-то попущено действовать антихристову духу!» (РИБ, стб. 174). Даже лучшие из лучших, такие, как Иван Неронов, наставник Аввакума, известный деятель раннего старообрядчества, поддаются его соблазнам («По господню речению, аще возможно ему прельстити и избранныя...», — пишет Аввакум). В связи с этим внимание Аввакума переключается здесь на проблему личной душевной твердости в борьбе с антихристом и воспитания мужества у своих читателей: «Того ради, неослабно ища правды, всяк молися Христу, а не дряхлою душею о вере прилежи...». Наставления о соблюдении веры сопровождаются обширно прокомментированной цитатой из послания апостола Павла (РИБ, стб. 174—175).
В редакции В Аввакум часто обнажает смысл явлений, которые в текстах А и Б только отмечены. Так, описывая «московское бытие» после сибирской ссылки, Аввакум с удовольствием сообщал в редакции А о своей популярности, о богатых подарках, полученных им от царя и бояр (в редакции Б этот текст
- 97 -
отсутствует). Ко времени создания редакции В смысл этих даров стал ясен для Аввакума (подарки — плата за его молчание), и в его описании заметно сместились акценты: «Помолчал маленько, — так меня поманивают: денег мне десять рублев от царя милостыни...» (РИБ, стб. 195—196).
Особенно заметно это изменение настроений Аввакума при изображении пустозерской казни, свершившейся в апреле 1670 г. В редакциях А и Б кратко сообщалось, что узникам прочитали наказ, Аввакума отвели в темницу, потом шло описание казни Лазаря, Епифания и дьякона Федора. Текст В и здесь много подробнее: пересказывается сам «наказ» царя («...изволил-де государь и бояра приговорили, тебя Аввакума, вместо смертные казни, учинить струб в землю и, зделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки» — РИБ, стб. 211—212), описывается реакция Аввакума на царский указ («...я, реку, плюю на ево кормлю; не едше, умру, а не предам благоверия»).64 В описании самих казней заметно усиливается натурализм, нагляднее изображается жестокость палачей. В этом отношении очень характерна реплика Лазаря, который «чудесным» образом смог говорить после казни: «Собаки оне, вражьи дети! Пускай мои едят языки!» (РИБ, стб. 212). Сам Аввакум после описания казни Федора добавляет: «Пускай никонияна бедные кровию нашею питаются, яко мед испивая» (РИБ, стб. 214). Обличение «никониян», которые едят языки и пьют кровь казненных за «старую веру», становится главным в описании казней в редакции В; в тексте редакции заметно смещаются смысловые акценты повествования, и умиление Аввакума «чудом», свойственное редакциям А и Б («Дивна дела господня, и неизреченны судбы владычни! И казнить попускает, и паки целит и милует!» — РИБ, стб. 64), в редакции В отсутствует. Старец Епифаний впоследствии даже заклеил текст, описывающий его собственную казнь, деликатно заменив натуралистическое описание Аввакума («Палач же, дрожа и трясыися, насилу выколупал язык ножем из горла...») изображением «забвения», которое, «яко сон», «прииде на него» в трудную минуту.
Так параллельно с агиографической стилизацией повествования в этой редакции начинают проявляться те настроения злобы, нетерпимости Аввакума к врагам, которые характерны для сочинений последних лет его жизни, — отказ от христианского прощения «властей», угроза «безумному царишке» адскими муками (ср. его челобитную 1676 г. царю Федору Алексеевичу, «Беседу о кресте», цикл сочинений в Прянишниковском сборнике и др.).
- 98 -
В какой мере все эти изменения в общей направленности редакции сказались на изменении художественной формы Жития? Действительно ли редакция В самая «совершенная» из всех редакций?
Некоторые новые эпизоды и рассказы Аввакума в этой редакции Жития обнаруживают в нем все того же мастера словесного изображения, отдельные сцены в Житии достигают необычайной выразительности, как, например, «повесть» в конце Жития — воспоминание Аввакума о возвращении домой с озера Шакши (РИБ, стб. 232—234).
Эта «повесть», одно из выдающихся творений Аввакума, не совсем обычна для Жития. Рассказы Аввакума в Житии сюжетны, в действии участвует ряд персонажей, их поступки, жесты, реплики воссоздают действительность под углом зрения, избранным Аввакумом. «Повесть» посвящена подробному описанию трагического возвращения Аввакума с рыбного промысла. В фокусе изображения здесь оказалось не столкновение характеров или идей, а поток чувств, мыслей, ощущений человека, замерзающего на трудной сибирской дороге. Неровный синтаксис, отрывистый ритм фраз «повести» воспроизводят строй тревожной устной речи; богатство синонимических вариаций воссоздает в оттенках состояние Аввакума: «...егда буду насреди дороги, изнемог, таща по земле65 рыбу.., ни огня, ничево нет, ночь постигла, выбился из силы, вспотел, и ноги не служат». «Повесть», обращенная к старцу Епифанию и к незримому другу — «рабу Христову», как и всякий устный рассказ, передавая раздумья героя, переносит давно прошедшее в настоящее, максимально приближая его к самому моменту рассказывания: «...рыба покинуть и так побрести — ино лисицы розъедят, и домашние гладны; все стало горе, а тащить не могу; потаща гоны места, ноги задрожат, да и паду в лямке среди пути ниц лицем, что пьяной; и озябше, встав, еще попойду столко жь, и паки упаду...» Одна подробность сменяет другую, неизменным остается только колеблющийся ритм описания, отражающий то бессилие героя, то его новый порыв.. В изображении этой борьбы Аввакума за собственную жизнь и жизнь своих близких (он тащит рыбу «домой... маленьким детям», так как «домашние гладны») есть высшая точка — момент прощания Аввакума с жизнью. Он замерзает, и в «повести» звучат торжественные слова заупокойной стихиры: «...увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает и, яко неплодное древо, посекаемо бывает, — толко смерть пришла. Взираю на небо и на сияющия звезды, тамо помышляю владыку, а сам и прекреститися не смогу, весь замерз...» Молитва дает Аввакуму новые силы, и снова он в борьбе: «А се согреяся сердце мое во мне, ринулся с места паки к нарте и на шею, не помню
- 99 -
как, взложил лямку, опять потащил...» И снова возникает неумолимый ритм борьбы: «... потащил — ино нет силки... покинул, и нехотя, все; побрел один, тащился с версту, да и повалился; толко не смогу; полежав, еще хощу побрести, ино ноги обмерзли, не смогу подымать...на коленех и на руках полз с версту... уже двор и не само далеко, да не могу попасть, на гузне помаленьку ползу, — кое-как и дополз до своея конуры...» Аввакум знает цену подробности, драматизирующей действие, и не упускает ее: «...у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не могу же...»
«Повесть» лишена каких бы то ни было признаков дидактической иллюстративности, свойственной житийному жанру, она вся — рассказ о силе человеческого духа, о жажде жизни, о долге, который нужно выполнить до конца. Это одна из классических миниатюр русской литературы, и художественные средства ее почти полностью соотносятся с системой литературы нового времени.
Однако в повествовательном плане распространенность редакции В иногда оборачивается растянутостью (по сравнению с А и Б); беллетризация отдельных эпизодов в духе агиографической литературы делает текст более шаблонным, лишенным подчас специфических черт образности, присущей Аввакуму. К тому же в редакции В заметна роль логического начала в композиции эпизодов, нарушающая художественную непосредственность и выразительность текста. Так, например, рассказывая в редакции Б (так же и в А) о «возвещении», полученном им в Тобольске «в тонце сне», Аввакум в соответствии с принципами устного рассказа менял реальный порядок событий и описывал сначала самый сон, а потом причины «возвещения» (то, что он «шаловал» в церкви, где служат по-новому). В редакции В все изложено по порядку: сначала причина, потом следствие. Текст здесь более «правильный», но менее выразительный. В редакциях Б и А — сильнее связь с импровизационным моментом, с моментом рассказывания, и фигуры героев Жития, их характеристики возникали в этих текстах в силу художественной потребности: описывая приход юродивого Федора к нему на свидание в Пафнутьев монастырь, Аввакум вспоминает и о другом своем духовном сыне — юродивом Афанасии. Воспоминание возникает не только по сходству ассоциаций, но и по контрасту: Афанасий — другой тип подвижника, чем буйный Федор; он кроток и тих, «а с кем молыт... яко плачет». В редакции В к этим воспоминаниям присоединяется рассказ еще об одном духовном сыне Аввакума — Луке Лаврентьевиче, «удавленом» на Мезени; этот текст известен в редакции А, но там он входил в повествование о мезенских казнях, в редакции же В внутри текста Жития начинает складываться цикл рассказов «о подвижниках», что опять нарушает непосредственность повествования.
Рассмотрев особенности редакции В, мы приходим к выводу,
- 100 -
что она заметно отличается от двух других и является особым этапом в творческой эволюции Аввакума. Дидактизм повествования и заметно усиливающаяся агиографическая стилизация в изображении автобиографического героя являются дальнейшим развитием тех тенденций, которые отчасти наметились уже в редакции А (по сравнению с Б), и вполне согласуются со взглядами Аввакума 1674—1675 гг., когда он начинает ощущать себя «святым». Христос «избра нас и вас.., — пишет Аввакум боровским узницам в 1675 г.,66 — быти нам святым...» (РИБ, стб. 405—406). И далее: «Бог... возлюби нас с вами и призва на дело свое, стояти противо врагов твердо и непоколебимо за упование вечныя жизни... Тем же к тому несть странн[и] и пришелцы, но сжители святым русским, и приснии богу, создани есте на сие дело, еже есть по Христе страдати...» (РИБ, стб. 407—408).
Это был выстраданный ответ на вопрос, мучивший Аввакума еще на Шаманском пороге («За что ты, сыне божий, попустил меня... таково болно убить...?» — РИБ, стб. 23). Мысль об избранничестве, особом пути, которым надлежит идти — пути страдания и мученичества, о собственной «святости» свойственна всем пустозерским узникам в эти годы. Инок Епифаний, задающий вопрос, угодны ли богу его страдания, получает ответ: «Твой сей путь, не скорби!»;67 дьякона Федора тоже посетило видение ангела у темничного «оконца»: «И видех, яко молниин зрак блистается светел некто, и рече ми: „Се благословен еси!.. Мир ти, святче божий!“».68
Представление Аввакума о собственной «святости» еще более усиливается в последующий период: Епифаний в новом заглавии к Житию в сборнике Заволоко называет его «исповедником Христовым», в послании Алексею, адресату сборника, сам Аввакум именует свое Житие «книгой живота вечнаго». На Житие как бы падает отблеск того ореола мученичества и «святости», который уже мерцает над самим Аввакумом.
Аввакум чувствует потребность дополнительно мотивировать написание своего Жития; он как будто оправдывается перед читателями, отвечает незримым критикам — и во вступлении появляется ссылка на авторитетный пример, на Житие аввы Дорофея, обращенное к его ученикам.69 О том, что Аввакум придавал этому примеру очень большое значение, можно судить по тому, что он указывает номер поучения и лист книги, где
- 101 -
авва Дорофей «понуждал» своих учеников «на таяжде», — редкий для Аввакума случай точной ссылки.70
Это стремление к защите от критиков Жития, возможно, проявилось уже в той похвале русскому «природному» языку, которой Аввакум завершил в сборнике Заволоко цикл сочиненений своих и Епифания. Рассуждение Аввакума о русском языке — это, по существу, обоснование его принципов стиля. Кажется не случайным, что все три текста — более «агиографическая» редакция В, ссылка на Житие аввы Дорофея и рассуждение Аввакума о собственном стиле — вошли в состав одного сборника и даже одного цикла сочинений. П. Паскаль обратил внимание на то, что аналогичная похвала русскому языку содержится в «Книге толкований и нравоучений» Аввакума, в той ее части, которая также создавалась в 1675 г.71
Кроме общей характеристики изменений в содержании редакции В по сравнению с А, которые соотносятся с кругом сочинений и настроений Аввакума 1674—1675 гг., укажем еще на некоторые формальные признаки более позднего происхождения текста этой редакции (отметим, что чисто текстологических доказательств вторичности текста В и не может быть, так как между редакциями отсутствует непосредственная связь; к тому же мы имеем дело с авторской, а не редакторской переработкой текста).
К числу признаков вторичности В по сравнению с А относится включение в текст Жития полемических статей: ранняя редакция — Б (так же как и А) не имела их в своем составе. Кроме того, включение в Житие статьи «О сложении перст» вызвало в редакции В удвоение текста: о Стоглавом соборе и о русских чудотворцах уже говорилось в основной части Жития (в речи Аввакума на соборе 1667 г.), и тот же самый текст повторяется в статье, завершающей Житие в новой редакции (ср.: РИБ, стб. 206 и 240).
Давая выше характеристику редакции В, мы обращали внимание на преобладание логического, тематического принципа в соединении отдельных фрагментов (в отличие от редакций А и Б). Этот признак в стилистическом плане также производит впечатление вторичного. В частности, именно тематический принцип композиции (подборка повестей о борьбе с бесами) позволяет присоединить к Житию только в этой редакции статью «О жертве никониянской», существующую отдельно в цикле сочинений сборника Дружинина (статья отсутствует и в редакции Б Жития).
В качестве дополнительного аргумента того, что редакция В создана после А, укажем также на исправление текста Жития
- 102 -
этой редакции в сборнике Заволоко (на л. 115 об.), уже отмечавшееся ранее, в главе I. Форму единственного числа в упоминании о читателе — о «рабе Христовом» — Аввакум исправляет в рукописи на множественное число, расширяя в своем воображении круг читателей Жития (первоначальный текст, соответствующий тексту редакций Б и А: «...так он помянет нас, а мы его», после исправления: «...так оне помянут нас, а мы их»). В редакции А это исправление (как, впрочем, и другие чтения или эпизоды В) не отразилось.72
Обдумывая вопрос о последовательности возникновения редакций Жития, мы приходим к выводу, что редакция В была создана Аввакумом после А и что она является особым этапом в творческой эволюции Аввакума. Хронологические рамки периода, в течение которого могла быть создана эта редакция, — после осени 1673 г. (после отправки из Пустозерска сборника Дружинина) до осени 1675 г. (до создания сборника Заволоко); приблизительная ее датировка — 1674—1675 гг.
Выше мы неоднократно упоминали работу В. С. Румянцевой, предложившей свою схему взаимоотношений редакций Жития.
Рассматривая вопрос о последовательности создания редакций, Румянцева также признает текст редакции Б первоначальным, но в отношении двух других редакций точка зрения ее иная: редакция В («пространная») «генетически связана» с А («полной») и «непосредственно ей предшествует»; редакция А — «сводная» редакция, созданная на основе «краткой» и «пространной» редакций (т. е. редакций Б и В).73
Основанием для такого утверждения являются не сопоставление текстов различных редакций Жития, а датировка редакции В, предпринятая Румянцевой, и данные палеографического и текстологического анализа, касающиеся двух других текстов сборника Заволоко — первой части Жития Епифания и «Снискания и собрания о божестве и о твари».
Палеографические и текстологические аргументы Румянцевой были рассмотрены выше, в главе I, в связи с анализом сборника Заволоко; они оказались частью неточны, частью неверны, а главное, не применимы для относительной датировки редакции В в силу того, что Житие Аввакума и первая часть Жития Епифания находятся в разных тетрадях.
Приведем полностью рассуждения Румянцевой, позволяющие
- 103 -
ей датировать редакцию В 1672—1673 гг., так как это является важной стороной ее аргументации: «В пространной редакции, так же как и в краткой, в отличие от полной, не говорится о женитьбе П. С. Урусова в начале 1673 г... в пространной редакции, так же как и в полной, в отличие от краткой, сообщается о казни Авраамия весной 1672 г., о битье батогами Е. П. Урусовой и о „мучении“ (пытках) Ф. П. Морозовой, что имело место осенью — зимой 1672 г. Только в пространной редакции говорится о „прощении“ сыновей, которые... вместе с матерью дали „скаски за руками“ в Сыскной приказ, что они „соборней и апостольской церкви ни в чем не противны“. Это сообщение близко перекликается с письмом к родным на Мезень, где тоже идет речь о „прощении“ сыновей. В краткой редакции пишется о том, что сыновей вместе с матерью посадили „в землю“, но речь о прощении не идет; в полной редакции Аввакум к этому уже не возвращается. Стало быть, пространная редакция создана не в 1675 г., когда вопрос не мог его волновать за давностью времени. Из пространной редакции узнаем о недовольстве Аввакума поведением Анастасии Марковны во время „казней“ на Мезени, так как она, по его словам, „не подкрепляла“ сыновей „Христа ради умирать“. Подобный же мотив звучит и в письме к родным на Мезень, где Аввакум увещевает протопопицу, сидящую в темнице и разлученную с младшими детьми, не скорбить о „плотских“. Только в пространной редакции Аввакум сообщает об обстоятельствах смерти в Москве даурского воеводы А. Ф. Пашкова. Причиной, вызвавшей эти воспоминания, были, по-видимому, известия из Москвы о поведении его бывшей духовной дочери вдовы Ф. С. Пашковой (инокини Феофании), перешедшей к „никониянам“ и ставшей весной 1673 г. игуменьей Вознесенского монастыря в Кремле. В отличие от краткой редакции в пространной и полной она не называется духовной дочерью Аввакума. Кроме того, эти сведения непосредственно перекликаются с рассказом о смерти А. Ф. Пашкова в вышеупомянутом письме к родным на Мезень. В 1675 г. приведенное событие утратило бы для Аввакума свою актуальность. Все это служит подтверждением того, что пространная редакция написана приблизительно в конце 1672 — начале 1673 г., когда отраженные в ней и его переписке события и факты непосредственно волновали его. В пространной редакции так же, как и в полной, Аввакум упоминает рязанского митрополита Илариона как здравствующего (умер 6 июня 1673 г.) и называет „мучителем християнским“. Отношение к нему как к „губителю людей божиих“ прослеживается и в беседе „Об Аврааме“, созданной в конце 1672 — начале 1673 г. В идейном плане пространная редакция очень близка к полной, но уступает ей в литературном отношении: чрезмерно растянута, перегружена библейскими и евангельскими цитатами... Нами прослежена генетическая связь между пространной редакцией и полной, с одной стороны, между краткой
- 104 -
и полной редакциями — с другой. Полная редакция является, таким образом, сводной, созданной на основе двух редакций — краткой и пространной».74
Сразу же отметим, что ни одного факта, свидетельствующего о зависимости текста А («полной» редакции) от текста В («пространной» редакции) Румянцева не приводит. Материалы текстологического сопоставления касаются только проблемы хронологического приурочивания тех или иных фрагментов текста. Укажем также, что при отборе датирующих данных редакции В Румянцева не учитывает принципиально важной для анализа текста особенности Жития — сохранения в различных вариантах памятника фрагментов более раннего текста, содержащего старые даты и старые сведения. Поэтому данные, совпадающие с текстом других редакций, как уже отмечалось, не могут датировать текст В (в нем, действительно, отсутствует известие о женитьбе Урусова, но его нет и в тексте источника — в редакции Б; известия же о казни Авраамия, пытках Морозовой и упоминание Илариона Рязанского есть в редакции А),75 во внимание следует принимать только «индивидуальные» сведения.
Такими сведениями в системе аргументов, предложенных Румянцевой, являются описание смерти А. Ф. Пашкова в Москве и его предсмертного покаяния перед Аввакумам, «прощение» Аввакумом сыновей, пошедших на компромисс с церковными властями в марте 1670 г., и его «недовольство» Анастасией Марковной; два первых фрагмента действительно соотносятся с посланием Аввакума семье, написанным зимой 1673 г.76
Однако одно это совпадение еще не может быть основанием для датировки редакции, так как требуется доказать, что год-два спустя Аввакум не мог использовать этих воспоминаний и не мог выразить подобных чувств. Кроме того, в примерах Румянцевой допущена досадная неточность: «прощение» сыновей — не специфический текст Жития в сборнике Заволоко, эта тема достаточно подробно развивается Аввакумом и в редакции А («полной», по классификации Румянцевой): «А на робят и дивить нечева: моего ради согрешения попущено им изнеможение. Да уж добро, быть тому так!» и т. д. (РИБ, стб. 62).
Появление описания предсмертного покаяния Афанасия Пашкова перед Аввакумом (РИБ, стб. 185) в более «агиографической» редакции В легко понять — это еще один пример «чуда» («Бог так изволил!») и главное — это своеобразный «реванш» Аввакума: эпизод с Пашковым заменил фрагмент предшествующей редакции Б, где упоминалась «духовная дочь» Аввакума — Ф. С. Пашкова, окончательно перешедшая в 1673 г., как обнаружила
- 105 -
Румянцева, на сторону «никониан» (напомним, что в редакции А фрагмент с упоминанием Ф. С. Пашковой сохранился, но был уже отредактирован: боярыня не называлась «духовной дочерью» Аввакума).
Труднее объяснить, почему Аввакум решил в этой редакции Жития вспомнить не только о малодушии сыновей, «повинившихся» властям, но и о матери, не «подкрепившей» их «Христа ради умирати» (в послании семье 1673 г. эта тема отсутствует); однако фрагмент вполне согласуется с общим направлением его редакционной работы: осуждение Анастасии Марковны подчеркивает бескомпромиссность автобиографического героя-подвижника и служит поводом для описания его «видения» (РИБ, стб. 211). Вновь возникает свойственная редакции В тема «чуда», последовавшего после молитвы Аввакума.
Не исключено, что фактический материал воспоминаний Аввакума о казнях на Мезени в марте 1670 г. и о смерти Афанасия Пашкова в Москве навеян был его собственным письмом семье 1673 г.: Аввакум часто использовал в Житии материал автобиографических описаний из своих писем и посланий (в Житие вошли в переработанном виде фрагменты из «первой» челобитной царю Алексею Михайловичу 1664 г., из письма семье от 30 мая 1666 г. и др.; см. об этом в III главе).
Утверждение Румянцевой о том, что редакции А и В связаны «генетически» и что редакция В «непосредственно предшествует» А, осталось недоказанным.
Предположив, что В предшествует А, т. е. что автограф в сборнике Заволоко предшествует автографу в сборнике Дружинина, мы должны в этом случае объяснить, почему при создании редакции А Аввакум не пользовался текстом автографа из сборника Заволоко ( ведь этот текст находился в распоряжении Аввакума до осени 1675 г.), а выбрал в качестве источника текст Б, написанный ранее. Надо также ответить на вопрос, почему, создав распространенную редакцию Жития, дополненную новыми эпизодами и полемическими статьями, Аввакум вновь обратился к типу повествования Б, убирая из текста Жития многочисленные библейские заимствования и полемические статьи (в сборнике Дружинина они находятся вне Жития в конце цикла сочинений Аввакума и Епифания) и не обнаруживая при этом ни малейшего знакомства с текстами сборника Заволоко? Почему угроза «страшного суда» отступникам («Послушай их ...соединись с ними в преисподний ад!» — РИБ, стб. 200) сменяется (в том же фрагменте) чувством смирения и Аввакум вновь возвращается к тексту редакции Б («Пускай их, миленких, мучат: небеснаго жениха достигнут!» — РИБ, стб. 53)? Почему, исправив в редакции В текст конца Жития, он вновь использует в редакции А старый текст? И т. д. На все эти вопросы схема Румянцевой не дает ответа.
Рассмотрев тексты трех редакций Жития, их хронологические данные и стилистические особенности, сопоставив мысли и
- 106 -
настроения Аввакума, отразившиеся в них, мы приходим к выводу, что самой ранней была редакция Б, созданная в первую половину 1672 г. Именно эта редакция (точнее, один из ее стилистических вариантов) послужила основой для текста А — редакции Жития в составе Пустозерского сборника Дружинина, написанной в середине 1673 г.
После того как редакция А была отослана из Пустозерска (по-видимому, не позже осени 1673 г.), спустя некоторое время Аввакум приступил к написанию новой редакции Жития — редакции В, создавая ее на основе того же старого источника — текста одного из стилистических вариантов более ранней редакции Б. Но, кроме редакции Б, Аввакум учел также (по памяти) и многие эпизоды, вошедшие в состав редакции А, используя их, как правило, в измененном виде. Таким образом, редакция Жития из сборника Заволоко является последней из трех известных авторских редакций памятника. Предположительное время написания этой редакции — 1674 — начало 1675 г.
Изучение последовательности возникновения редакций Жития позволяет вернуться к проблеме соотношения авторских сборников Аввакума и Епифания. Из приведенных выше материалов становится ясным, что не дошедший до нас авторский сборник с ранней редакцией Жития Аввакума — редакцией Б — предшествовал по времени создания двум другим пустозерским сборникам и что он может быть назван протосборником сочинений Аввакума и Епифания: редакции и варианты сочинений, находившиеся в нем, были использованы при создании текстов и сборника Дружинина, и сборника Заволоко. Мы констатируем примерную одновременность создания — в 1672 г. — всех трех основных сочинений совместного цикла Аввакума и Епифания: Жития Аввакума (в редакции Б), «Снискания и собрания о божестве и о твари» (вариант Б), первой части Жития Епифания (ранняя редакция); по-видимому, к этому же времени относится и создание варианта Б статьи «О сложении перст».
Выше отмечалось, что первая часть Жития Епифания в протосборнике представляла собой текст, аналогичный тексту в сборнике Заволоко (без учета исправлений, сделанных на полях рукописи). Из этого следует, что текст первой части Жития Епифания, вошедший в сборник Заволоко, первоначально должен был сопровождать редакцию Б Жития Аввакума.
Анализ редакций Жития Аввакума, дополняющий анализ состава сборников, позволяет сделать вывод: совместный цикл сочинений Аввакума и Епифания в сборнике Заволоко находится в составе сборной рукописи, состоящей из разновременно написанных частей; в него вошла новая, последняя из авторских редакций Жития Аввакума, и был использован текст ранней редакции Жития Епифания. Создание цикла было предпринято вскоре после написания редакции В., по-видимому, в 1675 г.; на основе его был составлен сборник Заволоко.
—————
- 107 -
Глава III.
ПРЯНИШНИКОВСКИЙ СПИСОК
И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ
ЖИТИЯПрянишниковский список Жития дошел в составе керженского по происхождению сборника сочинений Аввакума начала XIX в., найденного В. И. Малышевым (ГБЛ, собр. Г. М. Прянишникова (ф. 242), № 61).1 Этот текст Жития очень своеобразен. Он более короткий, чем другие редакции: в конце его полностью отсутствуют повести о «чудесах» и «бесноватых»; завершается текст рассказом о пустозерских казнях в апреле 1670 г. и описанием новой земляной тюрьмы Аввакума; много короче здесь и обращение Аввакума к «правоверным», заканчивающее Житие. В основной части повествования о событиях из жизни Аввакума также отсутствуют многие эпизоды, известные по другим редакциям Жития: нет рассказов о «начальнике» Евфимии Стефановиче, о тобольском дьяке Иване Струне и о Петре Бекетове, об Анастасии Марковне, о «курочке черненькой», об исцелении младенца — внука Пашкова и т. д.
Но в то же время в Прянишниковском списке есть эпизоды, «новые» по сравнению с другими редакциями Жития и, бесспорно, принадлежащие самому Аввакуму (споры с патриархом Никоном, воспоминания о Симеоне Полоцком и Епифании Славинецком, новое описание сибирской ссылки и др.).2 Кроме того,
- 108 -
в текст списка введены отдельные автобиографические «записки» Аввакума, отрывки из его писем и челобитных, а также дополняющие текст Аввакума фрагменты из сочинений дьякона Федора, Епифания, инока Авраамия и др.3
Повествование в Прянишниковском списке не всегда ровное: наряду с эпизодами-новеллами, подробно и красочно повествующими о событиях, много описательных фрагментов; вставки из других источников кажутся иногда результатом деятельности позднейшего редактора.
Первое впечатление, которое производит текст Прянишниковского списка, что это переработка Жития Аввакума. Именно так и характеризовал текст в одном из первых сообщений о нем Малышев: «По-видимому, в конце XVIII в. в Поволжье Житие Аввакума подверглось значительной переработке и сокращению... Редактор пользовался каким-то не дошедшим до нас или, может быть, еще не разысканным списком Жития, восходящим непосредственно к самому Аввакуму... При переработке... были использованы... сочинения Аввакума и его единомышленников... Значительно сократив Житие и включив в него целые отрывки из других сочинений, редактор оставил в неприкосновенности язык и стиль Аввакума и не придумал ни одного нового факта из его жизни... Вся работа редактора, в общем, свелась к механическому соединению разрозненных частей из различных сочинений Аввакума и других авторов».4
Текст Прянишниковского списка, действительно, прошел редакторскую обработку. Позднейшему редактору принадлежит здесь заглавие к Житию, представляющее собой переделку известного «надписания» Епифания: «Собрано вкратце из жития святаго священномученика Аввакума протопопа, пострадавшего за святую православную християнскую веру, принуждением отца его духовнаго, инока Епифания Соловецкаго, да не забвению предано будет дело божие; и сего ради написася сие на славу Христу, сыну божию и богу истинному, и богородице и святым его. Аминь» (Пр. 305).
Несомненно, тому же редактору принадлежит «эпилог» к Житию — сообщение о казни пустозерских узников, заключающее Прянишниковский список («Егда же прииде время божиим изволением скончати им течение свое, во 189-м году послан бысть от царя Феодора посланник... Посланник же, приехав в Пустоозерье, по наказу всех четверых, посадя во един струб, сожег» и т. д. — Пр. 343). Принадлежащими позднейшему редактору кажутся и вставки в текст Прянишниковского списка из сочинений самого Аввакума и других старообрядческих авторов.
- 109 -
Но вместе с тем очевидно, что Прянишниковский список основан на не известном ранее тексте Жития. «Этот не дошедший до нас автограф, — писал Малышев, — обладал сравнительно с известными нам редакциями Жития рядом новых для нас эпизодов из жизни Аввакума. Кроме того, этот текст, будучи очень близким к редакции Б, содержал отдельные эпизоды и фразы, встречающиеся только в списках редакций А и В».5
Эта точка зрения на Прянишниковский список была повторена в заметке, комментирующей текст списка в книге «Житие протопопа Аввакума», причем здесь список был более определенно назван «переработкой не дошедшей до нас редакции».6 Эти выводы принял и А. Н. Робинсон.7
Дальнейшее изучение Прянишниковского списка Жития показало, что текст его не просто содержит новые факты и эпизоды из жизни Аввакума, но представляет особую редакцию памятника. Оставляя пока в стороне вопрос о включениях в текст Жития фрагментов из других источников, требующий специального исследования, обратимся к основному тексту, не оставляющему сомнения в принадлежности к особой авторской редакции.
Начинается Прянишниковский список со вступления, общего для всех редакций Жития (здесь есть и обычное обращение к «троице», отсутствующее только в списках Бо). Повествование же о жизни Аввакума в Прянишниковском списке особое. Общий принцип его — событийный, тяготеющий к строго хронологическому рассказу, без дополнительных отступлений и припоминаний. Там, где в других редакциях Жития имеются эпизоды-новеллы, в Прянишниковском списке преобладает общее описание событий, их перечень. Так, например, знаменитой сцене с Анастасией Марковной, ее диалогу с Аввакумом при возвращении с Нерчи-реки, в котором Аввакум так полно раскрыл ее характер, силу духа (см. РИБ, стб. 31—32 или 110—111),8 в Прянишниковском списке соответствует текст: «Пять недель мы с женою рекою брели по го[ло]му льду, убивающеся о лед, гладни и наги. Везли на нартах нужную пищу и робят малых» (Пр. 323).
Иногда, наоборот, текст Прянишниковского списка даже более подробный, чем в других редакциях Жития, но подробности, сообщаемые им, преследуют не художественные, а информационные цели, например: «Мати же изволила меня женить семнатцати лет, жену мне привела четырнатцати лет» (Пр. 310).
- 110 -
Только в Прянишниковском списке дано подробное описание жизни Аввакума в мезенской ссылке: «Да и повезли паки с Москвы в Пустозерской острожек с женою и с детьми и с домочадцы. А я по городам людей божиих учил, а их обличал, пестрообразных зверей. И бог остановил нас своим промыслом у окияна моря, на Мезени; от Москвы 1700-сот верст будет. И жил тут полтора года на море с детьми, промышлял рыбу и кормился, благодаря бога; а иное добрые люди, светы, с голоду не уморили, божиим мановением» (Пр. 327—328). Этот текст согласуется с историческими фактами: в 1664 г. Аввакума действительно сослали в Пустозерск, а на Мезени он оказался случайно, в силу того, что до Пустозерска было не добраться.9
В других редакциях Жития этому отрывку соответствует краткое сообщение: «Да и повезли на Мезень. Надавали было во имя Христово добрые люди кое-чево много, — все тут осталось; токмо з женою и детми, и домочадцы потащили. А я по городам людей божиих учил, а их обличал, пестрообразных зверей. И привезли на Мезень. Полтара года держав...» (РИБ, стб. 121—122). В этом фрагменте нет лишних подробностей, оставлено лишь самое главное для выражения идеи Жития. И хотя соотношение фрагментов кажется противоположным рассмотренным выше, мы наблюдаем и здесь реализацию в редакции Б того же самого принципа художественного воссоздания действительности, который в Прянишниковском списке не является основным и последовательно выдержанным.
Общему принципу повествования в Прянишниковском списке соответствует и летописная документальность его стиля: «И во 160-м году изволением божиим преставися Иосиф патриарх...» (Пр. 313); «Во 162-м году, в великий пост, прислал память к Казанской к Ивану Неронову...» (Пр. 314); «И нынешняго, 174-го, году, в великой мясоед, взял меня пристав с Мезени к Москве...» (Пр. 328) и т. д. Эта особенность стиля Прянишниковского списка Жития близка к первоначальному варианту Жития инока Епифания — его автобиографической записке; там читаем: «Во 153-м году...», «И во 162-м году...», «Во 173-м году» и т. д.10 Летописный стиль Прянишниковского списка Жития сближает его и с автобиографическими записками самого Аввакума и приводит к предположению: не является ли эта документальность стиля знаком того, что текст Прянишниковского списка — первоначальный по сравнению с другими редакциями Жития?
В связи с этим отметим отсутствие в этом списке дополнительных, «боковых» припоминаний, разрывающих единый ранее текст. Так, например, во всех редакциях Жития рассказывается
- 111 -
о присылке Никоном в Казанскую церковь его знаменитой «памяти» — патриаршего указа об изменении некоторых церковных обрядов, что явилось началом реформы церкви, толчком к ожесточенной борьбе. И везде это сообщение прерывается отступлением Аввакума — воспоминанием о собственной деятельности в Казанской церкви в это время (редакция Б: «...и жил все во церкве», «...поучение чол безпрестанно»; А: «...чел народу книги»). Анализ этой вставки в текст Жития показывает, что она — результат не случайного «вяканья» Аввакума, а особый композиционный прием, цель которого противопоставить Никону фигуру его идейного противника — Аввакума, популярного проповедника, «книгочия», значительного деятеля московской церкви. Но, независимо от художественного назначения, текст этого отступления производит впечатление вставки, разрывающей некогда единый текст.
Сравним несколько фрагментов.
В редакции Б: «А се и яд отрыгнул. В пост великой прислал память х Казанъской к Неронову Ивану протопопу. А мне был отец духовной; я у него и жил все во церкве... поучение чол безпрестанно. — В памяти Никон пишет: „Год и число, по преданию святых апостол и святых отец, не подобает метания в церкве творить на колену“...» (РИБ, стб. 96). В редакциях А и В текст почти такой же, с незначительными лексическими заменами и перестановками. Но в Прянишниковском списке этой вставки, разрывающей текст, нет: «Во 162-м году, в великий пост, прислал память к Казанской к Ивану Неронову протопопу. В памяти Никон пишет: „Год и число. По преданию святых апостол и святых отец, не подобает метание в церкви на колену творити...“» (Пр. 314—315).
Аналогичный пример — один из рассказов о сибирской ссылке: «А се бегут человек с 50: взяли дощаник мой и помчали к нему [Пашкову], — версты с три от него стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их; а оне, бедные, и ядят и дрожат, а иные плачют, глядя на меня, жалеют по мне. Привели дощаник; взяли меня полачи и поставили пред нево» (РИБ, стб. 104). Здесь связное повествование опять прервано отступлением, цель которого — создать более сложную, «объемную» картину события. В событийную канву введены дополнительные сведения о том, где был и что делал Аввакум в это время, но главное — новый фактор оценки деятельности Аввакума — отношение к нему казаков, которые «плачют» и «жалеют» ево. Это не только «идеологическое» дополнение автора-публициста, но и очень важный художественный прием, впервые возникающий под пером Аввакума: одно и то же событие изображается у него в связи с разными субъектами действия. Так и здесь — действие не однолинейно, в него оказываются втянутыми и Аввакум, и Пашков, и казаки; в описании Аввакума отражается реальная сложность жизненных связей персонажей. Но и это «боковое» действие, создающее объемность изображения, — отступление
- 112 -
от основного повествования. В Прянишниковском списке этого отступления нет: «А се бегут человек с пятьдесят: взяли дощаник мой и помчали к нему, — версты с три от него стоял. Привели дощаник; взяли меня палачи и поставили пред него» (Пр. 318).
Другие эпизоды, наоборот, рассказаны в Прянишниковском списке подробнее, но и в этом случае они производят впечатление первоначального текста, сохраняющего действительное соотношение событий. Убедительным примером является описание бунта горожан против протопопа в Юрьевце-Повольском, отличающееся от описания в трех других редакциях Жития. В редакции Б (сходно в А и В) читаем: «... государь меня велел поставить в Юрьевец в протопопы. И тут пожил немного, — толко осмь недель: диявол научил попов и мужиков и баб, — пришли к патриархову приказу, где я духовныя дела делаю, и, вытаща меня ис приказу собранием, — человек с тысящу и с полторы их было, — среди улицы били батожьем и топтали; и бабы были с рычагами... Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят...» (РИБ, стб. 95). Действительная мотивировка бунта в рассказе почти утрачена, только в конце появляется намек на причины возмущения.
Прянишниковский список сохранил объяснение истинных причин бунта: «...государь меня велел поставить в Юрьевец-Повольской в протопопы. И по государеву указу велели духовныя патриарховы дела ведать, живучи у церкви. Аз же внимах о исправлении людском; людие же одержими пиянством зело и исполнени блудных дел и убийства. Аз же, окаянный, учих словом божиим, а не покаряющихся истинне и от блудных дел престати не хотящих воспящая смирением на дворе патриархове. Оне же, рассвирепев, на мя собравшеся, человек тысящи с полторы и больши, вытащили меня из патриарховы избы и били ослопьем, и кинули замертво под избным углом. И помале приехал воевода, оттащил меня в дом мой, поставил и сторожу, аз же отдохнув. Людие же ко двору приступают и по граду молва велика, наипаче же попы и жены, которых унимал от блудни, вопят...» (Пр. 312—313). Причиной бунта горожан, оказывается, были излишняя строгость требовательного протопопа, его наказания.
Текст Прянишниковского списка иногда более «откровенный», как будто еще недостаточно обработанный автором, написанный сгоряча и отражающий его действительные мысли и чувства. Так, несомненно, более «реалистическим» по сравнению с другими редакциями Жития является описание в нем мыслей Аввакума, заключенного в Братском остроге («...у Пашкова ...и пиют, и веселятся. А ко мне никто не заглянет, ничево не дадут — дураки!.. Всяко бродит на уме том» — Пр. 320); в редакциях А и Б вместо ропота героя — его полная покорность судьбе: «...дурачки!.. велено терпеть» (РИБ, стб. 25, ср. 106).
- 113 -
Эта «откровенность» Аввакума проявляется во многих местах Прянишниковского списка. Только здесь Аввакум сообщает, что он сам подписал в 1652 г. челобитную царю о Никоне, «чтобы ему быть в патриархах» («И я, окаянный, о благочестивом патриархе к челобитной приписал свою руку» — Пр. 313). Только в Прянишниковском списке Аввакум называет себя «убийцей» за то, что «молил» бога послать гибель войску Еремея Пашкова («Я им, убийца, молил о том бога» — Пр. 325). Лишь в этом списке Аввакум «проговорился» о помощи Пашкова при возвращении из «Даурской земли».
Во всех других редакциях Жития имеется в основном похожий текст: «Перемена пришла, и мне грамота пришла, и он меня утаил, на Русь не отпустил, чаял меня прикончать. Таже он поехал на Русь, меня не взял; умышлял во уме: „Хотя-де един после меня и поедет, ин-де ево иноземцы убьют“. Он в дощениках плыл с ружьями и с людьми. А я, месяц после ево спустя, набрал болных и старых и раненых, кои там негодны, человек с десяток, да я з женою и детьми, — 17 нас человек, в лодку седши, уповая на Христа, и крест поставили на носу, поехал, ничево не боясь. Кормчию книгу прикащику дал, и он мне мужика вожа кормщика дал здорова... Прикащик мучки дал на дорогу гривенок с тритцеть, да коровку, да овечек с 5, 6; мясцо иссуша, тем лето питалися, пловучи» (РИБ, стб. 117—118). Пашков выступает в этом повествовании как законченный злодей, давно помышлявший о смерти Аввакума. И одновременно Аввакум использует этот рассказ для создания атмосферы особого покровительства «божия», которым он, безоружный и беспомощный, пользовался во время этого путешествия. И снова — общественная поддержка: Пашков замышлял зло, а приказчик помог.
Из текста Прянишниковского списка выясняется, что именно Пашков, а не приказчик снабдил Аввакума и его семью продовольствием: «Перемена ему пришла, и мне грамота пришла, а преже тово грамота пришла. И он от меня утаил, на Русь меня не отпустил, чаял меня прикончать. И злобящеся на меня, оставил в Даурской земли, а сам поехал в Рускую землю, умышлял во уме: „Хотя-де он после меня и поедет, инь-де ево иноземцы убьют“. Но божиим промыслом, на поезде с сердца дал мне с молоком корову, да овец, да коз стадо оставил» (Пр. 325). Этот рассказ, по-видимому, больше соответствует действительности и характеру воеводы Пашкова, и, таким образом, непоследовательность Прянишниковского списка в изображении Пашкова — чисто «документального» происхождения.
В текстах редакций А и В можно отметить явную тенденцию к усилению черт злодейства в облике Пашкова, его все более сильную «агиографическую» стилизацию. Так, в редакции В, по сравнению с А, которая в общем совпадает с текстом Б, приведенным выше, есть новая подробность: Пашков не только «умышлял во уме» зло, но, оказывается, и вслух говорил «на
- 114 -
поезде»: «...здесь-де земля не взяла, на дороге-де вода у меня приберет“; среди моря бы велел с судна пехнуть, а сказал бы, бытто сам ввалился; того ради и сам я с ним не порадел» (РИБ, стб. 191). Аввакум, таким образом, в редакции В прямо инкриминировал Афанасию Пашкову угрозу убийства, о которой раньше в редакции А (как и в Б) ничего не писал. Здесь уже были неуместны воспоминания о том, что Пашков перед отъездом дал ему «с молоком корову, да овец, да коз стадо оставил». И фигура Пашкова-«доброхота», на долю которого теперь осталась только черная краска, была заменена приказчиком. Первоначальность Прянишниковского списка здесь налицо.
Простота и безыскусственность повествования в Прянишниковском списке проявляются и в описании возвращения Еремея Пашкова «из Мунгал». Во всех редакциях Жития его возвращение приурочено к моменту «казни» Аввакума, задуманной Афанасием Пашковым: «Во един от дней учредил застенок и огонь расклал: пытать меня хочет. Я сведал, ко исходу души и молитву проговорил; ведаю стряпанье ево — после огня мало у него оживают. А сам по себя жду и, сидя, жене и детям плачющим говорю: „Воля господня да будет!..“ А се и бегут по меня два палача. Чюдно! Еремей сам-друг дорошкою ранен мимо избы моея едет, и их вскликал и воротил с собою» (РИБ, стб. 116). Повествование здесь не лишено нарочитой беллетризации: герой уже готов к смерти, плачут жена и дети, бегут палачи и вдруг — чудо, внезапное возвращение Еремея Пашкова, который отводит руку палача, занесенную над героем («...их вскликал и воротил с собою»). Можно возразить, что так оно и было в действительности. По-видимому, Еремей Пашков вернулся в эти тревожные для Аввакума дни, но описать это, оказывается, можно было совсем иначе. Вот изложение этого же эпизода в Прянишниковском списке: «Во един же от дней учредил застенок и огонь росклал, — пытать хощет, и палачей по меня начал посылать. А в то время сын ево из Мунгал приехал ранен, а прочих людей наших всех побили. Он же, Пашков, оставя застенок, к сыну своему пришел... а я в то время пришел и поклонился им...» (Пр. 324). Спасение Аввакума от пытки и здесь связано с неожиданным возвращением Еремея Пашкова, но острота, конфликтность и драматизм повествования в тексте Прянишниковского списка отсутствуют.
Иногда в Прянишниковском списке сохранился текст, искаженный в последующих редакциях Жития (даже в автографах). Так, например, в редакциях Б, А и В имеется текст с явным пропуском; описывая обращение с челобитной к царю по поводу избрания патриарха в 1652 г., после смерти патриарха Иосифа, Аввакум сообщал: «Посем Никон, друг наш, привез ис Соловков Филиппа митрополита. А прежде его приезду Стефан духовник, моля бога и постяся седмицу з братьею, — и я с ними тут же, — о патриаръхе, да же даст бог пастыря ко спасению душ наших, и с митрополитом казанским Корнилием, написав
- 115 -
челобитную за руками, подали царю и царице — о духовнике Стефане, чтоб ему быть в патриархах. Он же не восхотел сам и указал на Никона митрополита. Царь ево и послушал...» (РИБ, стб. 14).11
Заметна смысловая несогласованность текста: Стефан Вонифатьев молит бога о патриархе, он же «з братьею» подает челобитную «о духовнике Стефане», и «он же не восхотел сам». Очевидно, челобитная царю была написана не им и не от его имени, а кем-то вместе с митрополитом Корнилием. Разъясняет текст Прянишниковский список: «И во 160-м году изволением божиим преставися Иосиф патриарх, и бысть на ево место избрание. И духовник Стефан протопоп, моля бога и постяся седмицу с братиею, и аз с ними тут же, — о патриархе, да же даст бог добраго пастыря ко спасению душ наших на место Иосифа патриарха. Потом мы с митрополитом казанским Корнилием, написав челобитную за руками, подали челобитну царю и царице о духовнике Стефане, чтобы ему быть в патриархах. Он же не восхоте сам, указал на Никона, Новгородскаго митрополита, понеже он обольстил святую душу ево, являяся ему, яко ангел, а внутрь сый диявол. Протопоп же Стефан увеща царя и царицу да поставят Никона на Иосифово место. Царь же и послушал» (Пр. 313).
Текст Прянишниковского списка обособляет Стефана Вонифатьева от писавших челобитную, сохраняя выпущенное впоследствии уточнение («Потом мы...»). Ошибка протографа других редакций произошла из-за того, что автору было прекрасно известно, кто именно писал челобитную, этот текст был для него вполне ясным, и пропуск местоимения создает двусмысленность только в восприятии текста несведущим читателем. Этот же текст объясняет, почему протопоп Стефан «указал на Никона». Как видим, стремление объяснить характерно для первоначального текста. Прянишниковский список сохраняет также реальную хронологическую последовательность событий: смерть патриарха Иосифа, молитвы о новом патриархе, сообщение о том, что Никон, на которого пал выбор, находится в это время на Соловках. Композиция этого отрывка в других редакциях иная: сначала сообщается о возвращении Никона, а уже потом, обращаясь к предшествующему времени, Аввакум пишет о молитвах, спорах и выборе кандидатуры нового патриарха. Иным является и стиль фрагмента: церковнославянская форма «аз» (вместо «я» других редакций), указание точных дат — своеобразных летописных формул, свойственных, как уже отмечено выше, более раннему тексту («И во 160-м году...», «Во 162-м году, в великий пост...» и др.).
Аналогичный случай представляет собой следующий фрагмент Жития. Во всех редакциях Аввакум писал о своей отправке
- 116 -
из Тобольска на Лену: «Посем указ пришел: велено меня вести на Лену ис Тобольска за сие, что браню от писания и укоряю ересь Никонову» (РИБ, стб. 102, сходно в А и В). Но в рассказе о жизни в Тобольске Аввакум ничего не сообщал о своем обличении «Никоновой ереси». В Прянишниковском же списке сохранилась и начальная часть этих рассуждений Аввакума, разъясняющая текст других редакций: «В Тобольске жил полтора годы, у церкви проповедая слово божие и ево, Никонову, обличая ересь... Егда же услышал Никон мое обличение о нем в Тобольске, что браню от писания и укоряю ересь ево, и посем пришел указ от Никона в Тобольск, велено меня вести на Лену» (Пр. 317).
Рассмотренные выше особенности Прянишниковского списка обнаруживают, что в основе его лежит особая редакция Жития, отличающаяся своеобразной повествовательной манерой. Ряд черт этого списка дает основание предположить, что текст его является первоначальным по отношению к другим редакциям.
Не противоречат ли этому предположению хронологические данные текста?
В Прянишниковском списке нет того большого общего слоя известий, который имеется в редакциях Б, А и В. Единственное датирующее указание, общее и для других редакций, и для Прянишниковского списка, — все то же упоминание о двух годах, прошедших после казни 14 апреля 1670 г., когда у священника Лазаря «по дву летех» заново вырос «язык совершенной» (Пр. 340). Это упоминание как будто точно датирует текст временем после апреля 1672 г. Однако ранее уже отмечалось, что счет лет у Аввакума часто бывал приблизительным. Поэтому вполне возможно, что и здесь при исчислении времени Аввакум подразумевает срок около двух лет после пустозерской казни. Если же принять свойственную иногда Аввакуму систему отсчета времени по календарю, а не по фактической протяженности, то можно полагать, что это указание относится к концу 1671 г. — началу 1672 г.
Каковы другие индивидуальные датирующие данные Прянишниковского списка?
Прежде всего следует отметить точное указание на время сочинения этого текста Жития, имеющееся в начале Прянишниковского списка: «Отселе стану сказывать верхи своим бедам, а о всех недостанет ми лета повествовати, колико случилося в 22 лета от буих человек... В том же селе начальной человек отнял у вдовицы дочь...» (Пр. 311). Из контекста явствует, что Аввакум ведет здесь отсчет своих «бед» (как и в «первой» челобитной Алексею Михайловичу) от конфликтов с «начальными людьми» в Лопатищах; известно, что Аввакум был изгнан из села в 1647 г.12 Таким образом, этот фрагмент Прянишниковского списка датируется временем около 1669 г.
- 117 -
Обратим внимание еще на три обстоятельства, позволяющие датировать этот текст.
1) Отсутствие каких бы то ни было упоминаний в тексте этой редакции о боярыне Морозовой. Это позволяет предположить, что текст создавался до известий об аресте Морозовой в ноябре 1671 г.
2) Наличие в списке вместо торжественной «похвалы церкви» подробного описания земляной тюрьмы, в которую Аввакум был заключен после 14 апреля 1670 г: «Да ладно так, хорошо! Я о том не тужу, запечатлен в живом аде плотно гораздо: ни очию возвести на небо возможно, едина скважня, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него же и ветхая измещем; тут же и отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валяяся удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по колени, — все беда...» (Пр. 341). Это описание, отсутствующее в других редакциях Жития, его подробности и самый тон воспринимаются как непосредственное выражение чувств узника, сравнительно недавно оказавшегося в условиях земляной тюрьмы, что тоже позволяет видеть в Прянишниковском списке текст, более близкий по времени написания к событиям 1670 г., чем текст других редакций Жития.
3) Последнее событие пустозерской жизни, о котором сообщает Аввакум в тексте Прянишниковского списка, — это пост Аввакума «от масленницы и до вербнаго воскресения». Указание на год этого поста в списке отсутствует, но общий смысл повествования таков, как будто Аввакум рассказывает о событии недавнего времени, возможно, о событии того же года, когда он пишет этот фрагмент (рассказ о его посте в предыдущие годы в тексте Прянишниковского списка датирован: «Во 177-м году, в великой пост, на первой недели...» и т. д.). С этим описанием можно сопоставить «записку» Аввакума о посте пустозерских узников в 1671 г. (см.: РИБ, стб. 719).
Эти данные Прянишниковского списка не выводят его текст за пределы первой половины 1672 г., а скорее всего указывают на 1671 г., вторую его половину, ближе к концу; начало же его создания — 1669 год.
В тексте Прянишниковского списка есть фрагмент, который начинается фразой: «И нынешняго, 174-го году, в великой мясоед, взял меня пристав с Мезени к Москве...» (Пр. 328). «Нынешним» здесь назван 1666 год. Однако эта дата, по-видимому, не имеет отношения к Прянишниковскому списку в целом, так как находится в тексте ранее написанной автобиографической «записки» Аввакума, включенной им в Житие (записка имеется только в составе Прянишниковского списка).
Таким образом, и хронологические указания Прянишниковского списка поддерживают предположение о его более раннем создании по сравнению с другими редакциями Жития, даже по сравнению с редакцией Б.
- 118 -
Это предположение подтверждается текстологическими данными. Прянишниковский список, как отмечал уже В. И. Малышев, наиболее близок редакции Б, первой из трех последующих редакций, в тех местах, где текст его сопоставим с другими редакциями Жития (в ряде случаев Прянишниковский список обладает совсем особым повествованием).
Близким к тексту редакции Б оказывается заглавие Жития: «...сего ради написася сие на славу Христу, сыну божию и богу истинному, и богородице, и святым его. Аминь» (полный текст читается в списках Бо; в Б1 сохранился лишь конец этого заглавия: «...истинному, и богородице, и святым его. Аминь».13
Вступление к Житию в Прянишниковском списке соответствует тексту Б1, сохранившему архетипное вступление редакции с молитвой «троице». Кроме того, и Б1 и Прянишниковский список имеют особое начало Жития, предшествующее молитве «троице» и являющееся авторским текстом: «Начало книги сея бытия». Вступительная часть к Житию характеризуется в Прянишниковском списке большей точностью в цитировании текста, чем вступление в редакциях А, В и Б1; фактически она представляет собой точное воспроизведение молитвы из Псалтыри (с одним пропуском), а не обработку ее, как это наблюдается в других текстах.14
Эта большая точность в цитировании источника проявилась и в случайно сохранившемся окончании евангельской цитаты; только в Прянишниковском списке и в тексте Бо (как и Б1) читаем в сцене суда над Аввакумом: «Так на меня и пущи закрычали: „Возьми, возьми, распни его, — всех нас обесчестил!“» (Пр. 335, РИБ, стб. 128; ср. А: «Возми его! — всех нас обезчестил!» — РИБ, стб. 59).
Прянишниковский список соответствует редакции Б и в описании отдельных эпизодов. Как и в Б, здесь есть упоминание о патриархе Иосифе, отсутствующее в других редакциях («...да же даст бог добраго пастыря ко спасению душ наших на место Иосифа патриарха» — Пр. 313; ср. РИБ, стб. 96). Тексту Б (Бо и Б1) соответствуют фрагменты, описывающие раскаяние Аввакума на Шаманском пороге (Пр. 319; ср. РИБ, стб. 105) и переезд его через «Байкалово море» (Пр. 326; ср. РИБ, стб. 118); как и в Б, в Прянишниковском списке сохранилась мотивировка молчания Аввакума перед лицом обвинений Пашкова: «Христом запечатлел уста моя Еремей» (Пр. 325; ср. РИБ, стб. 117), и др. Архетипные чтения имеются в Прянишниковском списке и в центральной части Жития: они совпадают с текстами А, В и Б1. Так, например, все списки Бо содержат испорченный фрагмент: «По переносе меня стригли и бороду обрезали. Дети, чему
- 119 -
быть? Волки то есть» (РИБ, стб. 123); в Прянишниковском списке, как и в Б1, читаем: «Волосы и бороду отрезали, вражьи дети! Чему быть? Волки то есть», и т. д. (Пр. 328—329). Таким образом, не только смысловые разночтения, рассмотренные ранее, но и целый ряд формальных примет связывают текст Прянишниковского списка с первоначальным, глубинным слоем текста Жития.
Рассмотрим еще одну особенность текста Прянишниковского списка — его близость в некоторых случаях к рассказам редакции В. Эта особенность была отмечена Малышевым, указавшим на сходство в описаниях заключения Аввакума в башне Братского острога, жизни под сосной на озере Иргень, заточения в Николо-Угрешском монастыре, расстрижения, встречи с Дементием Башмаковым на Трехсвятском мосту.15 Эта близость к последней редакции Жития, возникшая к тому же совершенно независимо от предыдущих звеньев, как будто ставит под сомнение мысль о первоначальности Прянишниковского списка. Однако сопоставление текстов обнаруживает, что прямой текстологической зависимости Прянишниковского списка от редакции В (или наоборот) нет, сходство между ними всегда остается только в пределах общего слоя воспоминаний. Так, например, рассказывая в редакции В о жизни после «волока» на Иргени-озере, Аввакум подробно описывал обстоятельства их бытия: «...и кое-как перебилися волок, да под сосною и жить стали, что Авраам у дуба мамврийска. Не пустил нас и в засеку Пашков сперьва, дондеже натешился, и мы неделю-другую мерзли под сосною с робяты одны, кроме людей, на бору...» (РИБ, стб. 181). В Прянишниковском списке также приводится этот факт из жизни Аввакума: «...и покиня избу, переволоклися за волок и там до лета жили под сосною» (Пр. 321). Как видим, здесь налицо сходство содержания, а не текста.
Совпадают и следующие подробности в Прянишниковском списке и редакции В: только в этих редакциях есть сцена встречи Аввакума с Дементием Башмаковым ночью 15—16 мая 1666 г. перед отправкой в Николо-Угрешский монастырь. Но описания этих сцен различны, в основе каждой из них лежит не общий текст, а воспоминания автора.
Сравним фрагменты:
Прянишниковский список
Редакция В
Отслали на патриархов двор, посадили за решетку и тут держали два дни. И в полночь обвели в Тайнишные ворота Житным двором на Тресвяцкой мост. И тут от тайных дел
И, подержав на патриархове дворе, вывели меня ночью к спалному крылцу; голова досмотрил и послал в Тайнишные водяные ворота; я чаял, в реку посадят, ано от тайных дел
- 120 -
Дементей Башмаков сказал мне: «Молися-де богу и на государя надейся». И отдал меня полуголове со стрельцами (Пр. 329).
шиш антихристов стоит, Дементей Башмаков, дожидается меня, учал мне говорить: «Протопоп, велел тебе государь сказать: небось-де ты никово, надейся на мене». И я ему поклонясь, а сам говорю: «Челом, реку, бью на ево жалованье; какая он надежа мне! Надежа моя Христос!» Да и повели меня по мосту за реку... (Зв, л. 63; ср. РИБ, стб. 198—199).
Сюжет, основанный на действительном факте, одинаков в обоих отрывках, но совпадения текстов нет. В редакции В Аввакум внимателен к описанию состояния автобиографического героя («...я, чаял, в реку посадят...») и к художественной детали. Дементей «стоит... дожидается меня», — пишет Аввакум; отвечает он Башмакову «поклонясь», подчеркивая этой деталью описания свою кротость; дух его терпелив, но непреклонен: «...какая он надежа мне! Надежа моя Христос!». В Прянишниковском списке внимание Аввакума обращено на хроникальные подробности: здесь сообщается, сколько времени после расстрижения («два дни») держали его «на патриархове дворе» (в редакции В, кроме фразы в начале фрагмента, о сидении «на патриархове дворе» больше нет ни слова), говорится, что вели Аввакума «Житным двором на Тресвяцкой мост», но нет ответа Аввакума, составляющего суть этой сцены в редакции В; цель описания в Прянишниковском списке — фиксация событий.
Некоторое сходство между Прянишниковским списком и редакцией В есть в описании заключения Аввакума в Братском остроге: осуждение сторожей в редакции В («бесчинники») в отличие от проникнутого сентиментальностью описания в редакциях А и Б по тону слегка напоминает Прянишниковский список, где дано, как отмечалось выше, правдивое изображение чувств заключенного в тюрьму Аввакума.
В редакции В и в Прянишниковском списке совпадает ряд деталей в описании этого заключения; ср. в редакции В: «...иногда одново хлебца дадут, а иногда ветчинки одное не вареной, иногда масла коровья без хлеба же» (РИБ, стб. 179); в Прянишниковском списке: «А пища мне была через день и через два. Аногда хлеба дадут одново, иногда ветчины без хлеба и без воды, иногда масла коровья моего же припасу» (Пр. 320). Прянишниковский список как всегда более точен в описании; хотя в редакции В этот факт служит обличению «бесчинства» его сторожей, возмущение Аввакума совмещается с сентиментальной стилистической окраской повествования («хлебца», «ветчинки»). Сходство обоих текстов поддерживается и евангельской параллелью, имеющейся только в них: Аввакум
- 121 -
сравнивает себя с Лазарем «при вратех богатаго», но используется это сравнение в разных планах; в Прянишниковском списке — в плане прямого сопоставления голодного Аввакума, наблюдающего за трапезой Пашкова, с Лазарем; в редакции В эта параллель усложнена, она возникает в связи с «собачкой», приходящей к Аввакуму, и воспоминание о Лазаре здесь облечено в форму евангельской цитаты («...яко Лазаря во гною у вратех богатаго, пси облизаху гной его...»). Таким образом, и здесь между текстом В и Прянишниковским списком нет прямой связи.
Как уже говорилось, в Прянишниковский список включено большое количество отрывков из других сочинений Аввакума, а также сочинений ряда старообрядческих писателей — автобиографические «записки» Аввакума (о «последних увещеваниях», о возвращении с Мезени и др.), отрывки из его писем и посланий, содержащие автобиографические подробности (из «первой» и «пятой» челобитных, из писем семье и единомышленникам), сочинения Федора, Епифания, Авраамия, повествующие об обстоятельствах жизни Аввакума (о его борьбе, допросах и заключениях). Характерной чертой всех этих «вставок» является их историко-биографическое, а не богословское содержание. Какие же из этих «включений» относятся к авторскому тексту, введены в Житие рукой самого Аввакума и что вставлено неизвестным редактором? Все ли эти фрагменты являются «вставками» в текст первоначальной редакции Жития, или, может быть, наоборот, они извлечены из нее?
Редактор текста Прянишниковского списка в заглавии к Житию приписал: «Собрано вкратце из Жития...», следовательно, он знал другие, более подробные его редакции. Редактор этого текста не чужд был мысли о его распространении: он приписал к Житию эпилог, повествующий о смертной казни пустозерских узников. Обратим, однако, внимание на заметное стилистическое отличие этого отрывка от предшествующего текста Аввакума: редактор четко осознавал разницу между стилем Аввакума и своим собственным и не пытался их смешивать. В отличие от редактора списка Ар (текст Б1), который в силу неприятия просторечия Аввакума безжалостно выправил текст его Жития (текст списка Ар изобилует явными заменами и купюрами16), редактор Прянишниковского списка бережно сохранял все особенности языка и стиля памятника. Он относился, по-видимому, к тому кругу керженских почитателей Аввакума, которые считали, что «светлея солнца письма Аввакумовы, и вси добры».17
Эта редакторская позиция проявилась и в оформлении сборника: на л. 2 об. помещена миниатюра (пером), где изображены фигуры четырех пустозерских узников — Епифания, Федора,
- 122 -
Лазаря и Аввакума с нимбами (изображение Аввакума напоминает его икону: в рукописи он также нарисован в характерном повороте в три четверти).
Выражение «собрано вкратце» двусмысленно: оно может означать участие редактора в создании этого текста, но может отражать и его восприятие текста Жития, лежавшего перед ним (оно казалось ему неровным, собранным из разных частей).
Для решения вопроса обратим внимание на характер соединения текстов из других источников с основным повествованием Жития.
Некоторые фрагменты, известные по сочинениям Аввакума, Епифания, Федора, органично существуют в тексте Прянишниковского списка. Так, например, здесь есть рассказ о явлении Аввакуму ангела-хранителя, полностью соответствующий тексту «пятой» челобитной Алексею Михайловичу. В других редакциях Жития только упоминается об этом явлении: «Тут мне божие присещение было...», самое же содержание «божьего присещения» не раскрывается, Аввакум отсылает читателя к своей челобитной царю, следующей в сборниках обычно за Житием («...чти в цареве послании, там обрящеши» — РИБ, стб. 123). Нет никаких текстологических примет, которые противоречили бы предположению об изначальности этого фрагмента в Прянишниковском списке или, по крайней мере, параллельном включении его и в челобитную Алексею Михайловичу, писавшуюся в 1669 г., и в Житие, создание начальной части которого падает на тот же год. Относительно второго «видения», известного по «пятой» челобитной и тоже имеющегося здесь (Аввакум «видит», что «вместил» в себя «небо и землю, и всю тварь»), можно вынести более определенное суждение: этот текст первоначально был именно в челобитной 1669 г. царю, так как «177-й год» называется в ней «нынешним», а в Прянишниковском списке просто «177-м» (завершение работы над Прянишниковским списком относится к концу 1671 — началу 1672 г.). Но введение этого фрагмента в текст Жития принадлежит, вероятно, самому Аввакуму: рассказ о «распространении» сопровождается не одним, как в челобитной, а двумя примерами. Упоминание о подобном же вознесении на небо патриарха Авраама («...чти книгу... Палею») дополняется здесь ссылкой на видение «угодника божия Венедикта» (Пр. 338—339).
Как единый, неотделимый от основного повествования текст воспринимается и фрагмент о Никоне, имеющийся кроме Прянишниковского списка и в 1-й беседе Аввакума из «Книги бесед»: «Он же (духовник Стефан. — Н. Д.) не восхоте сам, указал на Никона новгородскаго митрополита, понеже он обольстил святую душу ево, являяся ему, яко ангел, а внутрь сый диявол. Протопоп же Стефан увеща царя и царицу да поставят Никона на Иосифово место. Царь же и послушал. И я, окаянный, о благочестивом патриархе к челобитной приписал свою руку. Ано врага выпросили и беду на свою шею. Тогда и я, при духовнике,
- 123 -
в тех же полатах шатался, яко в бездне мнозе. Много о том потонку беседовать, едина рещи, — за что мя мучат тогда и днесь, большо и до исхода души. А Никон в то время послан был в Соловецкой монастырь по мощи святаго Филиппа митрополита» (Пр. 313; ср. РИБ, стб. 245—246).18
Еще более органично входят в текст Жития те фразы, которые, как считается, принадлежат Житию Епифания («И по трех днях повезоша нас в заточение в Пустоозерье и посадиша нас в темницах»; «И по двух годех прислан к нам в Пустоозерье полуголова Иван Елагин со стрельцами»; «И он повелел нам по наказу языки резати и руки сечь...» и т. д. — Пр. 338, 339, 340) .19 Трудно предположить, что позднейший редактор вводил в различные части Жития по одной фразе из текста Епифания, инкрустируя ими текст Аввакума. Расположение в тексте Жития Аввакума совпадающих с Житием Епифания чтений и при этом отсутствие дублирования, а главное, их полное смысловое соответствие тексту Аввакума и стилистическая нейтральность позволяют поставить вопрос иначе: может быть, Епифаний в своем Житии использовал эти чтения Прянишниковского списка, измененные Аввакумом в других редакциях? Т. е. нельзя ли характеризовать Прянишниковский список как источник для других текстов, с чтениями которых он совпадает?
Интересным для анализа Прянишниковского списка в этом плане является текст об Арсении Греке, имеющийся в начальной части Прянишниковского списка: «И привез с собою из Соловецкаго монастыря ссыльнаго старца Арсенья Грека. Сослан был при Иосифе патриархе по свидетельству иерусалимскаго патриарха Паисея. Егда был на Москве и поехал ис Путимля, с дороги писал: остася-де на Москве чернец Арсеней Грек, и был-де он в трех землях и три царства смутил и трижды Христа отвергся. И вы-де его блюдитеся. И уведавше о нем, царь Алексей и Иосиф патриарх, яко Арсеней еретик лют есть и богоотметник, и сего ради повелеша его заточити в Соловецкой монастырь. И бывшу ему в Соловецком монастыри, исповедался у отца духовнаго, благоговейнаго и искуснаго священноинока Мартирия. И по свидетельству отца духовнаго, такожде сказал во исповеди: трижды Христа и православныя веры отвержеся, учения ради философскаго. И сего еретика Арсения Никон привезши к Москве с собою из Соловецкаго монастыря, царю охвалил и стал ево у себя держать, яко подпазушную змию... И того невернаго раба и врага божия Арсения приставил к книжной справе на печатной двор. И почали книги казить и всякий плевелы еретическия в книги печатать. А нас,
- 124 -
друзей своих, не стал и в крестовую пущать. А се первой яд отрыгнул» (Пр. 314).
В других редакциях Жития упоминаний об Арсении Греке вообще нет, за исключением редакции А, где в конце Жития, перечисляя ереси «никониан», Аввакум вспоминает и о нем: «Как говорил Никон, адов пес, так и зделал: „Печатай, Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по-старому!“ — Так су и зделал» (РИБ, стб. 66).
Рассказ в Прянишниковском списке совпадет с Житием Епифания и с его автобиографической «запиской».20 Можно было бы предположить, что этот текст и заимствован из Жития Епифания. Но ведь это лишь часть большого отрывка текста об Арсении Греке, начало которого — пересказ послания Паисия Александрийского с жалобой на Арсения Грека, восходящий, по-видимому, к «Проскинитарию» Арсения Суханова,21 — отсутствует у Епифания, зато хорошо известно дьякону Федору.22 По-видимому, этот текст, отразившийся в сочинениях и Аввакума, и других пустозерских узников, является результатом их устного общения. Рассказы, принадлежащие Епифанию, об отношении к Арсению Греку соловецких монахов и неприязненные слухи о нем могли быть использованы ими всеми в равной мере. И впоследствии из Жития Аввакума этот текст мог быть исключен именно потому, что Епифаний — непосредственный источник сведений об Арсении Греке — сам написал об этом в своем Житии.
Таким образом, некоторые фрагменты Прянишниковского списка, совпадающие с другими источниками, органично входят
- 125 -
в его текст, являясь, вероятно, ему изначально присущими; если же они добавлены потом, то сделано это так умело и искусно, что нет оснований видеть в них композицию не самого Аввакума, а постороннего редактора.
Однако в двух случаях в Прянишниковском списке заметна несогласованность фрагментов, введенных в него, с основным повествованием, причем все эти тексты идут, как правило, подряд, целой группой, разрывая единый текст Жития.
Описывая свое заключение в Николо-Угрешском монастыре, Аввакум вспоминал заступничество за него царицы Марьи, и это было поводом в редакциях Б, А и В к появлению большого отступления о единомышленниках-боярах, их доброте — о Воротынском, Хованском, Морозовой. В Прянишниковском списке этого отступления нет, но есть четыре фрагмента, неизвестных другим редакциям: 1) «записка» Аввакума об «увещеваниях» его властями в июле и августе 1667 г., ошибочно отнесенная здесь к событиям 1666 г.; 2) предостережение «правоверных» от Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого, появление воспоминаний о которых индуцировано здесь предшествующей автобиографической «запиской», где упоминалось о спорах с Симеоном Полоцким; 3) самохарактеристика Аввакума-оратора, рассказ о его речах-импровизациях; 4) воспоминание о том, как Аввакум «крошил» Никона-патриарха (по-видимому, в 1653 г.). Все эти тексты связаны с темой споров, с темой «увещеваний» Аввакума, заданной в его автобиографической «записке», но сама «записка» (как и весь рассказ о событиях 1667 г.) попала здесь не на место. Возможна ли такая хронологическая ошибка в авторском тексте? Скорее всего она — результат последующего внесения этой «записки» в текст. Но кто сделал эту вставку? Не исключено, что сам Аввакум, «собирая» текст Жития из отдельных фрагментов, спутал события: в 1667 г. он тоже был заточен в том же Николо-Угрешском монастыре (ср. его путаницу двух солнечных затмений в начале Жития).23
Второй случай, который также как будто можно объяснить вмешательством редактора, — это описание московских казней в августе 1667 г. Во всех других редакциях Жития Аввакум сообщал о них весьма кратко: «Таже, казня братию, а меня не казня, сослали в Пустозерье» (РИБ, стб. 129). В Прянишниковском же списке используются текст сочинения дьякона Федора «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании», снова повествующий о соборном заседании 17 июля 1667 г., а затем текст сочинения Авраамия о московских казнях, вошедший в его «Христианоопасный щит веры» и созданный на основе записки Аввакума (Пр. 336—338).24 И текст Федора, и текст Авраамия представлены здесь как автобиографические повествования; 3-е лицо всюду последовательно заменено 1-м: «меня», «нам»
- 126 -
и т. п., из текста убраны все эпитеты, прославляющие Аввакума и его сподвижников (в «Сказании» они очень выразительны: Аввакум — «сильный Христов воевода противу сатанина полна», Лазарь — «храбрый божий слуга», Епифаний — «воин небеснаго царя Христа»).
Кому же принадлежит эта композиция из сочинений Федора, Авраамия и Епифания и кем сделана стилистическая правка? Текст Жития Аввакума свидетельствует об участии Аввакума в обработке этого текста. Дело в том, что часть текста «Сказания об Аввакуме, Лазаре и Епифании», использованного в Прянишниковском списке, нашла отражение еще в одной авторской редакции Жития Аввакума — в редакции Б.
Сравним тексты:
Прянишниковский список
Редакция Б
«...„Ты, реку, мой царь, а им какое дело до тебя? Потеряли, реку, своего царя латыши, да сюды приехали и тебя проглотить!“ И много тех присылок было. На страшном суде пред Христом тогда познано будет, потерпим до тех мест, хотя горько. Тайна царева добро есть таити, а дело божие проповедати преславно есть. Последнее слово рек: „Где ты ни будешь, не забывай нас в молитвах своих!“ Я ныне, грешной, елико могу, о нем молюся. И паки, егда мы приведени быша пред владыки греческия и руские и сташа пред ними, темными властьми...»25 (Пр. 335—336)
«„Ты, реку, мой царь, а им какое дело до тебя? Потеряли, реку, своево царя латыши, да сюды приехали и тебя проглотить! Не сведу, реку, рук с высоты небесныя, дондеже отдаст тебя мне бог!“ И много тех присылок было. Кое о чем говорено было. На страшном суде пред Христом тогда познано будет, потерпим до тех мест, хотя горко. Тайна царева добро есть таити, а дело божие проповедати преславно есть. Последнее слово рек: „Где-де ты ни будеш, не забывай нас в молитвах своих!“ Я и ныне, грешной, елико могу, о нем молюся. Таже, казня братию, а меня не казня, сослали в Пустозерье» (РИБ, стб. 129; подобен этому текст Б1).
Фраза «Тайна царева добро есть таити...» слабо связана с повествованием Жития. Но она — органическая часть «Сказания», начинает его текст, генетически связана с ним. Сохранилась
- 127 -
эта фраза только в редакции Б (в редакциях А и В ее нет) и может быть использована как текстологический аргумент: это чтение подтверждает первоначальность текста Прянишниковского списка по отношению к редакции Б, а следовательно, и абсолютную первоначальность этого текста по отношению к другим редакциям Жития; оно доказывает, что создателем компиляции в тексте Прянишниковского списка был сам Аввакум; таким образом, даже самые «подозрительные» фрагменты Прянишниковского списка оказались в авторском слое повествования,26 а это значит, что текст Прянишниковского списка в целом можно рассматривать как авторскую, первоначальную редакцию Жития. Роль позднейшего редактора в построении и стилистическом оформлении текста ничтожна.
Какой же была первоначальная редакция Жития? Целый ряд ее особенностей уже рассмотрен выше при анализе Прянишниковского списка, однако теперь нужно охарактеризовать эту редакцию в целом как особый начальный этап в творческой истории Жития.
Первоначальная редакция имела вступление к Житию, которое почти полностью соответствует тексту других редакций (выше уже отмечались два отличия: сохранение авторского заглавия к тексту «Начало книги сея бытия» и точное цитирование молитвы из Псалтыри). Барсков обратил внимание на то, что заключительные слова вступления, представляющего собой изложение основных вероисповедных воззрений Аввакума, — «с сим живу и умираю» совпадают с текстом «письма» Аввакума, которое он подал на последнем допросе 5 августа 1667 г. перед ссылкой в Пустозерск: «А я держу православие бывшее и прежде Никона патриарха и книги держу писменныя и печатныя... с сими книгами живу и умираю».27 По-видимому, не только последние слова, но и содержание вступления в целом соотносятся со спорами Аввакума на соборе 1667 г. Вспоминая о соборе, Аввакум писал в Житии: «Потом паки ко мне пришли
- 128 -
власти и про аллилуйя стали говорить со мною. И мне Христос подал: Дионисием Ареопагитом римскую ту блядь посрамил в них» (Пр. 335).28 Таким образом, вступление к Житию является не просто сводом выписок по основным вероисповедным вопросам, объем которых мог быть больше или меньше, оно связано с первоначальным замыслом Жития и возникло как продолжение неоконченного спора, как своеобразный перечень аргументов Аввакума.
В этой редакции Жития уже имелось «надписание» Епифания, и текст его также был непосредственно связан с полемикой против «новой веры»: имя Христа сопровождается здесь (как и в редакции Б) отнюдь не случайными и не нейтральными определениями — «сын божий» и «бог истинный». Это первоначальный вариант «надписания», отражающий один из основных моментов спора старообрядцев с «никонианами», так как Никон исключил из «Символа веры» слово «истинный». Полемическая часть вступления к Житию начинается с изложения взглядов Аввакума, подкрепленных выписками из сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита, на этот новый, измененный Никоном текст «Символа веры» (после цитат из книги Псевдо-Дионисия «О божественных именах» Аввакум писал: «Мы же речем: потеряли новолюбцы существо божие испадением от истиннаго господа...»).29
- 129 -
Объем основной части Жития в первоначальной редакции был меньшим, и она была короче: в ней отсутствовали рассказы Аввакума об исцелении «бесноватых», составившие в следующих редакциях особый цикл, композиционно заключающий Житие; иной была вся концовка Жития: вместо «похвалы церкви», завершающей сюжет Жития во всех остальных редакциях, находилось подробное описание быта пустозерских узников в земляной тюрьме; обличение ересей «никониан» отсутствовало, зато большое место было уделено идее страшного суда — возмездия для одних и вечной жизни для других.30 Обращение к «правоверным» со ссылкой на авторитет апостолов в этой редакции представляло единый текст, оно не было еще разделено рассказами о «бесноватых». В заключении этой редакции была фраза, которую можно истолковать как обращение к Епифанию с призывом написать свое Житие: «Сказывай, не бойся, лише совесть крепко держи; не себе славу ища говори, но Христу и богородице». Там же была сформулирована и идея, которая привела Аввакума к мысли о необходимости создать Житие: «А мы того ради возвещаем о себе правоверным, за что нас отступники прокляли и осудили на смерть» (Пр. 342). Эта идея была созвучна настроениям пустозерских узников в 1667—1670 гг.31 — апелляция к общественному мнению, обращение к суду общественному, после того как царский суд обнаружил свое неправосудие.32
Задуманная как «книга бытия», первоначальная редакция давала подробное и точное описание событий. С этой целью Аввакум дополняет основное повествование эпизодами, заимствованными из собственных писем, посланий, вводит в текст Жития специальные автобиографические записки, отрывки из сочинений других авторов. Все эти материалы должны были сообщить возможно большее число подробностей из жизни Аввакума и его «соузников», фактов из истории борьбы старообрядцев с никоновской реформой. Рассказ о соборе 1667 г., извлеченный из «Сказания об Аввакуме, Лазаре и Епифании» дьякона Федора, дополнял картину собора, нарисованную самим Аввакумом; отрывки из его посланий и «записок» уточняли обстоятельства «казни» Лазаря и Епифания «урезанием» языка; другие автобиографические «записки» и заметки давали яркие характеристики самого Аввакума и его противников.
Первоначальная редакция была более документальной и исторически достоверной по сравнению с другими. В ней нет некоторых молитв Аввакума и большинства его рассуждений в духе христианской нравственности, которые появятся в редакции Б.
- 130 -
Так, например, описание природы у «Байкалова моря» в Прянишниковском списке сопровождается лишь одной фразой: «А все то у Христа-то света наделано для человека, чтобы, упокояся, хвалу богу воздавал» (Пр. 326); в редакции Б на основе этой мысли разворачивается целая тирада, противопоставляющая красоте «божьего мира» суетность человека (см.: РИБ, стб. 119, 42, 193). Эта тенденция к уснащению Жития богословским и назидательным элементом еще сильнее проявится в редакции А и особенно В.
Однако весь большой исторический и автобиографический материал не был еще в первоначальной редакции достаточно обработан. Помимо чисто механических дефектов текста, которые можно отнести за счет порчи Прянишниковского списка,33 повествование в первоначальной редакции отрывочно само по себе. Так, например, сразу после рассказа о преследованиях Пашкова («...мучился, живучи с ним восимь лет») появляется внешне не мотивированное сообщение: «Пять недель мы с женою рекою брели по го[ло]му льду...» (Пр. 323). Повествование распадается на отдельные эпизоды, оно еще не объединено внутренней идеей, его организуют только тема жизнеописания, тема борьбы и естественная хронология событий. Поэтому в первоначальной редакции все так неровно и разномасштабно. Отдельные блестящие эпизоды-новеллы (о Симеоне Полоцком, о Никоне) кажутся вставками в повествовательный событийный ряд Жития, да они и являются вставками, не сплавленными еще в единый художественный текст.
Создание редакции Б было качественно новым этапом в творческой истории Жития. Изменились не только объем и масштаб повествования, иным стал самый прием подачи автобиографического материала: история жизни Аввакума раскрывалась теперь в серии эпизодов-новелл, связанных единым действием, сюжетом; повествование подчинено преимущественно художественному замыслу воссоздания нравственного облика героя и его жизненного пути.
Как же сохранилась первоначальная редакция Жития, не растворившись в последующих переделках и переработках памятника? Многое объясняет характер сборника, в котором она дошла: рукопись содержит только сочинения Аввакума, но это сборник особого, нигде более не повторяющегося состава.34 Кроме первоначальной редакции Жития Аввакума, в нем находятся две челобитные Аввакума царю («первая» и «пятая») и ряд неизвестных ранее сочинений последних лет его жизни:
- 131 -
«Беседа о кресте... к неподобным», сочинение об антихристе, послания и др. (все эти сочинения датируются временем после 1678 г.). Изучение сочинений из Прянишниковского сборника показало,35 что им присущи общие черты обработки текстов, определенный круг источников. Своеобразие состава сборника, сходство редакторских приемов позволяют предположить, что это особый авторский сборник сочинений Аввакума, в котором он сам дополнил и развил уже ранее созданные им произведения. Характерной чертой текстов Прянишниковского сборника является их полная слитность в рукописи: между ними иногда невозможно провести границу, они производят впечатление переписанных вместе черновых бумаг. Среди сочинений Аввакума в таком же нерасчлененном виде находятся выписки из сочинений Лазаря о кресте.36 Протограф Прянишниковского сборника не предназначался, по-видимому, для распространения. Он представлял собой своеобразный писательский архив с набросками, недоконченными текстами, отдельными пришедшими в голову фразами. Этот особый «архивный» характер сборника объясняет, почему самый ранний текст Жития находился среди сочинений Аввакума последних лет.
Прянишниковский сборник — рукопись волжского происхождения. Он был переписан в начале XIX в. на Керженце.37 Известно, каким почитанием окружали там сочинения Аввакума. В одном из скитов — в Онуфриевом — письма Аввакума переплетали в бархат и читали во время богослужения. Вот свидетельство очевидца, противника последователей Аввакума: «...и бархатом облагают их и поставляют у святых икон; а инии и с собою носят их, и мнят теми писмами избавлятися от напастей; инии же и ладаном натирают те писма».38 Большинство сборников с текстами Аввакума обязано своим происхождением Поморью и Выговской обители. Там были созданы определенные циклы сочинений Аввакума, предназначенные для чтения старообрядцев, а деятельность книгописной мастерской на Выге способствовала распространению этих сборников по всему русскому Северу. Керженских сборников сочинений Аввакума мало, зато каждый из них таит редкие тексты Аввакума: на Керженце составлялся сборник Ярославского краеведческого музея № 965 (15 106) (с текстом Б2 Жития и редкими письмами Аввакума39); по-видимому, с волжским керженским протографом связана известная рукопись ГПБ O.XVII.37,40 содержащая нигде не повторяющиеся
- 132 -
списки сочинений Аввакума, в том числе фрагмент послания о Никоне, включенный в первоначальную редакцию; уникальные тексты посланий имеются в связанной с Керженцем рукописи ГБЛ, Музейное собрание, № 9603.41 Эти послания приносили с собой на Керженец ученики и духовные дети Аввакума: известно, как часто бывал там «игумен Сергий» (любимый ученик Аввакума Симеон Крашенинников). Но судьба «архивного» авторского сборника Аввакума была, по-видимому, особой, ведь Аввакум записывал туда свои сочинения незадолго перед смертью: тексты Прянишниковского сборника сообщают уже о смерти Никона (1681 г.).
В связи с вопросом о том, как могла сохраниться и попасть на Керженец эта рукопись, следует вспомнить о жене казненного вместе с Аввакумом священника Лазаря — Домнице. Как установил В. И. Малышев,42 она имела в Пустозерске свой дом, где пустозерские узники еще до казней 1670 г. могли видеться, получать письма, переписывать свои сочинения. После смертной казни пустозерских узников в 1682 г. Домница покидает Пустозерск, и через некоторое время имя ее встречается среди имен поволжских деятелей.43 Домница и могла сохранить уникальную рукопись, донесшую до нас первоначальную редакцию Жития.
Рассмотрев эту редакцию Жития, естественно поставить вопрос, каковы же были истоки автобиографического повествования Аввакума? Принято считать, что Аввакум сознавал необычность самого факта своего автобиографического рассказа, и поэтому вынужден был просить «прощения» у своих читателей: «...про житие-то мне и ненадобно говорить».44 Между тем из контекста явствует, что эти слова относятся не столько к автобиографической теме Жития в целом, сколько к его рассказам о «чудесах»: «...иное было, кажется, про житие-то мне и не надобно говорить (с несомненным смысловым ударением на слове „иное“ — Н. Д.), да прочтох Деяния апостольская и Послания Павлова, — апостоли о себе возвещали же, е[г]да что бог соделает в них...» (РИБ, стб. 67; ср.: Пр. 342).
Ссылка на апостолов, возвещающих о себе, является до известной степени литературным трафаретом эпохи, который применялся в тех случаях, когда речь заходила о примерах из собственной жизни того или иного автора, во избежание возможных упреков в писательской нескромности. Так, например, этот же аргумент мы находим в письме 1672 г. низложенного патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова
- 133 -
монастыря: «Не свое, но апостольское слово понуди мя злострадание мое зде написати... якож и инде той же апостол крепце похвалюсь о немощех моих».45
Уже в 1956 г. С. А. Зеньковский установил, что автобиографическая тема в древней русской литературе имела свою традицию, свои корни и литературную почву. Принципиально важным является его вывод о допустимости автобиографического повествования в житийном жанре и о существовании особых житий-автобиографий до Аввакума и Епифания: жития Мартирия Зеленецкого (конец XVI — начало XVII в.), Елеазара Анзерского (50-е годы XVII в.).46
Наблюдения Зеньковского над развитием автобиографического повествования в житийной литературе можно дополнить. Значительную роль в развитии автобиографической традиции играли рассказы о «чудесах» того или иного святого, которые служили обязательным дополнением к его житию. Часто в житиях XVII в., особенно в севернорусских, эти рассказы велись от 1-го лица и помимо повествования о происшествии — «чуде» касались различных обстоятельств жизни героя (таковы, например, рассказы о «чудесах» Иоанна и Логгина Яренгских, Варлаама Керетского47 и других). Эти рассказы, по существу, внелитературного происхождения, но они прочно соединились с житийным повествованием и имели большое значение для развития уже собственно литературного рассказа героя о самом себе. Именно таково литературное происхождение пространных рассказов от 1-го лица Соломонии «бесноватой» и Саввы Грудцына об их «видениях». В древнейшей житийной традиции это явление представлено, например, «автобиографическим» рассказом Марии Египетской (в ее житии);48 форму повествования от 1-го лица имело популярное у старообрядцев Житие Ануфрия Великого; А. Н. Робинсон указал проложные автобиографические жития Елисея и Евстафия (память 27 февраля).49
На «Деяния апостолов» и апостольские послания как на форму, которая повлияла на возникновение идеи Жития, обратила внимание В. П. Адрианова-Перетц.50 На связь Жития
- 134 -
с общими тенденциями литературного процесса XVII в. указывали Д. С. Лихачев, В. Е. Гусев и В. В. Кожинов.51 С точки зрения Д. С. Лихачева своеобразный автобиографизм свойствен многим произведениям XVII в.: отдельным повестям о «Смуте» (в первую очередь «Новой повести»), запискам П. Шереметева, письмам и посланиям частных лиц. Даже произведения, написанные не о себе, несут печать того же автобиографизма, отражают чувства автора, его жалобы, недовольство («Служба кабаку», «Азбука о голом и небогатом человеке», «Послание дворительное недругу», «Стих о жизни патриарших певчих»). Автобиографизм произведений XVII в. находится в тесной связи с появлением в литературе той эпохи простого, обычного, «неисторического героя», с осознанием значения человеческой личности.52 А. Н. Робинсон отметил, что возникновение автобиографического повествования было вызвано специфическими потребностями старообрядческого движения: «Движение раскола... нуждалось в своих „святых“».53
Таким образом, автобиографическое повествование Жития возникает на основе сложного переплетения различных литературных явлений, на стыке традиций и живого процесса создания новых литературных форм.
Каковы элементы автобиографического повествования в творчестве Аввакума до Жития?
Обычно в качестве основных подготовительных этапов автобиографического повествования в Житии Аввакума упоминаются его устные беседы с друзьями по заключению, его письма и челобитные, из которых в этом плане анализируется лишь «первая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу (1664 г.).54
Действительно, эпистолярное творчество Аввакума сыграло очень большую роль в развитии его автобиографического повествования. Уже его первое письмо, дошедшее до нас (письмо Ивану Неронову от 14 сентября 1653 г.), по существу является подробным автобиографическим рассказом «духовному отцу» о первом аресте Аввакума. Однако письмо Неронову, как и другие подобные письма Аввакума своим единомышленникам, — это частная переписка. От частного письма до общественного акта, каким является создание Жития, еще далеко.
Бесспорно, очень существенным и, по-видимому, начальным звеном в возникновении самой идеи автобиографического повествования была «первая» челобитная Аввакума царю Алексею
- 135 -
Михайловичу (1664 г.).55 Челобитная написана человеком, четко осознавшим свое место в развернувшейся церковной борьбе («А душа моя прияти ево новых законов беззаконных не хощет... мерзок он пред богом, Никон» — РИБ, стб. 728). Своеобразие этой челобитной, требующей от царя отложить Никоновы «затейки дурные» (РИБ, стб. 729), заключается в том, что Аввакум включил в несомненно публицистический текст автобиографический материал — перечень «бед» и «напастей», которые пришлось перенести ему в Нижегородском уезде, Юрьевце-Повольском, в Москве и Сибири. Но значение автобиографических эпизодов «первой» челобитной не только в том, что это первый письменный опыт его автобиографии. Важнее другое: челобитная показывает, как именно происходило у Аввакума становление идеи общественной значимости автобиографической темы.
Возможно, что непосредственным поводом к автобиографическим фрагментам челобитной послужило чисто практическое требование: челобитная Аввакума кончается просьбой о личном свидании с царем («Свет-государь! Пред человеки не могу тебе ничтож проговорити, но желаю наедине светлоносное лице твое зрети и священнолепных уст твоих глагол некий слышати мне на ползу, как мне жити» — РИБ, стб. 730). Стремление к личному свиданию с царем, к личному убеждению Алексея Михайловича в «еретичестве» никоновских реформ вполне соответствовало настроениям Аввакума тех лет, да и много позже он не оставлял мысли о личном воздействии на царя (ср. его «пятую» челобитную из Пустозерска в 1669 г.: «Аще правдою спросиши, и мы скажем ти о том ясно с очей на очи и усты ко устом возвестим ти велегласно...» — РИБ, стб. 759).56 Аввакуму нужно было напомнить царю о своих мучениях, о притеснениях от Никона, заинтересовать царя своей личностью, своими мыслями. Именно так поступил, например, в свое время Афанасий Филиппович, добиваясь в 1638 г. аудиенции у русского правительства: в форме послания Михаилу Федоровичу он описал историю своего путешествия в Москву, и «после этого послания царю Филипповича приветливо и гостеприимно приняли в Посольской избе».57
Однако для анализа истоков идей автобиографического повествования важна не только эта внешняя, рассчитанная на адресата мотивировка. Аввакум выступает в челобитной как защитник «церкви божия» и государственных интересов. Он не
- 136 -
жалуется царю («не челобитьем тебе, государю, ...глаголю»), но «возвещает» ему, «како строится» в его «державе», «возвещает» о злоупотреблениях воеводы Пашкова, о тяготах «государевых служивых людей». Личная судьба, судьба семьи выступают в сознании Аввакума как проявление общих процессов, происходящих в государстве. Это являлось для Аввакума внутренним оправданием необходимости рассказа о самом себе, превращало автобиографическую личную тему в факт общественного значения. Публицистический характер обращения Аввакума к царю поддерживался приложенным к челобитной перечнем злоупотреблений даурского воеводы Афанасия Пашкова, примеров его антигосударственной деятельности, от которой «государевой казне напрасная проторь» (РИБ, стб. 702), а «государевым служивым людям» — «мука» и казни. Важно отметить и другое: в общей композиции текста, обращенного к царю, где челобитная и так называемая «записка» об Афанасии Пашкове составляли единое целое (в автографе), перечень «злодейств» Афанасия Пашкова дополнял и структурно уравновешивал рассказ о «бедах» Аввакума и мытарствах его семьи, придавая тем самым повествованию о личной судьбе Аввакума значение и силу бесспорного аргумента.
Итак, «первая» челобитная — очень важное звено в развитии идеи автобиографического повествования, но не единственное. Из поля зрения исследователей выпал цикл особых автобиографических «записок» Аввакума, хронологически предшествующих Житию и частично использованных в нем: об «увещеваниях» Аввакума в Чудовом монастыре в 1667 г., о казни в Москве в том же году попа Лазаря, инока Епифания, дьяка Стефана, о казни в Пустозерске в 1670 г. Лазаря, Федора, Епифания и об исцелениях казненных (текст почти идентичен Житию), о том как постились пустозерские узники в 1671 г. Рассказ о «жертве никонианской» в составе Дружининского Пустозерского сборника — тоже по существу автобиографическая записка, воспроизводящая структуру патерикового рассказа о борьбе с бесами (в том же Пустозерском сборнике, т. е. рядом с Житием, находится и «записка о посте»).58
«Записки» Аввакума — это тип повествования, возникший в силу тяготения старообрядческой литературы к документальности. Они писались Аввакумом вскоре после важнейших событий его жизни, задолго до Жития (первые автобиографические «записки» Аввакума о событиях 1667 г. были использованы уже иноком Авраамием в «Христианоопасном щите веры», составленном в конце 1669 г.), включались иногда в его послания, даже челобитные. Аввакум осознавал эти «записки» как особый жанр и не вводил их впоследствии в текст Жития, так как описание событий своей жизни в нем он подчинил принципам не мемуарного, а сюжетного повествования. Исключение составляет
- 137 -
первоначальная редакция, рассмотренная выше; здесь замысел сюжетного контура Жития у Аввакума только намечался, и записки были включены в ее текст.
«Записки» Аввакума о казнях и «увещеваниях» по структуре напоминают ранний христианский мартирий, а по стилю — летописные фрагменты: сообщаются точные даты, называются имена, последовательно описываются сами события. Например: «...июля в 5 день привезли в ночи от Николы с Угреши, и приезжали 3 архимарита 2-ж уговаривать. И во 8 день пригезждал (так!) в ночи Дементий Башмаков уговаривати же» (РИБ, стб. 703), или: «179-го году, в великий пост, протопоп Аввакум да поп Лазарь пищи не приимали...» (РИБ, стб. 719).
Тот же тип изложения события встречаем в «записке» очевидца пустозерской казни, частично использовавшего текст «записки» Аввакума: «178-го году, апреля в 14 день, на Фомины недели в четверк, в Пустозерском остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем...» (РИБ, стб. 713). Цель этих «записок» — документально свидетельствовать о происшедших событиях, о жестокости «никониан» и мучениях приверженцев «старой веры». Отсюда точность, натурализм описаний («Привели в тюрьму, и я, протопоп, щупал и гладил во рте, и не болит, и ныне гладко, и струпу не было» — РИБ, стб. 715). Строгую документальность стиля обнаруживаем и в повествовании Жития о казнях, где эти отрывки выполняют ту же функцию свидетельства очевидца (см.: РИБ, стб. 63—64).
Документальность автобиографических «записок» Аввакума находит многочисленные соответствия в старообрядческой литературе — «записках», челобитных, «прениях». Самая яркая параллель к аввакумовским текстам — «Вопрос и ответ старца Авраамия» (1670 г.), где спор с властями («прение») обрамлен автобиографическим повествованием о заключении Авраамия под стражу и учиненных ему допросах.59
Автобиографизм этой части старообрядческой литературы преследовал не только эмоциональную цель — вызвать сочувствие,60 но и историографическую: автор был очевидцем событий, мог точно зафиксировать происшедшее. Документальность автобиографических «записок» Аввакума и других деятелей старообрядчества — проявление своеобразного историзма этой литературы, и в стилистическом строе этих сочинений явно выступают черты летописного способа изложения. Историзм, свойственный автобиографическому повествованию, в какой-то мере проявляется и в формулировке Епифания, предпосланной Житию
- 138 -
Аввакума: «...да не забвению предано будет дело божие...» (РИБ, стб. 1).61
Автобиографические «записки» Аввакума разнообразны по типам повествования. Одна часть их тяготеет к строго документальному изложению, отмеченному выше. Среди «записок» этого типа должна быть выделена записка о том, как постились пустозерские узники в 1671 г. Специфическая тема «записки» развивается в подробное описание, в скрупулезный анализ состояния и поведения героя-автора: «В четверток же пятыя недели поста начал трубу закрывать и упал на землю. Полежав, очюхнулся, встать не могу, а правило говорить время. Помыслив, воздохня, отмерил три лошки кваса и пять ложек воды, соединя вместо, выхлебал...» (РИБ, стб. 721—722). Описываются мельчайшие детали быта; в сознании человека, мир которого замкнут тесными границами земляной тюрьмы, они вырастают в события почти исторического значения.
Другая часть «записок» Аввакума — «записка» о «первой казни» и «записка» о «последних увещеваниях» Аввакума в Чудовом монастыре свободна от суровой фактографичности документа и напоминает динамичные рассказы Жития. Причиной изменения типа автобиографического повествования является не эволюция стиля, как можно было бы думать, а использование самой стихии устной речи героев в качестве сюжетного материала: «Старец мне говорил: острота, острота телесного ума, да лихо упрямство! А се не умеет науки!» (РИБ, стб. 704); «И ему стыдно стало, и против тово всквозь зубов молвил: „Нам-де с тобою не сообшно!“» (РИБ, стб. 706).
Таким образом, «записки» Аввакума интересны как существенный этап в формировании самой идеи автобиографии. По ним также можно судить о различных типах автобиографического повествования у Аввакума (один непосредственно связан со стилем документа, второй ориентируется на живую устную речь).
Автобиографическое повествование Аввакума связано и с другой линией его «самовыражения» — кропотливым психологическим самоанализом. В этом отношении очень важным сочинением Аввакума, к тому же хронологически непосредственно предшествующим окончательному оформлению Жития, является
- 139 -
его послание «братии на всем лице земном». Послание датируется началом 1670 г.62 Это одно из первых «открытых» посланий Аввакума, обращенных к широкой аудитории единомышленников. В нем нет рассказов Аввакума о событиях из своей жизни, встречаются только отдельные бытовые детали, припоминания (например, Аввакум вспоминает о голубях: «Я их смолода держал, поповичь я, голубятник был» — РИБ, стб. 775, и т. д.). Но тем не менее послание это непосредственно связано с развитием идеи автобиографического повествования: большое место в нем уделено изображению личности Аввакума. Аввакум здесь, пользуясь его выражением, «обнажается душой» («А еще во мне такой нрав есть: как меня кто величает и блажит, так я тово и люблю; а как меня кто обезчестил словом каким, так и любить ево не захотел» — РИБ, стб. 777, и т. д.).
Если в принципе можно проследить формирование у Аввакума идеи автобиографического повествования, то сложнее обстоит дело с изучением художественной формы. «Первая» челобитная лишь сюжетом отдельных эпизодов напоминает Житие. Изложение ее суховато, конспективно.63
Иначе описывал Аввакум свое многотрудное бытие в письмах к единомышленникам — Ивану Неронову (1653 г.), иноку Авраамию (1666 г.), Анастасии Марковне (1666 г.). Здесь повествование порой носит динамичный, экспрессивный характер, почти адекватный Житию: «У Николы на Угреше сежю в темной полате, весь обран и пояс снят со всяцем утвержением, и блюстители пред дверьми и внутрь полаты — полуголова со стрельцами. Иногда есть дают хлеб, а иногда и щи. Дети бедные к монастырю приезжают, а получить меня не могут; всяко крепко от страха, насилу и домой уедут».64
Адресат Аввакума как будто определял тон, стиль и саму структуру авторского повествования. Нельзя сказать, что в письмах и посланиях Аввакума выработался именно тот художественный стиль, который он впоследствии использует в Житии. По самому типу художественного отражения действительности Житие отличается от эпистолярных произведений Аввакума. По-видимому, решающее воздействие на создание особой манеры автобиографического повествования в Житии Аввакума оказал не столько письменный опыт, сколько его собственные устные рассказы. Но письма и послания Аввакума как раз и представляют интерес в этом плане частичным отражением его устной речи, отдельными элементами сказовой манеры, углубленным психоанализом, необычайной гибкостью формы. Именно эти приемы Аввакум использует впоследствии в автобиографическом повествовании Жития.
- 140 -
Подведем итог наблюдениям. В авторской истории Жития было несколько этапов:
1) автобиографическое повествование в письмах, посланиях, «записках» (1664—1669);
2) написание первоначальной редакции Жития, протографа Прянишниковского списка (1669 — начало 1672 г.);
3) создание качественно иного типа повествования Жития, где преобладают эпизоды-новеллы, — текста редакции Б (первая половина 1672 г.);
4) появление стилистических вариантов текста — Б1 и Б2;
5) написание редакции А Жития — автографа Дружининского сборника (середина 1673 г.);
6) создание новой редакции Жития — В — автографа в сборнике Заволоко (конец 1674 — начало 1675 гг.).
Выводы изучения творческой истории Жития отражены на схеме.
Схема взаимоотношения Жития.
- 141 -
Глава IV.
СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ ЖИТИЯ.
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СВОЕОБРАЗИЯ ПАМЯТНИКАС проблемой существования различных авторских редакций Жития тесно связан вопрос о сюжете и композиции памятника.1 Этот вопрос, казалось бы, ключевой для изучения художественной структуры повествовательного произведения, наименее разработан, он не был предметом специального анализа и лишь попутно рассматривался в работах, посвященных Житию.
Так, в статье В. В. Виноградова, остающейся до сих пор одним из лучших исследований художественной системы Жития,2 его композиция анализировалась лишь в плане изучения отдельных авторских приемов, их особых идейно-стилистических функций. Виноградов исходил в своем анализе из следующих представлений о стилистических и композиционных принципах Жития: «„Житие“ построено в форме речевой, бесхитростной импровизации, „беседы“, „вяканья“... основной тон, в котором ведет повесть о своем житии прот[опоп] Аввакум, — глубоко личный тон простодушно-доверчивого рассказчика, у которого рой воспоминаний мчится в стремительном потоке словесных ассоциаций и создает лирические отступления и беспорядочно-взволнованное сцепление композиционных частей».3
Эта мысль о произвольности композиции Жития поддерживается наличием разных авторских редакций памятника. Так, В. Е. Гусев писал в 1960 г.: «Рукопись, именуемая во всех исследованиях и учебных пособиях Житием, в сущности не является единым по жанру произведением, а представляет собой сборник разнородных, хотя и более или менее связанных друг с другом произведений, состав и композиция которого в различных редакциях и списках менялись».4 Сам В. В. Виноградов в последние годы пришел к убеждению, что в Житии Аввакума вообще отсутствует художественное единство и нет «целостного
- 142 -
образа героя», повествование представляется ему неоправданным соединением различных структур: «Динамически сменяющиеся кадры бытового сказа прерываются унифицирующей проповедью».5 В специальном исследовании Жития А. Н. Робинсон рассматривает композицию произведения как «эпизодическую» (т. е. состоящую из отдельных эпизодов), основанную на житийном принципе «дидактической иллюстративности», и в соответствии с этим анализирует лишь отдельные эпизоды Жития (или группы их) и принцип их соединения. При таком подходе Житие Аввакума превращается в сборник «повестей», которые объединяет лишь тематическая общность, иногда место действия, хронология или (что отмечается редко) общность содержания.6 Этим представлениям Робинсона о композиции Жития близки взгляды Б. Илека.7 Мысль о Житии как бессюжетном произведении высказана и в последней работе Робинсона, где художественная форма Жития определяется как тип повествования, тяготеющий к мемуарной литературе.8 О свободном расположении эпизодов в Житии пишет и Д. С. Лихачев.9
Однако в этой кажущейся свободе расположения эпизодов есть художественная необходимость. Житие Аввакума — произведение сложной художественной структуры: повествование о собственной жизни здесь тесно переплетено с публицистическими и лирическими отступлениями. Но в Житии существует не только фабула — событийный ряд эпизодов автобиографии, но и единый, осознанный автором художественный сюжет. Обратимся к тексту Жития.10
В соответствии с канонами житийной литературы Житие Аввакума начинается с вступления, где словами инока Епифания, сподвижника и духовного отца Аввакума, формулируется основная задача произведения — «...да не забвению предано будет дело божие»11 — и излагается авторское «исповедание веры», полемическое credo Аввакума, сразу обращающее читателя
- 143 -
к основным проблемам религиозной борьбы эпохи, во имя которых и было предпринято написание Жития.12
Собственно повествовательная часть Жития — жизнеописание — предваряется свойственной агиографическому произведению экспозицией, где обычно сообщаются краткие сведения о герое: о его происхождении, сфере деятельности, иногда намечаются наиболее существенные черты его облика.13 Краткая экспозиция Жития Аввакума очень точна и содержательна. Аввакум не только сообщает биографические данные («Рождение же мое в Нижегороцких пределах, за Кудмою рекою, в селе Григорове... Рукоположен во дьяконы двадесяти лет з годом и по дву летех в попы поставлен... и всего тридесят лет, как имею священъство» — 143),14 очерчивает круг самых близких лиц (отец, мать, жена, «дети духовные»), но и сразу же вводит читателя в мир своих чувств и размышлений. Аввакум вспоминает два эпизода, сыгравших важную роль в формировании его личности: Аввакум-мальчик плачет от страха, впервые увидев и осознав смерть живого существа, и это приводит его к идее бога; Аввакум — молодой священник, охваченный во время исповеди греховным помыслом, скорбит о слабости своего духа, рыдает «горце», молясь пред образом, и решает отказаться от сана духовного отца («...да же отлучит мя бог от детей духовных: понеже бремя тяшко, неудобь носимо» — 143). Облик человека, остро чувствующего, глубоко сознающего свой долг, создается в экспозиции Жития с помощью этих двух небольших сцен, без описательных характеристик, как обычно было принято в житийном каноне.
Таким образом, экспозиция к Житию Аввакума не только сообщает необходимые фактические данные, поясняя исходную ситуацию, но как бы предваряет и самый тип повествования Аввакума: точность и конкретность его описаний (изображаются обстоятельства индивидуальной судьбы человека, которую нельзя спутать ни с чьей другой), склонность к анализу душевных переживаний, использование драматических коллизий как основного средства выявления человеческого характера.15
- 144 -
Один из последних эпизодов экспозиции Жития — горестный плач Аввакума и его раздумье над собственной судьбой — завершается сценой «видения»: Аввакуму чудится корабль, «украшенный многими пестротами» и предназначенный ему для жизненного «плавания». Корабль — старинный христианский символ жизни, часто использовавшийся Аввакумом;16 здесь, в Житии, он служит «сквозным образом», выступая в данном тексте в роли своеобразной художественной завязки дальнейшего сюжетного повествования о скитаниях Аввакума и бедах. Видение корабля, именно так украшенного («...не златом украшен, но разными пестротами — красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо...» — 143—144), имеет сокровенный смысл: это то разнообразие жизни, та пестрота, которую Аввакум встретит в мире, — «пестрота» добра и зла, красоты и грязи, высоких помыслов и слабостей плоти, через которые суждено пройти Аввакуму. Очень важно, что корабль этот прекрасен в восприятии Аввакума («...ум человечь не вмести красоты его и доброты...» — 144). Это признание «красоты» корабля, иначе говоря — жизни, уготованной Аввакуму, — выражение жизнелюбия, гуманистического пафоса сознания Аввакума, в то время уже пустозерского узника, оглядывающегося на прожитую жизнь. С этим признанием «красоты» жизни связаны и другие проявления чувств Аввакума — нежность по отношению к «курочке», кормившей его семью, восхищение сибирской природой, горький смех во время трагических происшествий.
Завязка Жития затянута и развивается исподволь. Начавшись со сцены «видения» корабля, завязка раскрывает символику «пестроты» Аввакумовой жизни на конкретных фактах: Аввакум описывает свои «беды адавы» от «начальников» и заступничество за него небесной силы. Символический план переключается здесь в план жизни действительной. В борении начинается путь героя Жития. Описание «бед» Аввакума от «начальных» людей, подстрекаемых дьяволом,17 сразу же, без каких-либо композиционных отступлений и перебоев, переходит в изображение конфликта с Никоном, постоянным отныне антагонистом и мучителем Аввакума. Никон появляется в Житии в ряду других сил зла, противостоящих Аввакуму, и описание его действий воспринимается как некое закономерное продолжение бесовских козней. Поступки Никона отмечены лукавством,
- 145 -
лицемерием и злобой: Никон лукавит, «яко лис», он «змий» («А се и яд отрыгнул») и мучитель (Павла Коломенского «огнем жжег», Даниила, «муча много, сослал в Астрахань», где его «уморили», Ивана Неронова «сослал в дальние ссылки» и т. д.).
В этом описании конфликта Никона с кружком московских протопопов появляется и одно из первых в Житии кажущееся бессвязным припоминание, авторское отступление, как будто бы случайно соединенное с основным ходом изложения событий: «В пост великой прислал память х Казанъской к Неронову Иванну. А мне отец духовной был; я у него все и жил в церкве: егда куды отлучится, ино я ведаю церковь. И к месту, говорили, на дворец к Спасу, на Силино покойника место; да бог не изволил. А се и у меня радение худо было. Любо мне, у Казанъские-тое держалъся, чел народу книги. Много людей приходило. В памети Никон пишет...» (146). «Припоминание» Аввакума о своей жизни в Москве воспринимается здесь как вставка в сообщение о присылке Никоном «памяти», явно разрывающая событийный ряд.18 Это авторское отступление от основного повествования кажется результатом «бесхитростной импровизации», вызванной «словесной ассоциацией» (имя Ивана Неронова и упоминание Казанской церкви как бы служат толчком для возникновения «роя воспоминаний» Аввакума). На самом деле словесная ассоциация является лишь формальным поводом к соединению эпизодов. Вставка эта имеет определенное публицистическое и художественное задание. В основной сюжет, посвященный борьбе Аввакума с Никоном и его реформой, вводится фигура главного героя Жития, достойного противника московского патриарха: он человек, хорошо известный при дворе и популярный среди московского населения, «книгочий», священник, ведающий временами всей Казанской церковью, преемник Ивана Неронова, он по собственной воле не хотел служить во дворце, предпочитая службе в придворной церкви чтение книг народу.
Таким образом, это авторское отступление — не результат «бессвязного вяканья» Аввакума, не текст «вне сюжета», а точно прилаженный к основному повествованию эпизод, авторская «расстановка сил» в художественном сюжете произведения, существенная часть фактической завязки остро конфликтного повествования. Рассказом о «видении» Ивану Неронову, главе мятежных протопопов («...ему от образа глас бысть во время молитвы: „Время приспе страдания“...» — 146), заканчивается растянутая завязка Жития: силы расставлены, конфликт определен, действие начинается.
В центральной части Жития Аввакума сюжет развивается за счет чисто внешнего движения — арест Аввакума, ссылка его,
- 146 -
путешествие по Сибири, скитания, преследования церковных и земских властей, заключения в монастырских тюрьмах. Перед нами своеобразное эпическое полотно, христианская «Одиссея». И это развитие сюжета в Житии напоминает такое же эпическое движение сюжета в чисто беллетристических произведениях: в «Александрии», в «Повести о Савве Грудцыне» и до некоторой степени в «Повести о Горе-Злочастии» (хотя в этом произведении сюжетные перипетии даны в максимальном обобщении), — всюду изображается необычная судьба человека в ее движении.
Но сюжет в Житии отражает не только внешний ряд событий, из которых складывается жизненный путь Аввакума, он организован и в связи с общей идеей произведения.
Если проанализировать сочленение эпизодов и в начале, и в центральной части Жития, то обнаружится сложное и все время повторяющееся пересечение линий «добра» и «зла».
В начале Жития это сочленение дидактически прямолинейно, рассудочно и явно ощутимо. Описано преследование Аввакума одним из «начальников» и рядом «чудо»: пищаль, нацеленная на Аввакума, «не стрелила» (144). Боярин Шереметев велел бросить Аввакума в Волгу, «а после, — пишет Аввакум, — учинились добры до меня» (144). «Ин началник», Евфимей Стефанович, «рассвирепев», «приступом» пытается взять дом Аввакума, а «наутро», смирившись, становится его «духовным сыном» (145) и т. д.
В центральной части Жития соединение линий «добра» и «зла» более тонкое и разнообразное. Здесь сопоставляются и контрастируют события с разными субъектами действия, противопоставляются различные персонажи в своем отношении к Аввакуму. Так, например, после известного рассказа о долготерпении Марковны, после эпизода, где достаточно сильно выражена мера страданий семьи Аввакума, следует рассказ о «чудесной» «курочке», поддерживавшей жизнь детей и домочадцев Аввакума. Рассказы о «злодее» Пашкове сопоставляются с воспоминаниями о «кормилице» — боярыне Пашковой и заступнике Еремее, сыне Пашкова. В этом почти равномерном чередовании добра и зла раскрывается христианская идея Аввакума — неизбежность воздаяния за терпение, беду, страдание. Можно утверждать, что эта христианская идея реализована в самой композиции произведения. Несколько таких перемежающихся эпизодов в начале Жития сопровождается рефреном: «Так-то бог строит своя люди!» (144). В конце Жития, в описании казней пустозерских узников, эта мысль звучит уже как вывод: «Дивна дела господня и неизреченныю судбы владычни! И казнить попускает, и паки целит и милует!» (170).19
- 147 -
Идея неизреченности, неисповедимости «судеб божиих» — традиционная тема христианской литературы. Однако своеобразие взгляда Аввакума на мир — в утверждении активной позиции человека. Соответственно с этим убеждением Аввакум и строит повествование о своей жизни. «Центральное место, — справедливо пишет А. Н. Робинсон, — он отводит описанию своей борьбы с реформами Никона, сибирской ссылке и продолжению борьбы после нее. Периоды сравнительно спокойного течения жизни или сцены быта, лишенные борьбы и поучительности, мало интересуют Аввакума. Он только упоминает о таких периодах, но не развивает их. Например: „И привезли на Мезень. Полтора года держав, паки одново к Москве възяли“».20
Этот принцип отбора фактов тесно связан и с отчетливо намечающимися в структуре произведения двумя типами повествования о жизни Аввакума.
Один тип представляет собой своеобразную событийную «сетку», тяготеющую к летописному способу описания событий, и обладает несомненными признаками документально-летописного стиля. Повествование в рамках этого ряда — краткое, исторически точное, датированное изложение событий, напоминающее иногда «погодную запись» («Посем привезли в Брацкой острог... И сидел до Филиппова поста...» — 150; «На весну паки поехали впредь» — 151; «Держали меня у Николы в студеной полатке семнатцеть недель» — 165). Эта линия повествования развивается за счет чисто внешних обстоятельств жизни Аввакума, она отражает строго фактическое течение его бытия («Таже послали меня в Сибирь...» — 147; «Посем указ пришел: велено меня ис Тобольска на Лену вести...» — 148; «Потом доехали до Иръгеня озера...» — 151, и т. п.).
Другой тип повествования — описание отдельных эпизодов из жизни Аввакума и его сподвижников, приобретающее иногда форму вполне законченной новеллы. Отбор Аввакумом этих эпизодов из своих воспоминаний, их художественное воссоздание и сочленение с основной тканью историко-биографического повествования представляет наибольший интерес для анализа авторского замысла Жития как художественного произведения. Рассказ Жития строится таким образом, что в центре повествования оказывается несколько узловых эпизодов-новелл, которые несут основную смысловую и художественную нагрузку, являясь не только относительно законченными повестями в составе Жития, но и существенными элементами идейно-художественной системы произведения, этапами в нравственном формировании личности героя. Именно их совокупность создает определенную, Аввакумову «концепцию действительности», выраженную в художественных образах.
Одна из первых новелл в основной части Жития — это рассказ об аресте Аввакума и его заключении в «полатке» Андроньева
- 148 -
монастыря. Робинсон, справедливо отметив, что Аввакума мало интересуют «периоды сравнительно спокойного течения жизни», в качестве примера указал на отсутствие в Житии описания мезенской ссылки Аввакума (о ней только упоминается). Действительно, само по себе «темничное сидение» как тема повествования мало интересовало Аввакума. В тексте Жития, как правило, скупо по содержанию и однообразно в стилистическом отношении упоминаются места заключений Аввакума: «И привезше к Москве, отвезли под начал в Пафнутьев монастырь» (164); «Таже, держав десеть недель в Пафнутьеве на чепи, взяли меня паки в Москву...» (165); «И подеръжав на патриархове дворе, повезли нас ночью на Угрешу к Николе в монастырь» (165), и т. д.21
Заключение в Андроньевом монастыре описано, однако, Аввакумом подробно не только потому, что оно было его первым заключением, но и потому, что этот эпизод играет важную роль в сюжете Жития — это первое испытание героя «темничным сидением». Обычно, анализируя эту сцену, исследователи Жития обращают внимание на взаимодействие элементов чудесного и бытового в сознании Аввакума: явление «не то ангела, не то человека», накормившего голодного протопопа.22 В предлагаемом осмыслении Жития как сюжетного произведения важно подчеркнуть другие стороны эпизода — значение этой сцены в общем развитии сюжета и художественное воссоздание Аввакумом состояния духа человека, только что вступившего на путь борьбы и впервые попавшего в темницу. Герой Аввакума растерян: «...во тме сидя, кланялся на чепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад» (147). Темнота в «полатке», ушедшей в землю, исключает возможность зрительного восприятия обстановки, узник связан с окружающим миром лишь осязанием и слухом: «Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох доволно». Шорохи темничных тварей и крик сверчков делают почти осязаемой мертвую тишину «полатки». Чувства героя обострены голодом и необычностью обстановки: «...и после вечерни ста предо мною, не вем — ангел, не вем — человек...» (147). Явление «доброхота», накормившего Аввакума, — это как бы практическая помощь «небесных сил» в укреплении его духа независимо от степени их непосредственного участия в данном эпизоде. Это та «чудесная», по мысли Аввакума, поддержка, на которую всегда может рассчитывать «правоверный», попавший в руки «никониан».23 Аввакум логически пытается доказать, что это был ангел, а не человек: «Двери не отворялись, а ево не стало! Дивно толко человек;
- 149 -
а что ж ангел? Ино нечему дивитца — везде ему не загорожено» (147). Этот знак одобрения деятельности Аввакума «свыше» придает ему новые силы: «наутро», когда архимандрит и иноки «журят» Аввакума («Что патриарху не покорисся?»), он снова готов к борьбе: «А я от писания ево браню да лаю» (147). Аввакум использует здесь чисто художественный эффект «звукового» контраста: полная тишина тюремного заключения внезапно сменяется «наутро» нестройным, яростным шумом бытия — слышны крики, брань, звон цепей («У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чеп торгают, и в глаза плюют» — 147).24
Таким образом, это описание пребывания Аввакума в Андроньевом монастыре, воссоздавая нравственный облик и состояние духа человека, только что вступившего на путь борьбы, одновременно самой логикой сюжета убеждает современника, единомышленника в «неодинокости» героя даже в одиночном заключении.
Доказательством правильности такого понимания смысла этого эпизода служит текст, непосредственно следующий за ним, пример такого же «чуда», «небесной» помощи другому герою, борьбы с Никоном — муромскому протопопу Логину: ему, брошенному «в полатку» нагим после расстрижения и побоев, «бог в ту нощ дал шубу новую да шапку» (147). Внутренний смысл эпизода «темничного сидения» в Андроньевом монастыре был раскрыт самим Аввакумом в одном из последних его сочинений — в «Беседе о кресте... к неподобным» (1679—1682 гг.), где автобиографический фрагмент о заключении, заметно переделанный из-за воспроизведения его по памяти, сопровождается выводом автора: «Всякого християнина, живущаго в вере Христове, Христос не покинет».25
Одним из важнейших эпизодов Жития, изображающих узловой момент в становлении характера и убеждений героя автобиографического повествования и оказавших влияние на
- 150 -
дальнейшее движение сюжета, является описание конфликта Аввакума с Афанасием Пашковым на Шаманском пороге. Эпизод избиения Аввакума кнутом — не просто яркая бытовая сцена, но и изображение тяжелого душевного кризиса, который пережил Аввакум в то время. Несправедливость наказания, собственное бессилие и отсутствие немедленного «божественного» вмешательства вызвали богоборческий бунт Аввакума («За что ты, сыне божий, попустил меня ему таково болно убить тому? Я веть за вдовы твои стал! Кто даст судию между мною и тобою?» —150). Однако христианское сознание Аввакума заставляет его смириться («...на такое безумие пришел! Увы мне!» — 150), и, выбрав путь библейского Иова, он пытается идти по нему до конца, ищет источник силы в себе самом. Экспрессивное, динамическое повествование, отражающее беспокойство духа героя («О, горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит...» — 149), сменяется описанием его кротости, обретенного им душевного покоя: «Сверху дождь и снег, а на мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, — нужно было гораздо... Грустко гораздо, да душе добро: не пеняю уж на бога вдругорят... Его же любит бог, того наказует...» (150).
Непосредственным продолжением этой сцены бунта Аввакума против бога и его глубокого раскаяния является описание заключения в Братском остроге («Посем привезли в Брацкой острог и в тюрму кинули, соломки дали... Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батошка не дадут, дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила» — 150).
Жизнь Аввакума «в студеной башне» Братского острога имела нечто общее с положением узника в Андроньевом монастыре: там его «кинули в темную полатку», тут — «в тюрму кинули». Но теперь Аввакум описывает совсем иное состояние духа заключенного человека: он сосредоточивается на изображении своего благостного, умиленного мировосприятия, установившегося после душевного кризиса. В этом эпизоде Жития несомненна идеализация положения «мученика». В описаниях Аввакума появляется четко ощущаемая «сентиментальность». Декларативно утверждает он тезис «велено терпеть» («Хотел на Пашкова кричать: „Прости!“ Да сила божия возбранила, — велено терпеть» — 150. На самом деле терпение в данной ситуации означает протест, бунт против Пашкова: Аввакум отказывается просить у него прощение).
Роль этой сцены как иллюстрации смирения героя определилась в творческом замысле Жития не сразу. В первоначальной редакции памятника, частично сохранившейся в Прянишниковском списке, заключение в Братском остроге, как уже отмечалось выше, было описано в тонах, несомненно, более соответствующих истинному положению страдающего человека: «...кинули больнова в студеную башню... ясти хочется... Я бы хотя
- 151 -
блюдо то полизал или помоев тех испил, — льют на землю, а мне не дадут. Всяко бродит на уме том».26 Такой же «реалистический» характер имеют подробности и следующего описания: «А запас мой весь ростащить велел и рухлишко все. А жена моя и дети засланы были в лес в пустое место, верст с дватцать» и т. д.27 Иная трактовка Аввакумом в этой редакции собственных чувств и мыслей во время заключения в Братском остроге по сравнению с редакцией А (и с Б, текст которой совпадает с А) обнаруживает очевидную «литературность» этого эпизода в последующих редакциях Жития, его художественное назначение в новой концепции автобиографического повествования Аввакума.28
Дальнейшее развитие сюжета в Житии также связано с эпизодом бунта и покаяния Аввакума. В рассказах о сибирской ссылке несколько уменьшилась доля «чудесного» (помощь Аввакуму и его семье часто приходит и из вполне земных источников — от боярыни Пашковой, от «станицы» русских людей на Байкале и др.), Аввакум акцентирует внимание на смирении автобиографического героя. Сравним две сцены «потопления» Аввакума — в Тунгуске (до кризиса на Шаманском пороге) и в Хилке (после покаяния Аввакума и заключения в Братском остроге). «...В болшой Тунгуске реке, — пишет Аввакум, — в воду загрузило бурею дощеник мой совсем... А я, на небо глядя, кричю: „Господи, спаси! Господи, помози!“ И божиею волею прибило к берегу нас» (149). Описывая, как он «на том же Хилке в третьее тонул», Аввакум тоже рассказывает о своем спасении: «Барку от берегу оторвало водою... да и понесло!.. Вода быстрая, переворачивает барку вверх боками и дном, а я на ней полъзаю, а сам кричю: „Владычице, помози! Упование, не утопи!“» (151). Однако похожая жизненная ситуация и одинаковый итог — спасение героя — вызывают в этом описании другие чувства у Аввакума. Рассказ «о потоплении» в Хилке заканчивается сентенцией, призывающей к терпению: «Да што петь делать, коли Христос и пречистая богородица изволили так?» (151). В полном соответствии с этим новым поворотом повествования возникает мысль Аввакума о «закопанных» в землю на
- 152 -
Мезени Марковне и детях, и Аввакум добавляет: «На том положено: ино мучитца... веры ради Христовы» (152).
«Чудесная» помощь Христа и богородицы в тяготах бытия возможна, но в основном следует рассчитывать на собственные силы — и в Житии появляются два рассказа об Анастасии Марковне, о долготерпенье, о силе человеческого духа, о необходимости борьбы до конца.
Первый рассказ об Анастасии Марковне включен в описание тяжелого пятинедельного перехода по льду Нерчи-реки. Основная часть эпизода — диалог Марковны и Аввакума. «Долъго ли муки сея, протопоп, будет?» — пеняет ему обессилевшая протопопица. Торжественно, как обещание, звучат слова Аввакума: «Марковна, до самыя до смерти». И тихим эхом вторит ему Анастасия Марковна: «Добро, Петровичь, ино еще побредем» (155). Значение этого эпизода в создании образа Марковны и самого Аввакума, героя Жития, общеизвестно (см. оценки М. Горького, А. Толстого).29 Этот эпизод — не просто «иллюстрация» сибирских скитаний Аввакума или стойкости духа, но и нравственный итог сибирской ссылки Аввакума: диалог происходит на обратном пути из Даурии.
Во втором рассказе об Анастасии Марковне — в диалоге Аввакума с ней после возвращения «в русские грады» и ее благословении протопопа на борьбу с «ересью никониянской» («Аз тя и з детми благословляю: деръзай проповедати слово божие по-прежнему...» — 160) — отражен важнейший момент окончательного, бескомпромиссного неприятия героем Жития «новой веры». Все дальнейшие эпизоды «московского бытия» Аввакума, его отрицание любых попыток примирения с церковной реформой и церковью имели своим истоком это бесповоротно принятое Аввакумом и его семьей решение.
Существенна роль этого эпизода и в художественном плане: он четко разделяет два разных этапа в борьбе Аввакума за веру и разрывает непрерывную событийную нить повествования о его судьбе. Благословение Анастасии Марковны — это благословение героя на подвиг. Лиризму и значительности момента соответствуют былинный склад речи «протопопицы» («Что, господине, опечалился еси?») и торжественный строй вопросов Аввакума, решающего свою судьбу («Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать?»). Эпизод этот служит началом рассказа о главном подвиге жизни Аввакума — его борьбе с государственной церковью и «властями».30
- 153 -
Дальнейшее повествование о непокорности Аввакума, о его скитаниях по тюрьмам, ссылках и лишениях и является таким рассказом. Как и ранее, Аввакум не стремится здесь к подробному описанию своих «темниц» и «страданий», и только один эпизод его последующей «темничной» жизни — заключение в Пафнутьевом монастыре — будет рассказан в Житии.
Это заключение — третье по счету заключение Аввакума, описанное им подробно. Сопоставление всех трех «темничных» эпизодов свидетельствует о сознательном отборе Аввакумом фактов своего бытия для художественного воссоздания нравственного и жизненного пути автобиографического героя.
Описание этого заключения Аввакумом заметно отличается от двух предыдущих. Аввакум уже не описывает здесь самой тюрьмы, а лишь мельком называет ее «темной полаткой»: тюремный быт стал привычен для героя Жития. Эта «обыкновенность» тюремной жизни нарочито подчеркнута ровным, бесстрастным повествованием о «прогулке» Аввакума: «...попросилъся я на велик день для празника отдохнуть, чтоб велел, дверей отворя, на пороге посидеть...» (166). Однако главное отличие — в незаметном вначале изменении облика автобиографического героя. Пребывание Аввакума в Пафнутьевом монастыре описывается в Житии как заключение испытанного и стойкого борца за «старую веру». Аввакум предстает перед читателями как «отец духовный» многих выдающихся деятелей старообрядчества — юродивого Федора, Луки Мезенского, инока Авраамия (в основное повествование вставлено несколько рассказов о них). Он при жизни окружен ореолом святости: «чудо» исцеления келаря Никодима в монастыре совершает некий муж «в светлых ризах» «в образе» Аввакума; не только «дети духовные», но и «никониане» спрашивают теперь у Аввакума совета, как им жить дальше. Аввакум специально отмечает свою все растущую популярность: «Людие же безстрашно и деръзновенно ко мне побрели, просяще благословения и молитвы от меня...» (166).
Эпизод заключения Аввакума в Пафнутьевом монастыре подготавливает «кульминационную» сцену Жития — сцену церковного собора 1667 г. Описание суда над Аввакумом и его монолог — это тот сюжетный узел произведения, где агитационная, открыто публицистическая идея Жития выражается с наибольшей силой. Основное содержание этой сцены — обличительная речь Аввакума.
Обратим внимание на то, что Аввакум, подробно повествуя о своих столкновениях с «никонианами», нигде не излагает своих речей или хотя бы отдельных доводов. Полемический материал только подразумевается, но не включается в художественную ткань Жития. Несмотря на агитационную установку произведения, Аввакум-проповедник как бы специально избегал в повествовании поучений и публицистических речей героев. Так, например, спор Аввакума с архимандритом и иноками
- 154 -
Андроньева монастыря в 1653 г. только упоминается. В подробно описанной сцене расстрижения Логина, муромского протопопа, совершенно исключено изложение его обличений (в тексте лишь кратко сообщается об этом: «Никона порицая»). Точно так же Аввакум лишь упоминает о спорах с властями в Пафнутьевом монастыре в 1666 г., о «стязании» в Крестовой палате в Москве и др. Таким образом, речь на соборе 1667 г. — единственный монолог Аввакума, героя Жития.
Сцена собора — героический эпизод в повествовании: Аввакум выступает здесь как обличитель, пророк («...бог отверз грешъные мое уста...» — 167); отдельные детали этого эпизода напоминают евангельскую сцену распятия Иисуса Христа.31 Аввакум один противостоит всему сонму врагов — русским церковным властям и вселенским патриархам («...велико антихристово войско собралося!» — 168), один противостоит убеждениям многих. «Что-де ты упрям? Вся-де наша палестина — и серби, и алъбанасы, и волохи, и римляне, и ляхи, — все-де тремя перъсты крестятся, один-де ты стоиш во своем упоръстве и крестисся пятью перъсты!» — укоряют его патриархи (167). Но герою Жития не страшны враги. Авторитету вселенских патриархов он противопоставляет многовековую традицию русского христианства, постановления русских соборов, авторитет русских святых. Церковные же власти ничтожны, это даже не «волки», а только «волъчонки» (168). Дистанция между духовной силой Аввакума и немощью его врагов так велика, что когда конфликт достигает необычайной остроты («...толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились» — 168), Аввакум останавливает их одним своим словом («...и я закричал: „Постой, — не бейте!“ Так оне все отскочили» — 168).
Аввакум не признает суда церковных властей и отказывает им в праве судить его, превращая сцену суда в фарс: «И я отшел ко дверям, да набок повалилъся: „Посидите вы, а я полежу“, — говорю им. Так оне смеются...» (168). Аввакум рассчитывает на то, что комическая ситуация сделает врага нестрашным, смех окончательно уничтожит его авторитет.
С героической сценой контрастирует сниженный, «обыденный» ее конец («Да и повели меня на чеп»), соответствующий «обыденному» началу сцены. («Еще вам побеседую о своей волоките»).
- 155 -
«Бытовая» рамка — это тоже художественное средство, подчеркивающее обычность происходящего для Аввакума как человека, много повидавшего на своем веку. В то же время этот сниженный конец героической сцены вызывает перелом в тоне повествования, в нем выражается эмоциональный спад в течении рассказа, возникает как бы нарочитая пауза в напряженном ритме Жития.
Жанр жития как особой формы повествования обычно содержал рассказ о смерти героя (святого) и заканчивался известиями о его посмертных чудесах. Аввакум писал собственное «житие» и закончил повествование описанием казней в Пустозерске 14 апреля 1670 г. Описание это резко отличается от предшествующего повествования отчетливо выраженной документальностью стиля: «Посем Лазаря священника взяли, и язык весь вырезали... Посем взяли соловецъкаго пустынника, инока-схимника Епифания старца, и язык вырезали весь же... Посем взяли дьякона Феодора; язык вырезали весь же...» (170). Аввакум даже не затрудняет себя здесь подбором слов, используя для описания казней одни и те же выражения. Перед нами суровая информация, имеющая, однако, художественную задачу: нарочитым повторением одинаковых синтаксических схем создать торжественный ритм повествования.
Сцена заключения узников в земляную тюрьму — финал Жития. Аввакум и его сподвижники согласно поют хвалу христианской церкви, они будут стоять до конца за свои убеждения, ибо их вера и их идеалы прекрасны: «Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая моя!.. зрак лица твоего паче солнечных лучь, и вся в красоте сияеш, яко день в силе своей» (170). Этим завершается последовательный рассказ Аввакума о своей жизни, сюжет произведения.
По-видимому, одним из самых трудных вопросов, которые стояли перед Аввакумом, писавшим собственное «житие», был вопрос о том, как кончить такое повествование. Аввакум жил еще 10 лет после написания Жития (1672—1682 гг.), следовательно, имел возможность продолжить рассказ, дополнить его описанием событий пустозерской жизни после 1670 г. Но Аввакум этого не сделал ни в одной из редакций памятника:32 для него сюжет произведения был исчерпан и завершен. И это лучше всего доказывает, что Житие Аввакума не было «мемуарами»,
- 156 -
что повествование его было обусловлено определенными художественными принципами.
После финальной сцены — пения хвалы церкви — Аввакум (в редакции А) кратко (одна-две фразы) сообщает о казнях на Мезени и в Москве: «Исаию сожгли... Авраамия сожгли и иных... многое множество погублено, их же число бог изочтет» (170—171), а затем, после этого своеобразного эпилога, следует особое, публицистическое окончание Жития: страстное обличение «никониан» за казни, перечень их ересей, проклятие им, Аввакумово исповедание веры, просьба, обращенная ко всем «правоверным» о прощении и о молитве за него. Этот финал, присущий только редакции А,33 связывает единым публицистическим замыслом начало и конец Жития. Если во вступлении Аввакум формулировал основные расхождения с «никонианами» в вопросах веры и обрядов, то здесь обличал их жестокость: «...огнем, да кнутом, да висилицею хотят веру утвердить!» (171); буквальный, не метафорический смысл его клятвы, заканчивающей вступление («Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю» — 143), полностью раскрывается именно в этих заключительных строчках Жития, повествующих о гибели единомышленников Аввакума.
Следующие далее «повести» о «бесноватых»34 выполняют, как показал Робинсон,35 функцию традиционной части всякого жития: они заменяют собой рассказы о чудесах святого и мотивируются Аввакумом особым «понуждением» старца Епифания и «раба Христова». Эти рассказы выключены из композиции Жития и находятся вне сюжета произведения. Порядок соединения их произвольный (действие из Лопатищ переносится в Пустозерск, затем в Москву, снова в Лопатищи, в Тобольск), каждый рассказ в отдельности является необязательной частью повествования, в каждой редакции появляются «свои», дополнительные рассказы. По отношению к ним вполне можно говорить о произвольности, свободе композиции — характеристика, распространяемая обычно на все Житие.
Таким образом, Житие Аввакума, как показывает анализ, — это не случайная цепь эпизодов, вспомнившихся автору, не просто «замечательные случаи из жизни рассказчика»,36 а художественное обобщение со свойственным ему строгим отбором фактов, о которых автор хочет поведать миру, и с соответствующим осмыслением их. В зависимости от значения того или иного факта в идейно-художественной системе Жития ему уделяется различное внимание, используется различный «масштаб» его изображения (краткое упоминание или законченная новелла).
- 157 -
С другой стороны, перипетии многотрудного Аввакумова жития, описанные иногда в форме вполне законченных новелл, отнюдь не всегда, как полагает А. Н. Робинсон, служат целям «дидактической иллюстративности», каждый раз выступая лишь «как иллюстрация к общей идее автобиографии в виде частного случая ее проявления».37 Художественные идеи и замысел Аввакума шире: отдельные эпизоды и описания в Житии — это и определенные коллизии в развитии сюжета произведения, этапы нравственного формирования личности героя Жития, существенные моменты его духовной жизни.
Художественную функцию в композиции Жития выполняют даже такие эпизоды и описания, которые являются, казалось бы, лишь «свидетельством... к сентенциям от писания».38 Обратим в этой связи внимание на два сибирских пейзажа в Житии — описание природы на Шаманском пороге и у «Байкалова моря». Может показаться, что и их значение в цепи воспоминаний Аввакума состоит в том, чтобы выразить восхищение автора «божественной мудростью» или стать поводом для нравоучения. Такое восприятие этих фрагментов четко выражено в статье А. С. Демина: «Каждое описание природы служит поводом к генерализации и заключается выводом... — „А все то у Христа тово-света, наделано для человеков“».39 Однако уже давно отмечена художественная функция этих описаний. «Дважды данное описание величественного сибирского пейзажа в обоих случаях служит для обострения действия, контрастируя с ним», — писал В. В. Виноградов.40 О том, что описание сибирской природы у Аввакума преследовало цель «контрастного сопоставления природы и человека», говорил и А. Н. Робинсон.41 Однако Робинсона интересовал только конкретный смысл этих описаний как самостоятельных, отдельных фрагментов Жития, поэтому он не рассматривал их композиционного значения в повествовании о сибирской ссылке Аввакума, поэтому последовательность его анализа произвольна: сначала анализируется описание «Байкалова моря», потом пейзаж у Шаманского порога (в Житии порядок описаний обратный).
Между тем описания сибирской природы обрамляют рассказ Аввакума о даурской экспедиции: они начинают и заканчивают его, и последовательность описания размышлений, чувств и ощущений героя Жития в связи с изображением сибирских пейзажей является не случайной.
В описании природы у Шаманского порога судьба повествователя сопоставляется, как справедливо отметил Робинсон,
- 158 -
с «описанием животного мира» (в горах «витают» птицы и звери, «а воевода Пашков выгоняет Аввакума... на эти горы... витать»).42 Верно и наблюдение Робинсона, что «это описание связывает картину природы с противопоставляемым ей образом неправедного человека (воеводы)».43 Но описания Аввакума, как правило, многоплановы, и в этом пейзаже есть еще один план изображения, самый существенный для композиции художественного повествования Жития: описывая природу у Шаманского порога, Аввакум передает ощущение трагического контраста между мощью дикой и равнодушной к человеку природы и физической ничтожностью, незначительностью человека, попавшего в ее владения («О, горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову!» — 149). Восклицание автора «О, горе стало!» не просто «лирически окрашивает»44 пейзаж, а выражает самый смысл этого описания; игра слов «горе — горы» усугубляет его трагизм.
Своеобразна и синтаксическая организация текста: слово «горы» начинает каждое новое предложение, становясь ведущим, ключевым словом фрагмента, символом грандиозной и суровой сибирской природы («Горы высокия... В горах тех обретаются змеи великие... в тех же горах орлы... На тех же горах гуляют звери многие дикие... На те горы выбивал меня Пашков...»). Но герой Жития оказывается в состоянии противопоставить и природе, и преследованиям Пашкова силу человеческого духа. Торжественно и мощно звучит его голос: «Человече! Убойся бога... призирающего в без[д]ны...»; после же обличительного послания Пашкову он переходит к обычным житейским делам: «Я казакам каши наварил да кормлю их...» (149).
Второй пейзаж — описание природы у «Байкалова моря» (159) — создан совсем в другом эмоциональном ключе. Здесь природа по-прежнему сурова: «буря ветренная» едва не потопила лодку Аввакума, горы тоже «высокие, утесы каменные и зело высоки». Но теперь горы находятся на пути свободного Аввакума, возвращающегося из ссылки домой, на Русь. Поэтому все вызывает умиление героя: «наверху» гор — диковинные «богоделанные» «полатки и повалуши, врата и столпы»; травы здесь «красныя, и цветны, и благовонны гораздо»; «птиц зело много», «а рыбы зело густо...». Аввакуму удается передать свое ощущение воли и простора; в отличие от первого описания, где горы воспринимались как «стена», преграждающая путь, здесь появляется перспектива в изображении пейзажа: «наверху» — «полатки», вдали гуси и лебеди «по морю, яко снег, плавают».45
- 159 -
Эта явно литературная функция описаний природы в Житии и их определенная роль в композиции повествования — художественное открытие, сделанное Аввакумом, причем сделанное заново, в новых условиях развития литературы XVII в.: подобная интерпретация описаний природы в связи с изображением эмоционального состояния героя и обстоятельствами его судьбы была уже известна литературе Киевской Руси (ср. описание природы в «Слове о полку Игореве»). Отметим только один, пожалуй самый специфический, принцип описания, характерный для Аввакума. В воссоздании картин сибирской природы большую роль играют чисто физические ощущения автора, многие аспекты описания возникают в результате чувственного восприятия им мира: размеры утеса изображаются через передачу физического ощущения его высоты («...поглядеть — заломя голову!»); точно так же передается благостность, «повернутость» к человеку природы у «Байкалова моря» («лук... слаток зело», «травы... благовонны», «осетры и таймени жирны гораздо — нелзя жарить на сковороде: жир все будет»).
Концепция «дидактической иллюстративности» не объясняет очень многого в композиции Жития Аввакума, так же как и дополняющая ее концепция Жития как «исповеди-проповеди». К какой части этой «двуплановой структуры» следует отнести, например, рассказ юродивого Федора о его бегстве из заключения? Нужно ли рассматривать повествование о походе Еремея Пашкова как следствие «исповедальных» или «проповеднических» стремлений автора? Куда отнести описания природы, рассмотренные выше, и т. д.? Совершенно очевидно, что биографизм Жития Аввакума проявляется в равной мере и в «исповедательных», и в «проповеднических» эпизодах произведения, да, собственно, часто и нельзя расчленить эти два взаимопереходящих один в другой компонента лирической стихии Жития. За пределами «двуплановой структуры» Жития, предложенной Робинсоном,
- 160 -
остается «сказ», составляющий главную примету и высшее достижение повествования Аввакума.
Таким образом, объяснить всю совокупность эпизодов Жития и понять концепцию человека, созданную Аввакумом, можно, лишь учитывая наличие художественного замысла у автора Жития, признавая движение и развитие личности его автобиографического героя.
Известный исследователь автобиографии Р. Паскаль заметил по поводу «Исповеди» блаженного Августина, что «автобиография проявляется как искусство» в том случае, когда описывается не портрет героя, а «движение в перспективе» (причем именно «духовное движение»), когда «деяния героя описываются не потому, что они происходили, а потому, что они представляют стадии духовного роста...»46
О пластическом единстве личности и ее истории как непременном условии превращения автобиографического повествования в произведение искусства пишет и Г. Миш, автор фундаментального многотомного исследования об автобиографическом жанре.47
Новые литературные качества Жития Аввакума ярче всего обнаруживаются при сопоставлении его с другими автобиографическими житиями и произведениями мемуарно-публицистической литературы XVII в.
Наиболее близким Житию Аввакума является Житие инока Епифания, его сподвижника по борьбе и товарища по пустозерскому заключению. Хотя Робинсон исходил в своем анализе обоих Житий из того, что принципы построения их одинаковы,48 он сам же подробно показал разницу между ними.
Житие Епифания, созданное в те же годы, что и Житие Аввакума, и в связи с их совместными замыслами, — произведение совсем другой художественной структуры. Скорее исповедь, чем автобиография,49 Житие Епифания посвящено в основном изображению душевного состояния автора; своеобразная гипертрофия внутреннего мира повествователя, отъединенность личности от событий жизни исторической — его характерные черты.
Соответствует этому принципу изображения героя и композиция Жития: в первой части рассказывается о борьбе с «бесами» в Виданской пустыне, во второй — о «чудесах», происшедших с Епифанием в Москве и Пустозерске. «Весь биографический материал второй части его автобиографии распределяется по
- 161 -
трем главам с традиционными названиями: „Чюдо о кресте“, „Чюдо... богородицы“, „Чюдо о глазах моих“», — пишет А. Н. Робинсон.50 Как видим, композиция Жития Епифания действительно «эпизодическая», основанная на традиционном принципе житийной литературы — принципе «дидактической иллюстративности», неправомерно распространяемом исследователем и на Житие Аввакума. Этот принцип композиции автобиографического повествования Епифания, столь отличный от принципа повествования Аввакума, объясняется отнюдь не обстоятельствами прежней «пустыннической» жизни Епифания и не его иным темпераментом, как можно было бы предположить, но прежде всего его особой литературной позицией.
Литературную почву Жития Епифания составили севернорусские жития подвижников.51 Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить Житие Епифания с такими автобиографическими житиями, как Житие Лазаря Муромского (XV в.) или Мартирия Зеленецкого (начало XVII в.). Жизнь автобиографического героя замкнута в пределах своего особого мира; исторические реалии, приметы эпохи не имеют существенного значения в структуре повествования, они только мотивируют те или иные события жизни героя. Несмотря на различие эпох, исторических обстоятельств, внутренний мир этих житий один и тот же: жизнь подвижника описывается в сфере его соприкосновения с миром ирреальным, с миром чудес, видений, бесовских козней. Именно эти события его жизни представляют ценность для автора.
Характерным примером такого повествования является Житие Лазаря Муромского. Хотя оно возникло, как утверждает рукописная традиция, на основе «духовной памяти» самого Лазаря Муромского, т. е. восходит к концу XIV в., в дошедших списках (не старше XVII в.) содержится текст уже вполне обработанного жития, сохранившего, однако, автобиографическую форму и повествующего об истории создания Муромского монастыря на озере Мурма (у Онеги).52 Инок Лазарь, прибывший в Новгород «из Рима», отправляется на Онегу для основания там монастыря. Он связан с кругом новгородских деятелей — епископами Василием Каликой и Моисеем «Брадатым», с посадником Иваном Захарьевичем. В Житии описываются северные племена, исконные насельники онежской земли, и столкновения с ними из-за острова Муч. Житие Лазаря Муромского даже претендует, казалось бы, на известный историзм
- 162 -
повествования.53 Но все описания Жития кратки, максимально обобщены, повествование течет ровно и последовательно. Создатель Жития изменяет своей лаконичности только дважды: при перечислении земель, принадлежащих обители (в Житие даже вставлен текст грамоты, где обосновывается право на владение землей), и при включении в «прозу жизни» событий иного мира, мира ирреального; лишь они и удостаиваются литературного изложения, лишь в связи с ними в Житии появляются отдельные сюжетно законченные эпизоды («видение» богородицы, «чудо» прозрения слепого «отрочати» старейшины Локина, явление «отроков», бьющих «лопян» «жезлием» и др.), в которых проявляется интерес к внутреннему миру автобиографического героя.54
Несравненно большее внимание уделено психологии героя в Житии Мартирия Зеленецкого.55 Оно вообще очень близко Житию Епифания; С. А. Зеньковский даже предполагает, что оно было известно Епифанию, так как духовным отцом Епифания в Соловецком монастыре был инок по имени Мартирий.56 Между этими двумя Житиями наблюдается поразительное сходство и в плане изложения фактических обстоятельств «пустынничества», и в разговорном стиле повествования, и в композиции: Мартирий жил в Великих Луках, «в Сергиеве монастыре», а через 7 лет, как и Епифаний, ушел в «пустыню», на расстояние «60 поприщ» от Великих Лук. Подробно описывается сооружение кельи для Мартирия, и в описании отшельнического быта много общего с известными эпизодами Жития Епифания. Повествование о борьбе Мартирия с «бесами» как будто даже принадлежит Епифанию: «Прихождаху бо ко мне и страшаху мя вне хижици моей пред дверми, глаголюще к себе: „Спит он“; един же бес влезе в хижу мою и хотя ко мне прикоснутися, аки хотя мя удавити. Молитва же Исусова изо уст моих исхождаше беспрестани; он же отбеже от мене. Инии же беси вне келии пред дверми глаголюще оному бесу: „Чему ты не дерзаешь на оного?“ Бес же им отвеща: „Поидете вы и дерзайте“. Аз же
- 163 -
молитву творя...» и т. д. В Житии Мартирия много наивных подробностей, рассказов о видениях, иногда раздумий автора, что составляет отличительную особенность и Жития Епифания.
В Житии Епифания христианская поэзия видений, предчувствий углублена кропотливым психологическим анализом своего состояния. На этом новом пути воссоздания своих чувств, ощущений, мыслей Епифаний достиг необычайной выразительности: ему удалось описать не только свои мысли, но и их оттенки, тончайшие нюансы переживаний (ср., например, его описание молитвы о даровании ему языка). Но, несмотря на глубину проникновения в душевный мир человека, Епифаний описывает лишь отдельные свои состояния, не связанные одно с другим, не обусловленные одно другим, отдельные сцены, не составляющие сюжета, которые складываются в общую картину лишь в совокупности. В принципах композиции автобиографического материала Епифаний весь во власти старой литературной формы; он опирается на традиции, предшествующие старообрядческой литературе, в то время как менее значительные в художественном отношении произведения — Житие Ивана Неронова, Житие боярыни Морозовой и другие создаются в духе новых требований историзма и публицистичности.
Кроме житий автобиографическая тема в XVII в. развивалась в произведениях мемуарно-публицистической литературы, где рассказ об обстоятельствах личной жизни героя обычно преследовал публицистические цели. К кругу этих произведений относится большинство многочисленных автобиографических «записок» писателей-старообрядцев и прежде всего некоторые «записки» самого Аввакума;57 к мемуарно-публицистической литературе тяготеют и произведения эпистолярных жанров, содержащие иногда значительные автобиографические фрагменты (например, письма царя Алексея Михайловича, послания и челобитные опального Никона58 и др.). Авторы этих автобиографических «записок» не стремятся к художественному обобщению действительности; обобщение, если оно здесь есть, достигается чисто публицистическими средствами, оно связано с непосредственными авторскими суждениями. Элементы же художественного обобщения случайны, обусловлены не требованиями жанра, а литературной одаренностью автора.
Своеобразный синтез мемуаров и публицистики той эпохи представляет собой «Диариущ» известного белорусского просветителя Афанасия Филипповича, сочинение, которое можно по замыслу сопоставить с Житием.59 «Диариуш» был полным сводом всех публицистических статей Афанасия Филипповича,
- 164 -
расположенных в хронологическом порядке и содержащих богатый автобиографический материал. Однако при всем сходстве с публицистическими замыслами Аввакума «Диариуш» не является автобиографической повестью: автобиографические сведения в «Диариуше» выполняют лишь служебную роль обычной иллюстрации в публицистическом повествовании.60
Одним из любопытных сочинений XVII в., в котором ярко отразились хроникальность и документальность мемуаров той поры, является жизнеописания Игнатия Иевлевича — автобиография известного белорусского просветителя, современника Аввакума, игумена полоцкого Богоявленского монастыря.61
Основной композиционный принцип автобиографической «записки» Иевлевича — хронологический. Описание жизни Иевлевича разворачивается во времени, оно последовательно в изложении обстоятельств его судьбы, но смена событий здесь почти не мотивируется, а если и мотивируется, то логически; характер автобиографического героя статичен и трудно уловим, его как бы нет; судьба человека отражена в документальном перечне событий.62
В Житии Аввакума наряду с естественным для биографии и автобиографии хронологическим принципом смены событий большое значение имеет, как было показано выше, художественная мотивировка соединения отобранных для описания фактов. Житие в силу автобиографического материала не могло быть полностью подчинено чисто художественным задачам развития сюжета, в нем наблюдается соединение задач художественных с агитационными и документально-историческими (ряд сообщений, припоминаний Жития остается в пределах только внешнего событийного ряда). Но в Житии есть определенный сюжетный контур, который хотя и менялся при работе Аввакума над разными редакциями Жития, в основных чертах оставался неизменным. Таким образом, Житие Аввакума, произведение автобиографическое, самими принципами отбора фактов и развития повествования связано с произведениями литературы сюжетной.
- 165 -
Следует также обратить внимание на концовку Жития: «Пускай раб-от Христов веселится, чтучи!» (178).63 «Веселье» «раба Христова», о котором заботился Аввакум, безусловно, следует понимать в смысле «духовного веселья», но важно другое: ориентация Аввакума на читателя, создание им Жития для чтения. Поэтому Аввакум рассчитывал на самые доступные и понятные широким народным массам формы изложения, стремился вызвать интерес к себе, к своему делу, к личности своих сподвижников таким повествованием, которое могло бы привлечь внимание читателя-современника, знакомого с развитыми формами беллетристического искусства. Именно эти цели и преследовала переделка первоначальной редакции Жития в редакцию Б: это был переход от повествования полумемуарного характера, где преобладал событийный, хронологический принцип рассказа, к повествованию новеллистическому, имеющему внутреннюю мотивировку, четко выраженный контур сюжета.
Возникновение Жития Аввакума как особой формы повествования, связанной с житийным жанром и в то же время сильно от него отличающейся, напоминает процесс становления жанров христианской беллетристики и зарождения самого житийного жанра в византийской литературе, когда жития использовали форму эллинистического романа, чтобы отвечать художественным вкусам эпохи.64 Но в какой мере Житие может быть сопоставимо с собственно беллетристической литературой?
В. Е. Гусев и вслед за ним В. В. Кожинов указывают целый комплекс признаков, объединяющих Житие Аввакума с вновь возникающим на Руси жанром романа: в Житии проявляется «тенденция становления синтетического жанра романа» (в романе эпическое повествование приобретает лирическую форму и характеризуется острым драматизмом); Житие, как и роман, тяготеет к «повседневному, обыденному», сочетает возвышенную поэзию и житейскую прозу. Важнейшим «проявлением тяготения Жития к жанру романа является... изображение человека как средоточия общественных противоречий, его попытка собрать в фокусе частной жизни и личной психологии события большого общественного значения, судьбы и психологию целого
- 166 -
социального слоя».65 Нетрудно заметить, что здесь Житие Аввакума сопоставляется с памятниками новой повествовательной литературы XVII в. в основном по содержанию. Кожинов прямо пишет: «С этой же „содержательной“ точки зрения мы подходим к истокам русского романа — к переходным формам, подобным повестям о Савве Грудцыне и о Горе-Злочастии, „Истории о Фроле Скобееве“».66 Признак сходства формы указан лишь один: композиция романа и Жития — «линейная», эпизоды-новеллы следуют «один за другим, как бы нанизываясь в бесконечный ряд, объединенный личностью центрального героя».67
Против этого сопоставления трудно возразить: действительно, отмеченные черты присущи Житию Аввакума. Но можно ли считать его «ранним образцом» романа в русской литературе? С нашей точки зрения — нет. В Житии Аввакума отсутствует вымышленный герой, вымышленный сюжет, нет обособления автора от своего героя, художественного «мира», являющегося созданием только творческого сознания писателя.
Чем же объяснить несомненное сходство литературных форм, отмеченное Гусевым и Кожиновым? В данном случае нужно говорить не о литературном родстве форм, а об их литературном подобии, своеобразной «иллюзии романа», возникающей у современного читателя в силу целого ряда причин.
Во-первых, сам житийный жанр, из которого вырастает Житие Аввакума, возник в свое время в Византии под непосредственным воздействием эллинистического романа (черты общности поэтики эллинистического эротического романа и византийских житий были рассмотрены А. Н. Веселовским, В. П. Адриановой-Перетц68 и др.). Поэтому некоторые формальные признаки романной формы можно встретить в житийной литературе, например «линейную» композицию произведения, сочетающуюся с эпизодами-новеллами.69
Во-вторых, сходство повествовательных приемов Жития Аввакума с романом, указанное Гусевым и Кожиновым, во многом объясняется единым источником их художественной системы изображения. Одной из «проформ» западноевропейского романа
- 167 -
является «народная книга», начальная форма его связана с фаблио, фацециями, особыми циклами устных рассказов (например, таково происхождение романа о Тиле Уленшпигеле).70 Аввакум, воздействуя на современников как художник, также использует в повествовании закономерности построения устных рассказов, «побывальщин», отсюда динамичность его повествования, острая сюжетность, точная, выразительная деталь (в этом же причина сходства Жития Аввакума с рассказами патериков).
Аввакум прекрасно знал каноны житийного жанра и не игнорировал их. В его сочинениях мы найдем многочисленные примеры чисто агиографического повествования (пересказ Жития Иоанна Златоуста, житийный портрет боярыни Морозовой и др.). Однако в Житии, в рассказе о собственной жизни Аввакум избрал другой путь повествования, творчески объединив книжную житийную схему с художественной структурой устного рассказа, своеобразного жанра «народной беллетристики».71 Напомним характеристику крестьянских устных рассказов, данную Иваном Франко, которая во многом поясняет своеобразие художественного строя Жития: «...это народная беллетристика, народные новеллы и романы... это уже произведения если и не сознательного артистизма, то очень тонко развитого артистического инстинкта».72
Это происхождение художественной формы Жития объясняет специфичность памятника, его непродуктивность в ближайший к нему исторический период: русская литература XVIII в. не использовала художественных открытий Аввакума. Выражая дух эпохи, Житие в то же время в формально-литературном отношении основывалось не столько на конкретной традиции современной ему повествовательной литературы, сколько на таких формах устной художественной речи, которые будут осваиваться русской литературой много позже, в период становления и развития реалистической прозы (Пушкин, Гоголь, Лесков, Толстой).
- 168 -
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
3
Введение
5
Глава I.
Археографический обзор списков трех редакций Жития
12
Глава II.
Взаимоотношение текстов трех редакций Жития. Последовательность их возникновения
67
Глава III.
Прянишниковский список и первоначальная редакция Жития
107
Глава IV.
Сюжет и композиция Жития. Проблемы художественного своеобразия памятника
141
——————
Демкова Наталья Сергеевна
Житие протопопа Аввакума
Редактор Н. А. Захарова
Техн. редактор Г. С. Орлова
Корректоры Т. В. Пухлова, Е. К. Терентьева———————————————————————————————
М-21124. Сдано в набор 4/VII 1973 г. Подписано к печати 24/I 1974 г.
Формат бумаги 60×901/16. Бум. тип. № 3. Печ. л. 10,5.
Уч.-изд. л. 11,85. Бум. л. 5,25.
Тираж 12000 экз. Заказ 2371. Цена 71 коп.
Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова———————————————————————————————
Типография № 2 Ленуприздата. 192104, Ленинград, Литейный пр., 55
ОПЕЧАТКИ
Страница
Строка
Напечатано
Следует читать
4
16
164
166
12 сверху
14 »
9 »
14 снизу
Непосредственно
образе
жизнеописания
«проформ»
Непосредственную
обзоре
жизнеописание
«праформ»
СноскиСноски к стр. 3
1 Толстой А. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 263.
2 См.: Клибанов А. И. Протопоп Аввакум как культурно-историческое явление. — «История СССР», 1973, № 1, с. 76—98.
Сноски к стр. 5
1 Краткий обзор открытий списков Жития и первых изданий всех трех редакций см.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 86—90.
2 См.: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1, вып. 1. Л., 1927 (первый оттиск — Пг., 1916). Русская историческая библиотека, т. 39.
3 См.: Малышев В. И. Заметка о рукописных списках Жития протопопа Аввакума — ТОДРЛ, М. — Л., 1951, т. VIII, с. 381—382.
Сноски к стр. 6
4 См.: РИБ, с. IX—XIII.
5 Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1934, с. 159—195.
Сноски к стр. 7
6 Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol. Paris, 1963, p. 487—488 (1e éd. — Paris, 1938).
7 La vie de l’archiprêtre Avvakum, écrite par lui-même, et sa dernière épître au tsar Alexis, traduites du vieux russe avec une introduction et des notes par Pierre Pascal. Paris, 1960, p. 30—35 (далее — Pascal P. La vie...).
8 Ibid., p. 36—38.
9 Аввакум получил сан протопопа не ранее начала 1652 г., по-видимому, в марте. См.: Смирнов П. С. [Рец. на кн.:] Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Спб., 1898. — ЖМНП, 1899, янв., ч. 321, с. 255 (далее — Смирнов П. С. Ред.). Паскаль датирует это событие концом марта или даже началом апреля 1652 г. (Pascal P. La vie... p. 87).
10 Паскаль ссылается на документальные материалы и публикацию В. К. Никольского «Сибирская ссылка протопопа Аввакума» (Учен. зап. Ин-та истории (РАНИОН). М., 1927, т. II, с. 159).
Сноски к стр. 8
11 Отметим, что Паскаль принимает за день смерти Морозовой 1 ноября: она умерла в ночь с 1 на 2 ноября.
12 Это, вероятно, опечатка: Иларион Рязанский умер 6 июня 1673 г.
13 «По-видимому, и Казанский список Жития (единственный известный тогда список редакции В. — Н. Д.) был составлен около того же 1672—1673 года... Что же касается предисловия к этому списку Жития, то оно, бесспорно, писано в 1675 или 1676 году, когда потребовалось послать Житие Марье Пименовон и ее мужу» (Смирнов П. С., Рец., с. 264—265).
Сноски к стр. 9
14 Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров — выдающийся русский писатель XVII века. — В кн.: Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960, с. 32.
15 Там же, с. 34. — Ср. его же статью «Заметки о стиле Жития протопопа Аввакума»: «Житие... становилось все более и более цельным и однородным художественным произведением» (ТОДРЛ, М. — Л., 1957, т. XIII, с. 274—275).
16 Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров... — В кн.: Житие, 1960, с. 33.
17 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 134.
Сноски к стр. 10
18 Определение редакции В как текста, написанного в «форме послания», неточно: текст В только предваряется посланием Аввакума «чаду возлюбленному».
19 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 56.
Сноски к стр. 11
20 После того как книга была сдана в издательство, была закончена диссертация В. С. Румянцевой «Житие протопопа Аввакума как исторический источник», в которой также были рассмотрены соотношения различных редакций Жития (см.: Румянцева В. С. Житие протопопа Аввакума как исторический источник. Автореф. канд. дис. М., 1971, ротапринт). Наблюдения Румянцевой, имеющие принципиальное значение, учтены и рассмотрены в книге при окончательной доработке; анализ достоверности схемы взаимоотношения редакции Жития, предложенной Румянцевой, см. на с. 102—105.
Сноски к стр. 12
1 Тексты Жития при текстологическом анализе для удобства сопоставления цитируются по изданию РИБ (Л., 1927, т. 39; в скобках указаны столбцы РИБ); текст редакции Б в случае необходимости — по отдельным спискам; текст Прянишниковского списка — по изданию: Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960 (далее — Житие, 1960). Изменение источника цитирования каждый раз специально оговаривается. Тексты передаются в упрощенной орфографии, по правилам, принятым в настоящее время для издания литературных текстов XVI—XVII вв.: титла раскрываются, надстрочные буквы вносятся в строку, ер в конце слов не воспроизводится, буквы ять, «и» десятиричное, омега, юс малый, фита и другие заменяются соответственно е, и, о, я, ф и т. п., пунктуация современная, знаки препинания расставлены в соответствии с нашим пониманием текста (пунктуация не всегда совпадает с пунктуацией цитируемых изданий); исправления текста источника заключены в квадратные скобки.
Сноски к стр. 13
2 См.: РИБ, с. VII—VIII.
3 Здесь и далее указываются сокращения шифров рукописей, принятые в работе; они используются для обозначения и отдельных списков Жития, и рукописей в целом.
Сноски к стр. 17
4 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 115. — Все типы ошибок тщательно проанализированы исследователем (с. 111—115).
Сноски к стр. 18
5 Дружинин В. Г. Пустозерский сборник. Спб., 1914, с. 13.
6 Писцом первой части Дружининского сборника (л. 1—186) был, очевидно, Иван Неронов, написавший свое имя криптограммой на л. 108 об.; он же был, вероятно, «самовидцем», обработавшим «записку» Аввакума о пустозерской казни 1670 г. В. И. Малышев обнаружил, что в Пустозерске до 1679 г. проживал пинежанин, торговый человек Иван Неронов (Малышев В. И. Старейший список «Книги толкований и нравоучений» протопопа Аввакума. — В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969, с. 272). Тем же почерком написана еще одна пустозерская рукопись, разысканная В. И. Малышевым, — «Книга толкований и нравоучений» протопопа Аввакума (БАН, Текущие поступления, № 105 (8779)).
7 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 105—107.
Сноски к стр. 19
8 Рукопись В. Г. Дружинина, № 762 (806) — сборник в 8°, состоит из 149 л., на л. 1 об. запись: «Книги переписные Игнатьевы пустыни». Отметим, что вологодская Игнатьева пустынь была местом заключения известного деятеля раннего старообрядчества Ивана Неронова.
9 Дружинин В. Г. Пустозерский сборник, с. 15.
10 Приходится удивляться скорости, с какой пустозерские узники получали информацию о новых изданиях.
11 См.: Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. Спб., 1912, с. 68.
12 Там же, с. 69.
13 «Ответ православных», по мнению И. М. Кудрявцева, был частично подготовлен дьяконом Федором еще в Москве в 1666—1667 гг., дорабатывался, по-видимому, в Пустозерске (см.: Кудрявцев И. М. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников. — Записки отдела рукописей ГБЛ, М., 1972. вып. 33, с. 173). Есть две почти точные пустозерские копии XVII в. рукописи «Ответа православных» из Дружининского сборника: ГБЛ, собр. Е. В. Барсова, № 883 (сборник с подписями пустозерских узников, исследованный И. М. Кудрявцевым), и ИРЛИ, Древлехранилище, Усть-Цилемское собр., № 10 (автограф Лазаря?); Усть-Цилемская рукопись состоит из «Ответа православных» и челобитных Лазаря, сохраняет тот же тип заголовков и выписок на полях, что и рукопись Дружининского сборника (см.: Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XIX вв. Сыктывкар, 1960, с. 58—59).
Сноски к стр. 20
14 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 105—106, 126.
15 Характеристику недавно найденного сборника автографов Аввакума и Епифания, названного в честь его владельца И. Н. Заволоко сборником Заволоко, см. далее с. 25, 31—41.
16 См.: Дружинин В. Г. Пустозерский сборник, с. 11.
Сноски к стр. 21
17 Житие, 1960, с. 342.
18 О датировке редакции см. в гл. II.
19 Данные палеографического анализа не помогают датировке: бумага сборника (по определениям альбомов филиграней) датируется 1666—1681 гг. Водяные знаки бумаги сборника: 1) «голова шута» с семью бубенцами — на бумаге всей первой части сборника (л. 1—188) и на некоторых листах Жития Аввакума (л. 189—196 и др.); знак ближе всего к № 1989 в альбоме: Heawood E. Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries. Hilversuin, 1950; датируется 1637 г. (по-видимому, 1673 г.?); 2) «голова шута» с пятью бубенцами и контрмаркой «MLI» — на л. 248—249, 277—284, 285—292, 304—305, 319—320, 320—321 и др. (тетради с Житием Аввакума и другими его сочинениями); знак ближе всего к типу № 1213 в альбоме: Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. М., 1963; датируется 1681 г.; 3) «голова шута» с пятью бубенцами, очень маленькая по размеру (на л. 191—194, 205—211, 215—218 Жития Аввакума и в двух тетрадях Епифания — л. 293—300 об.); знак напоминает № 482 в альбоме: Лихачев Н. П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. Спб., 1891; датируется 1666 г., и № 1317, 1318 в альбоме Гераклитова, которые также датируются 1666 г. (последняя филигрань очень плохо просматривается, не исключена возможность, что в сборнике несколько разновидностей такого маленького «шута»). Бумага сборника (второй и третий вид) соответствует бумаге другого Пустозерского сборника с автографами Аввакума и Епифания — сборника Заволоко (см. ниже). Хронологическая таблица использования пустозерскими узниками разных типов бумаги с филигранью «голова шута» может быть составлена только после изучения всех пустозерских рукописей, а также документов, вышедших из воеводской канцелярии Пустозерска с 1667 по 1682 г.
Автор искренне благодарит за консультацию Т. В. Дианову, просмотревшую все филиграни сборника.
Сноски к стр. 22
20 И здесь различные по происхождению части сборника отделены друг от друга чистыми листами.
21 Этот цикл часто встречается в рукописях, существуют даже две редакции его — «краткая» и «пространная». «Краткая редакция» этого цикла сочинений Аввакума находится в следующих сборниках: ГПБ, собр. П. П. Вяземского, О. VI, середина XVIII в.; ЦГАДА, собр. Ф. Ф. Мазурина, № 1069, XVIII в.; ГБЛ, собр. Олонецкой семинарии, № 54, середина XVIII в.; ГПБ, собр. И. П. Сахарова, Q. I, № 476, третья четверть XVIII в.; БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 23 (39), конец XVIII в.; собр. В. Г. Дружинина, № 59 (83), конец XVIII — начало XIX в.; собр. В. Г. Дружинина, № 775 (818), конец XVIII в.; собр. В. Г. Дружинина, № 203 (244), XIX в.; собр. В. Г. Дружинина, № 526 (557), вторая половина XIX в. «Пространная редакция» представлена сборниками: БАН, Текущие поступления, № 415/9429, вторая половина XVIII в.; ГБЛ, собр. Е. В. Барсова, № 139, конец XVIII в.; БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 188 (228), конец XVIII — начало XIX в.; ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 273, XVIII в. (рукопись не сохранилась); ГБЛ, собр. А. Н. Попова, № 2555, вторая четверть XIX в.
Сноски к стр. 23
22 Об этом тексте см.: Демкова Н. С., Ярошенко Л. В. Малоизвестное старообрядческое сочинение середины XVIII в. «История пострадавших отец Филиппа и Терентия». — В кн.: Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972, с. 176—180.
23 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 116.
24 Там же, с. 115.
Сноски к стр. 24
25 В. С. Румянцева напомнила, что Житие в этой редакции было известно на Выге уже в начале XVIII в.: его использовал С. Денисов при составлении «Винограда Российского»; она же отметила отсутствие следов знакомства Денисова с первой частью Жития Епифания, находящейся в Пустозерском сборнике Дружинина (Житие протопопа Аввакума как исторический источник. Автореф. канд. дис. М., 1971, с. 5). Укажем также на малоизвестное рукописное сочинение 1871 г., принадлежащее, по-видимому, Г. Преображенскому, студенту Московской духовной академии, — «О протопопе Аввакуме» (ГБЛ, ф. 38 (Костромское собр.), № 99, л. II—III об.); в сочинении его сравниваются сведения «Винограда Российского» о протопопе Аввакуме с Житием и характеризуется метод изложения Семена Денисова.
26 А. Н. Робинсон полагает, что описание «книжицы малой», в которой находилось «Житие и страдание... протопопа Аввакума», а также было «написано отчасти житие... блаженного Епифания его рукою» (книжица послужила источником для выговского биографа Епифания), указывает на Пустозерский сборник Дружинина (с. 116). Между тем этот аргумент носит необязательный характер: другие редакции Жития Аввакума — Б и В — также сопровождаются Житием Епифания (первой частью). Это свидетельство выговского автора первой половины XVIII в. интересно в другом отношении — как показатель многообразия типов аввакумовских текстов, распространявшихся на Выге: возможно, существовала рукопись Аввакума и Епифания, содержащая только их Жития.
Сноски к стр. 25
27 Возможно, причиной совместного существования редакции А Жития и «пятой» челобитной в последующей рукописной традиции была не только их изначальная связь в авторском Пустозерском сборнике, но и особое внимание создателя протографа этого цикла сочинений Аввакума к его творческой воле: сам Аввакум в Житии ссылался на «пятую» челобитную как на текст, находившийся под рукой у читателя Жития («И я ис Пустозерья послал к царю два послания: первое невелико, а другое болши... Сказал ему в послании и богознамения некая, показанная мне в темницах; тамо чтый да разумеет» — РИБ, стб. 61).
28 См.: РИБ, с. IX.
29 О находке И. Н. Заволоко см.: Найдена уникальная рукопись. — «Вечерний Ленинград», 1968, 20 марта; Малышев В. И. Новые поступления в собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома. — «Рус. лит.», 1969, № 2, с. 123—124.
30 Данные палеографического описания рукописи, датировку и анализ ее как авторского сборника Аввакума и Епифания см. далее, с. 31—41.
31 В настоящее время сборник изучается и подготовлен к полному фототипическому и наборному изданию: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко (Автографы Аввакума и Епифания). Подготовка текста и комментарий Н. С. Демковой, Н. Ф. Дробленковой, Л. И. Сазоновой. Под ред. В. И. Малышева (отв. ред.), Н. С. Демковой, Л. А. Дмитриева. Л., «Наука» (в печати).
Сноски к стр. 27
32 Текст этого цикла восходит к общему протографу, сложившемуся еще в XVII в.: и состав, и текст этого цикла соответствуют рукописи конца XVII — начала XVIII вв. ГИМ, собр. А. И. Хлудова, № 149, дополнительный каталог (сочинения имеют даже одинаковые повторы и лакуны). Еще одна рукопись, содержащая этот цикл, — сборник БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 348 (397), конец XVIII — начало XIX в. (текст цикла имеет здесь характер выписок из сборника типа указанной выше рукописи Хлудова № 149).
33 Этот последний цикл сопровождает иногда «Христианоопасный щит веры», сборник, составленный в конце 60-х годов XVII в. иноком Авраамием (см.: ГИМ, Синодальное собр., № 641, XVII в.; ЦГАДА, собр. Ф. Ф. Мазурина, № 532). Этот же цикл (за исключением «первой» челобитной Аввакума) находится еще в одной рукописи XVII в. — ГБЛ, ф. 247 (Рогожское собр.), № 667. Таким образом, в Бр 200 мы наблюдаем соединение трех рукописных традиций, сложившихся уже в XVII в.
Сноски к стр. 28
34 Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 163—228, 371.
Сноски к стр. 29
35 Аргументом для гипотезы о местонахождении нового заглавия в рукописи является наличие водного подтека на наружной стороне этого листа — в соответствии с аналогичным подтеком на листах основной рукописи; на л. 1—2 подтек отсутствует. На это обратила внимание О. А. Белоброва.
36 Ср. текст второй части Жития Епифания в кн.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 195.
Сноски к стр. 30
37 В. П. Бударагин обратил внимание на то, что Епифаний иначе, чем Аввакум, оценивал свои страдания во время казни в Москве и в Пустозерске: во всех текстах описания пустозерской казни Епифаний подчеркивал, что «на Москве» казнь была более жестокой («яко лютая змия укусила»), в Пустозерске же казнь свершилась «яко во сне».
Сноски к стр. 31
38 См. об этом далее, гл. II, с. 100.
39 Бумага в тетрадях первой части сборника Заволоко — та же самая, которая была в распоряжении Аввакума и Епифания и при написании их сочинений, вошедших в сборник Дружинина; филиграни ее совпадают с филигранями сборника Дружинина: «голова шута» с пятью бубенцами и контрмаркой «MLI» (датируется 1681 г.) и «маленький шут» (датируется 1666 г.). См. выше, с. 21, № 2, 3 перечня филиграней сборника Дружинина. Вторая часть Жития Епифания, составляющая отдельную рукопись, и новое заглавие к Житию Аввакума написаны на другой бумаге — с датированной филигранью «Herman Sdorf, anno 1670» (см. альбом Гераклитова, № 1478, без указания года). По наблюдениям Т. В. Диановой, изучившей эту филигрань с подвижной датой и любезно проконсультировавшей автора книги при определении филиграней сборника, максимальная залежность бумаги с этим знаком не превышает 5—6 лет. Таким образом, последняя часть сборника Заволоко написана не позднее 1675—1676 гг.
40 О редакциях этих текстов см. ниже.
Сноски к стр. 32
41 Личность адресата этой редакции Жития — Алексея нам неизвестна, но из обращения к нему Аввакума, из своеобразного «посвящения» ему Жития можно составить о нем вполне определенное представление: он человек семейный, глава дома и большой семьи; по-видимому, Алексей относился к числу «доброхотов», помогавших пустозерским узникам: письменное «благословение» Аввакума («...благословит тя господь и Марию твою Пиминовну, и чад ваших, и снох, и внучаток... да подаст ти господь от влаги земныя и от росы небесныя свыше, и множа да умножит в дому твоем всякия красоты и благодати...» и т. д. — РИБ, стб. 154) очень близко словам молитвы за милостыню, которую произносил Епифаний: «И аще кто принесет ми за труды... и аз прииму у нево во имя Христово и положу ту милостыню пред образом... и прошу милости у Христа-бога и богородицы приносящему рабу Христову, и чадом его, и всему дому его, да умножит ему Христос-бог вместо сих сторицею и благословит его во вся дни живота его, и весь дом его, и да сподобит их господь и в будущем веце благословения во веки веком. Аминь» (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 202).
Из обращения Аввакума выясняется еще одно обстоятельство: авторитет Алексея настолько велик, что он, по-видимому, выполнял среди близких функции священника; Аввакум упоминает о «брашне священническом» (причастии?) и благословляет Алексея совершать «прочие тайны» («мощно и простолюдину совершить»).
Все это заставляет нас вспомнить об Алексее-пустозерце, дом которого до казней в апреле 1670 г. был постоянным местом встречи для заключенных: именно там они спорили, переписывали свои сочинения (дьякон Федор писал Анастасии Марковне на Мезень в 1669 г:. «Мы з батюшком ис темницы нощию пособием божиим... вышли к брату Алексию в дом, и тут побеседовали и с Поликарпом вашим, мезенцом, и запасу мне отец половину отделил — крупы и муки...» — Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 68).
42 Епифанию принадлежит надпись в центре — «Бог» и, возможно, рамка (наблюдения В. П. Бударагина).
43 См. об этом: Демкова Н. С.: 1) Палеографическое описание рукописи и реконструкция композиции начальной части сборника. — В кн.: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко (в печати); 2) История создания Пустозерского сборника И. Н. Заволоко и текстологические проблемы его изучения. — Там же.
Сноски к стр. 33
44 Как установила В. С. Румянцева, это текст более ранний, чем текст в сборнике Дружинина (Румянцева В. С. Автореф., с. 17—18).
45 Текст «Снискания и собрания о божестве и о твари» — другой, чем в Дружининском сборнике. Впервые это было отмечено В. С. Румянцевой (там же, с. 18). По ее мнению, текст в сборнике Заволоко представляет «первичную» редакцию, «в результате идейной и литературной переработки которой появился авторский вариант этого же сочинения в Пустозерском сборнике № 1» (т. е. в сборнике Дружинина). См. об этом далее, с. 41.
46 В настоящее время обнаружен еще один автограф второй части Жития Епифания (ИРЛИ, Древлехранилище, коллекция В. М. Амосова — А. Ф. Богдановой, № 169), существующий в виде отдельной рукописи в 16° и адресованный Михаилу и Иеремеии (см.: Бударагин В. П. Новый автограф Жития Епифания. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. М., «Наука», в печати). Известен и еще один адресат второй части Жития Епифания — Симеон (см.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 122, 207).
Сноски к стр. 34
47 См., например: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 188.
48 См. об этом далее, гл. II, с. 70.
49 Почерк нового вступления Аввакума несколько отличается от почерка основной части рукописи (здесь он использует паерок, о вместо омеги в сочетании «от» и др.), что позволяет предполагать другое время написания этого вступления. На общее отличие почерка Аввакума в основной части рукописи и во вступительных статьях (без анализа графических изменений) обратил внимание И. Н. Заволоко; см. также: Румянцева В. С. Автореф., с. 17.
Сноски к стр. 36
50 Сами владельцы рукописи знали, однако, о том, что они хранят автографы «отцов старообрядчества»: на л. 191 находится карандашная помета, сделанная почерком конца XIX — начала XX в. рукой владелицы сборника А. В. Мараевой: «Сия книга писана собьственою рукою протопопа Аввакума и инока Епифания, отца его духовнаго». Сборник находился ранее, как сообщил И. Н. Заволоко, в собрании рукописей А. В. Мараевой, известной собирательницы русской старины, жившей в г. Серпухове под Москвой.
51 См.: Смирнов П. С. Рец., с. 264—265.
52 Там же, с. 255.
53 Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol. Paris, 1963, p. 74—75. — Этот метод определения дня и месяца рождения человека по его имени был применен Паскалем и в других случаях, например при определении дня рождения дочери Аввакума Аграфены.
54 См.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 217.
55 Там же.
Сноски к стр. 37
56 Pascal P. La vie... p. 37.
57 Как и в других редакциях (А и Б), Аввакум писал здесь: «...а дочь-ту мою духовную, Федосью Морозову, и совсем разорили, и сына ея, Ивана Глебовича, уморили» (РИБ, стб. 200).
Сноски к стр. 38
58 См. комментарии А. И. Мазунина в кн.: Житие, 1960, с. 444.
59 См.: Pascal P. La vie... p. 174; ср.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 286.
60 См.: Мазунин А. И. Повесть о боярыне Морозовой (Памятник русской литературы XVII в.). Канд. дис. Л., 1965, с. 183.
61 «Егда же уведев се Алексей царь и заповеда, да никто же увесть ни от бояр, ни от инех. И на три седмицы утаися вверху. Потом же уведено бысть повсюду» (Материалы для истории раскола за первое время его существования, т. VIII. Под ред. Н. И. Субботина. М., 1887, с. 202; далее — Материалы...).
62 Строев П. С. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. Спб., 1877, с. 1036.
63 Этим же годом (1675 г.) датируется и автограф второй части Жития Епифапия в сборнике Заволоко (см.: Дробленкова Н. Ф. Житие Епифания. — В кн.: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко. В печати). Мы не рассматриваем здесь (за неимением данных) вопрос о самой возможности и условиях создания сборника летом 1675 г., когда, как известно, резко усилились репрессии против старообрядцев (казни в Боровске и в Пустозерске в июле 1675 г.).
Сноски к стр. 39
65 Румянцева В. С. Автореф., с. 16—21.
66 Подробный анализ авторской правки Епифания см.: Дробленкова Н. Ф. Житие Епифания. — В кн.: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко (в печати).
Сноски к стр. 41
67 См.: Демкова Н. С. «Снискание и собрание о божестве и о твари». — Там же.
68 Характеристику редакции В и рассмотрение вопроса о времени ее создания см. в гл. II.
69 Материал данного раздела представляет собой переработанный и дополненный вариант статьи: Демкова Н. С. Археографический обзор списков одной из начальных редакций Жития Аввакума (редакция Б). — В кн.: Вопросы русской и советской литературы Сибири. Новосибирск, 1971, с. 71—89. См. также: Демкова Н. С. Творческая история Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, Л., 1970, т. XXV, с. 203—205.
70 См.: РИБ, с. VIII—IX.
Сноски к стр. 42
71 См. там же, с. XLIV, стб. 685—688.
72 См. издание текста: Демкова Н. С., Малышев В. И. Неизвестные письма протопопа Аввакума. — Записки отдела рукописей ГБЛ, М., 1971, вып. 32, с. 169.
73 Отрывок из Жития Епифания относим к ранней редакции памятника, так как он соответствует тексту автографа в сборнике Заволоко, но не учитывает исправлений на полях рукописи (в Муз 2582 отсутствует фраза «а град благочестивой, христианской», находящаяся на полях автографа Зв). Этот фрагмент с некоторыми разночтениями повторяется и в других сборниках с Житием Аввакума в редакции Б (см. далее № 9—11).
Сноски к стр. 43
74 Рукопись Хл 257 (л. 1—190 об.) была скопирована в 1871 г., текст копии (без Жития) — сборник ГБЛ, Костромское собр. (ф. 138), № 99.
Сноски к стр. 54
75 Первоначальное «На» было исправлено в сборнике Дружинина рукой Епифания на «Да». См. противоположное прочтение этого текста в книге Робинсона (Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 112).
76 Житие, 1960, с. 305.
Сноски к стр. 55
77 Pascal P. La vie... p. 66, note 1.
78 Ср. аналогичный текст из молитвы в Псалтыри: «...и языком воспою глаголя сице» (М., 1648, л. 17 об.).
Сноски к стр. 57
79 См. также: Дробленкова Н. Ф. Ранняя редакция Жития Епифания. — ТОДРЛ, т. XXIX (в печати).
Сноски к стр. 58
80 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 120.
81 Демкова Н. С. Археографический обзор списков одной из начальных редакций Жития Аввакума (редакция Б). В кн.: Вопросы русской и советской литературы Сибири, с. 75.
82 См.: Румянцева В. С. Автореф., с. 26—28.
83 Там же, с. 28.
Сноски к стр. 61
84 Житие, 1960, с. 314.
Сноски к стр. 62
85 Путаницу с именем «Епифаний — Авраамий» понять легко, так как в Житии Епифания имя автора нигде не упоминается, а с именем Авраамия был связан находящийся в той же рукописи текст его сочинения «Вопрос и ответ старца Авраамия»; тот факт, что автор Жития Епифания — инок, как и Авраамий, а Авраамий в «Вопросе и ответе» называл себя учеником, «духовным сыном» Аввакума, мог послужить причиной отождествления этих двух авторов.
86 Текст Жития здесь и далее цит. по автографу Д (текст Зв такой же) в издании: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 184—185.
Сноски к стр. 63
87 Текст ранней редакции — ГБЛ, собр. Е. В. Барсова, № 654, л. 268—294.
88 Издание текста см. в кн.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум, прил., с. 124—126.
89 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 116.
90 Пересказ как метод переработки оригинального текста — частое явление в повествовательной литературе второй половины XVII — начала XVIII вв. Ср. аналогичную работу по созданию в этот период особой редакции Повести о Петре и Февронии, единственный список которой дошел в составе старообрядческого сборника XVIII в. (см.: Дмитриева Р. П. Особая редакция Повести о Петре и Февронии. — В кн.: Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972, с. 192—209), «Жулевской» редакции 1663 г. Повести о Меркурии Смоленском, представляющей собой пересказ древнего текста (см.: Белецкий Л. Т. Литературная история повести о Меркурии Смоленском. Пг., 1922, с. 7, 38—45).
Сноски к стр. 64
91 Вариант Б статьи «О сложении перст» (по списку Хл 257) см. в издании: Материалы... т. V. М., 1879, с. 256—257.
92 См. такое же мнение А. Н. Робинсона (Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 120).
Сноски к стр. 66
93 Сейчас еще трудно ответить на вопрос, входили ли в состав этого первоначального сборника послание пустозерских узников «брату Иоанну» (сочинение дьякона Федора и Аввакума) и «пятая» челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу, представленные в тексте только трех рукописей второй группы — Хл 257, Бр 966 и Пв, восходящих к тому же к одному сборнику.
Сноски к стр. 67
1 РИБ, т. 39. Л., 1927, с. X. См. также: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 53, 127, 128.
2 La vie de l’archiprêtre Avvakum, écrite par lui-même, et sa dernière épître au tsar Alexis, traduites du vieux russe avec une introduction et des notes par Pierre Pascal. Paris, 1960, p. 36—38.
3 Изложение аргументации Паскаля см. во Введении.
Сноски к стр. 68
4 См.: Гудзий Н. К. Комментарий. — В кн.: Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960, с. 368.
5 Pascal P. La vie... p. 130; ср.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 255.
6 См.: Сарафанова Н. С. Комментарий к «первой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу. — В кн.: Житие, 1960, с. 411.
7 Это объяснение неточности Аввакума предложил сам Паскаль (La vie... p. 130). Существует и другое объяснение — А. Н. Робинсона: Аввакум начинает отсчет времени от отъезда не из Иргенского острога, а из Нерчинского, «оставленного им в конце зимы 1660—1661 г.» (Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 259). Однако это объяснение противоречит мысли Аввакума, четко обозначившего в Житии начало нового этапа в своей жизни: «Перемена ему пришла, и мне грамота: велено ехать на Русь... Поехали из Даур...» (РИБ, стб. 38, 41). Только после получения грамоты в Иргенском остроге, означавшей конец ссылки, Аввакум пишет: «Поехали из Даур...».
8 В списках 1-й беседы из «Книги бесед» Аввакума, написанной в 1675 г., мы встречаем новую цифру: «12 лет» (РИБ, стб. 247). Пребывание Аввакума в Сибири продолжалось, как подсчитал А. Н. Робинсон, 10 лет и 8 месяцев (Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 259).
9 См.: Гудзий Н. К. Комментарий. — В кн.: Житие, 1960, с. 367.
10 См. там же, с. 372.
Сноски к стр. 69
11 См. там же, с. 362—353; Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 212, 213.
12 Проблема датировки редакций Жития Аввакума упирается в недостаточную изученность хронологии его жизни и творчества. Существующая хронология весьма приблизительна: в хронологических построениях исследователей многое произвольно, неточности самого Аввакума способствуют этой путанице. Только полное сопоставление всех фактов биографии Аввакума и исторических событий по источникам XVII в. внесет ясность в этот вопрос. Остается ждать выхода в свет чрезвычайно необходимой исследователям «Летописи жизни и творчества Аввакума», предпринятой В. И. Малышевым (см.: Малышев В. И. Об изучении наследия протопопа Аввакума. — «Рус. лит.», 1968, № 4, с. 90).
Сноски к стр. 70
14 Согласно убедительным подсчетам П. С. Смирнова и П. Паскаля, Аввакум стал протопопом в 1652 г. (в конце марта — начале апреля) — см. выше Введение.
15 Возможность создания редакции А в течение лета 1673 г. подтверждается наблюдениями Румянцевой, которая обратила внимание на то, что в редакции А Аввакум не называет Ф. С. Пашкову, жену сибирского воеводы Пашкова, «духовной дочерью», как в Б, и убедительно объясняет изменение текста авторской правкой: с июня 1673 г. Ф. С. Пашкова стала игуменьей Вознесенского монастыря в Кремле, т. е. заметной фигурой в лагере его врагов — «никониан» (Румянцева В. С. О датировке краткой редакции Жития протопопа Аввакума. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. истории, 1969, № 6, с. 64—65).
16 Строев П. С. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. Спб., 1877, с. 416.
Сноски к стр. 71
17 Козловский И. П. Ф. М. Ртищев. Киев, 1906, с. 36.
18 Отметим также, что к отсутствию указаний, сведений, т. е. к так называемым «нулевым чтениям» в Житии, следует подходить очень осторожно, ибо Житие — художественный текст, автор которого не ставил своей целью осветить судьбы всех упоминающихся в нем исторических лиц. Отсутствие тех или иных сведений может использоваться как датирующее указание лишь в том случае, если можно обосновать их значительность для Аввакума, обязательность их упоминания. Доказательством того, что при датировке невозможно опираться на отсутствие сведений, является следующий текст: в редакции А сообщается о смерти Ивана Неронова, который умер 2 сентября 1670 г. (РИБ, стб. 16), в редакциях же Б и В это известие отсутствует (РИБ, стб. 97, 169). Формальное предположение, что редакции Б и В написаны до 2 сентября 1670 г., окажется ошибкой.
19 Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. Спб., 1912, с. 387.
20 О нем см.: Субботин Н. И. [Обзор сочинений Авраамия]. — Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые под ред. Н. И. Субботина, т. VII. М., 1885, с. V—XXX (весь т. VII состоит из сочинений Авраамия); Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Спб., 1898, с. LXXI—LXXIV; Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 315—316; Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol. Paris, 1963 (по указателю); Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 275—276; см. также: Замысловский А. Г. Челобитная инока Авраамия. — В кн.: ЛЗАК, т. VI. Спб., 1877, отд. II, с. 1—129. — Сочинения Авраамия были изданы только Замысловским, Субботиным и Барсковым, многие из них не атрибутированы, не имеют ни исторического, ни историко-литературного комментария, хотя в историко-литературном отношении инок Авраамий — личность примечательная и как автор, и как единомышленник протопопа Аввакума, и как историк раскола, и как представитель приказной школы стихотворства (см. о нем в новейшем исследовании: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973, с. 82—102).
Сноски к стр. 72
21 Обычно называемая дата ареста Авраамия — 13 февраля 1670 г. — требует уточнения, так как послание Авраамия московским единомышленникам, написанное им уже из заключения, датировано Н. И. Субботиным 6 февраля 1670 г. (см.: Материалы... т. VII, с. 386).
22 Там же, с. 389.
23 См.: Малышев В. И. Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и новые документы о нем. — Доклады и сообщения филологического ин-та ЛГУ. Л., 1951, вып. 3, с. 263.
24 Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 36.
25 Pascal P. La vie... p. 163.
26 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 47.
27 Pascal P. La vie... p. 174.
28 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 276.
Сноски к стр. 74
29 Боярыня Ф. П. Морозова и княгиня Е. П. Урусова были заключены под стражу 16 ноября 1671 г.; Ф. П. Морозова после ареста около года находилась в заключении в Новодевичьем монастыре и в Хамовниках (до своей ссылки в Боровск в конце 1673 г.); известно, что сын Морозовой умер «вскоре» после ее ареста — в конце 1671 г. или в самом начале 1672 г. (см.: Житие боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марьи Даниловой. — Материалы... т. VIII. М., 1887, с. 137—203, и исследование А. И. Мазунина, ценное историческим комментарием текста Жития (Повесть о боярыне Ф. П. Морозовой (памятник русской литературы XVII века). Канд. дис. Л., 1965, с. 182—211).
30 Эта подробность («бивше батогами») имеется и в тексте Б1, что также свидетельствует о более позднем его создании по сравнению с Бо.
31 Это известие редакции А датировала В. С. Румянцева на основании «Российской родословной книги» П. В. Долгорукова (т. 2. Спб., 1855, с. 28). См.: Румянцева В. С. О датировке краткой редакции Жития протопопа Аввакума. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. истории, 1969, № 6, с. 64; см. также: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 273.
Сноски к стр. 75
32 Для редакции В, как мы увидим и далее, вообще характерно заметное усиление озлобления Аввакума на мучителей. Оно часто прорывается и в других его сочинениях этого периода.
33 См.: РИБ, стб. 923—928; о датировке см.: Смирнов П. С. Предисловие к прочим сочинениям протопопа Аввакума. — РИБ, с. LXVIII; Гудзий Н. К. Комментарий. — В кн.: Житие, 1934, с. 460; Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol, p. 490—491; Сарафанова Н. С. Комментарий в кн.: Житие, 1960, с. 421; Радойч Л. Комментарий в кн.: Vita dell’arciprete Avvakum, scrita da lui stesso. Torino, 1962, p. 284.
Сноски к стр. 76
34 Текст послания здесь и далее цит. по изданию: Житие, 1960, с. 215—217.
35 П. С. Смирнов относит послание ко времени после 19 апреля 1673 г., т. е. ко времени боровского заключения (РИБ, с. XXXI); однако целый ряд признаков связывает этот текст с 1675 г.: отсутствие упоминания об Иустине, казненной летом 1675 г., близость к отрывку о боровских узницах в первой беседе Аввакума, написанной в 1675 г. (РИБ, стб. 252), твердое убеждение в собственной «святости» и в «святости» своих корреспонденток; 1675-м годом датирует послание и Л. Радойч (см. его комментарий в кн.: Vita dell’arciprete Avvakum, p. 284).
Сноски к стр. 77
36 Житие, 1960, с. 300.
37 Там же, с. 215.
38 Там же, с. 217. — О ссоре между Морозовой и юродивым Федором см. письмо Аввакума Морозовой (1669 г.?) и комментарий Я. Л. Барскова в его кн.: Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 33—35, 296—297.
Сноски к стр. 78
39 Житие, 1960, с. 211.
Сноски к стр. 79
40 Там же, с. 215.
41 Там же, с. 300.
42 Датировке этого послания может помочь упоминание о Федоре, рассмотренное еще в одном аспекте. Мысль о Федоре возникает у Аввакума в связи с его размышлениями о смерти Ивана Глебовича («С Федором там себе у Христа ликовствуют»); Федор входит в круг лиц, близких Морозовой и Аввакуму. Но дальше речь идет о «поминовении» Федора: «Поминаешь ли Феодора? Не сердитуеши ли на него? Поминай су бога для, не сердитуй!» (Житие, 1960, с. 217). Это напоминание Аввакума о необходимости «поминовения» Федора могло возникнуть как раз в связи с тем, что послание Морозовой и Урусовой писалось в период времени, близкий к дню его «памяти» — «памяти» нового старообрядческого мученика — в марте, так как Федор был казнен в конце марта 1670 г.
Сноски к стр. 80
43 Если это не ошибка Аввакума в цифре, то здесь как начало отсчета лет подразумевается, по-видимому, период 1650—1651 гг., о котором очень мало известно, а также какие-то преследования Аввакума «начальными людьми», которых было много в эти годы.
44 См.: РИБ, стб. 684 («...а от Христа до сех мест 1680 лет»), с. XLII.
45 Демкова Н. С. «Снискание и собрание о божестве и о твари». — В кн.: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко (в печати).
46 См.: Барсков Я. Л. Предисловие к Житию протопопа Аввакума (РИБ, с. IX); Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 11.
Сноски к стр. 82
47 В редакции В возникает новая тема, отсутствующая в А и Б, — тема значительности личности Аввакума и его отношения к царю: «Я пред царем стою, поклонясь, на него гляжу, ничего не говорю, а царь, мне поклонясь, на меня стоя глядит, ничего жь не говорит, да так и розошлись; с тех мест и дружбы только: он на меня за писмо кручинен стал, а я осердился за то, что Феодора моего под начало послал...» (РИБ, с. 197).
Сноски к стр. 83
48 Житие, 1960, с. 335.
49 В редакции В здесь значительная переделка (РИБ, стб. 200; см. далее, с. 95).
Сноски к стр. 84
50 Житие, 1960, с. 222.
51 Там же, с. 292—293.
Сноски к стр. 85
52 См.: Демкова Н. С. Творческая история Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1970, т. XXV, с. 200—201.
53 См.: Демкова Н. С. Палеографическое описание рукописи... — В кн.: Пустозерский сборник И. Н. Заволоко (в печати). — Это было отмечено И. Н. Заволоко и В. С. Румянцевой (Автореф., с. 16—17).
Сноски к стр. 86
54 Этот интересный факт отличия текста А от Б, важный для датировки редакции А, обнаружен и прокомментирован В. С. Румянцевой (см. выше). Однако он должен быть использован и для датировки редакции В.
55 Ср. в 4-й беседе из «Книги бесед» Аввакума: «Не пошто в Персы итти пещи огненныя искать, но бог дал дома Вавилон: в Боровске пещь халдейская, идеже мучатся святии отроцы, херувимом уподобльшеся...» (РИБ, стб. 286). Ср. тот же образ в послании Морозовой, Урусовой и Даниловой (РИБ, стб. 393), в письме Симеону (РИБ, стб. 931—932) и др.
Сноски к стр. 87
56 Это, по существу, проявление того же общего принципа «анфиладности» в построении русских средневековых произведений, который был отмечен Д. С. Лихачевым (Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 211). Ср. с этим фактом раздельное существование в одном авторском сборнике двух частей Жития Епифания, без попытки соединить их, добавление Аввакумом в конце Жития в редакции В новых «повестей» о чудесах по принципу нанизывания. «Дополнительный» характер этих новых эпизодов проявляется в том, что они идут не вместе с другими аналогичными «повестями», а следом за статьей Аввакума «О причастии» как вновь вспомнившиеся эпизоды.
Сноски к стр. 91
57 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 107—111.
58 Исключением является одно исправление Епифания (№ 2а в перечне Робинсона), о котором можно подумать, что Аввакум его принял: слово «мучася» (в автографе Д) Епифаний исправил на «мучат», и в тексте В (в сборнике Заволоко) читаем «мучат». Епифаний исправил здесь ошибку (описку) Аввакума, и поэтому правильная форма слова «мучат» в редакции В могла возникнуть совершенно самостоятельно, независимо от исправления Епифания.
59 См.: Дружинин В. Г. Пустозерский сборник. Спб., 1914, с. 24.
60 Отсутствием текстологической зависимости автографы Аввакума отличаются от автографов первой части Жития Епифания: Епифаний, как мы уже отмечали, сверил более ранний текст Зв по автографу Д и вносил еще параллельную правку в оба списка сразу.
Сноски к стр. 92
61 См.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Спб., 1900, с. 296—299.
Сноски к стр. 93
62 Pascal P. Avvakum et les débuts du raskol, p. 487; Robinson A. Avvakum et Dorothée. — «Revue des études slaves». Paris, 1961, t. 38, p. 167. — В. В. Виноградов обратил внимание на стилистическую противопоставленность этой редакции двум другим: «Лишь в редакции Жития В видны стилистические поправки, клонящиеся к усилению величественности эпитетов и сравнений: „ризы светло-блещающиеся“...; ср. здесь же внесение традиционных метафор: „слез река же от очию истекла“...; ср. в Житии Алексея, человека божия, издан[ном] В. П. Адриановой: „Испущаше аки реку слезы“» (Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протоп[опа] Аввакума. — В кн.: Русская речь. Сборник статей под ред. Л. В. Щербы. I. Пг., 1923, с. 218).
63 Текст статьи «О причастии» частично использовался Аввакумом (как уже отмечалось выше) в редакции А, но в ином месте — при воспоминаниях о сибирской жизни.
Сноски к стр. 97
64 Отметим, что текст этого описания в редакции В близок к «записке» «самовидца» в Дружининском Пустозерском сборнике (РИБ, стб. 713—716), в то время как описание казней в редакциях А и Б совпадает с автобиографической «запиской» самого Аввакума (см. РИБ, стб. 717—720).
Сноски к стр. 98
65 Аввакум тащил нарту с рыбой «по земле», потому что, как объяснил он сам, «снегу там не бывает, токмо морозы велики».
Сноски к стр. 100
66 О датировке послания см. выше, с. 76.
67 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 198.
68 Материалы... т. VI. М., 1881, с. 100.
69 О стремлении Аввакума дополнительно мотивировать написание Жития ссылкой на авву Дорофея см.: Robinson A. Avvakum et Dorothée, p. 165—171.
Сноски к стр. 101
70 Точность отсылки была только видимой, так как на указанном месте «понуждения» аввы Дорофея нет (книга аввы Дорофея была издана в Москве в 1652 г. — см.: Ефрем Сирин. Авва Дорофей. Поучения. М., 1652).
71 Pascal P. La vie... p. 60.
Сноски к стр. 102
72 Косвенным свидетельством более позднего происхождения редакции В является и следующий факт. Как уже отмечалось ранее, одно из «индивидуальных» сообщений редакции В — описание допроса инока Авраамия (РИБ, стб. 204) — соответствует автобиографическому сочинению Авраамия, известному под названием «Вопрос и ответ старца Авраамия», где в послании единомышленникам Авраамий описал свое заключение, допрос, «прение» с церковными властями. Известно, что как раз в конце лета 1675 г. Аввакум благодарил московских старообрядцев за присылку «послания отца Авраамия» (РИБ, стб. 424).
73 Румянцева В. С. Автореф., с. 18, 21.
Сноски к стр. 104
74 Там же, с. 18—21.
75 Выше уже отмечалось, что упоминание Илариона Рязанского не может датировать редакцию В, так как Аввакум без изменений сохранил этот текст и в 1675 г. при дополнении и отправке редакции адресату.
76 См.: Смирнов П. С. Предисловие к прочим сочинениям протопопа Аввакума. — РИБ, с. LXVII.
Сноски к стр. 107
1 Рукопись 10-х годов XIX в., 4°, 132 л.: состоит из сочинений Аввакума: Житие; «первая» челобитная царю Алексею Михайловичу в редакции «б», выписанная из «Христианоопасного щита веры» инока Авраамия (сохранила подзаголовок: «Аввакумово прошение ко царю. Глава 16»); «пятая» челобитная царю Алексею Михайловичу; послание «всем... ищущим живота вечнаго»; отрывок из послания «чадам церковным»; особая редакция послания Аввакума «братии на всем лице земном»; отрывки из послания «стаду верных» (редакция «б»); послание «чадам, во свете живущим» (компиляция из неизвестных строк, из послания «отцу Ионе», «рабом Христовым» и др.); сочинение об антихристе; отрывок из послания «сибирской братии»; «Беседа о кресте... к неподобным». Рукопись указана и кратко описана В. И. Малышевым в статье: Заметка о рукописных списках Жития протопопа Аввакума (ТОДРЛ, М. — Л., 1951, т. VIII, с. 381, 382, 385). Подробнее описание рукописи и анализ состава сборника см.: Демкова Н. С. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1965, т. XXI, с. 211—219; там же — издание текста сочинений и фрагментов из них (с. 223—236).
2 Почти все новые эпизоды из Прянишниковского списка были опубликованы В. И. Малышевым (ТОДРЛ, т. VIII, с. 385—388; ТОДРЛ, М. — Л., 1953, т. IX, 302—394). Полностью список был издан Малышевым в кн.: Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960, с. 305—343. Текст Прянишниковского списка цит. далее по этому изданию, страницы указываются в тексте в скобках с обозначением — Пр.
Сноски к стр. 108
3 Все источники, использованные в Прянишниковском списке, указаны Малышевым в источниковедческом комментарии к изданию (Житие, 1960, с. 447—453).
4 Малышев В. И. Заметка о рукописных списках Жития... — ТОДРЛ, т. VIII, с. 381.
Сноски к стр. 109
5 Там же.
6 Сарафанова Н. С. Житие протопопа Аввакума. Прянишниковский список. Заметка и комментарий к тексту. — В кн.: Житие, 1960, с. 445.
7 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 92.
8 Текст Прянишниковского списка, как правило, сопоставляется далее с текстом основного вида редакции Б, изданным в РИБ (т. 39. Л., 1927), как с более близким.
Сноски к стр. 110
9 См. об этом: Малышев В. И. Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и документы о нем. — Доклады и сообщения филологического ин-та ЛГУ. Л., 1951, вып. 3, с. 261.
10 См.: Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые под ред. Н. И. Субботина, т. VII. М., 1885, с. 53, 54, 58.
Сноски к стр. 115
11 В данном случае для сравнения привлекаем текст редакции А, дошедший в автографе, так как текст Б испорчен.
Сноски к стр. 116
12 См.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 219.
Сноски к стр. 118
13 Эта заключительная часть заглавия близка началу Епифаниева Жития («...помолитеся о мне ко Христу, и богородице, и святым его»), что закономерно, так как «надписание» (заглавие) к Житию Аввакума принадлежит Епифанию.
14 См.: Псалтырь. М., 1650, л. 17—17 об.
Сноски к стр. 119
15 Малышев В. И. Заметка о рукописных списках Жития... — ТОДРЛ, т. VIII, с. 381.
Сноски к стр. 121
16 О списке Ар см. выше, гл. I.
17 Материалы... т. VIII. М., 1887, с. 247.
Сноски к стр. 123
18 В других редакциях Жития текст краток: «Он же не восхотел сам и сказал на Никона митрополита. Царь ево и послушал...» (РИБ, стб. 96, редакция Б).
19 Ср. Житие Епифания в издании А. Н. Робинсона (Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 195).
Сноски к стр. 124
20 Ср. Житие Епифания: «И как грех ради наших попустил бог на престол патриаршеский наскочити Никону, предотече антихристову, он же, окаянный, вскоре посадил на Печатной двор врага божия Арьсения — жидовина и грека, еретика, бывшаго у нас в Соловецъком монастыре в заточении. И той Арсен — жидовин и грек, быв у нас в Соловках, сам про себя сказал отцу своему духовному, Мартирию священъноиноку, что он в трех землях был и трою отрекалъся Христа, ища мудрости бесовския от врагов божиих. И с сим Арсением, отметником и со врагом Христовым, Никон, враг же Христов, начаша они, враги божии, в печатныя книги сеяти плевелы еретическия проклятыя, и с теми злыми плевелами те книги новыя начаша посылати во всю Рускую землю на плачь и на рыдание церквам божиим и на погибель душам человеческим» (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 179—180).
21 Ср.: Белокуров С. А. Арсений Суханов, ч. 1. М.., 1891, с. XLV.
22 См. «Ответ православных»: «А греческия книги посылал покупать, научен от иноземца, чернца Арсения Грека, бывшаго там, в чужих странах, жидовином, и Христа бога нашего трикраты отрекшагося, и в Русскую землю от сатаны прислан на помощь Никону. И уведавши о нем царь и патриарх Иосиф по отписке греческаго патриарха Паисия Иерусалимскаго, яко той Арсений еретик лют, и звездочтец, и богоотметник бысть, блюстися его велел, и сего ради заточену ему бывшу в Соловецком монастыре. И егда бысть там Никон мощей ради святаго Филиппа митрополита, и взял того врага с собою к Москве паки, и похвали его царю. И как вкрадеся на патриаршество Никон, и того невернаго раба, и врага божия приставил переправляти книги и новыя переводити, их же накупи в Греческой земли...» (Материалы... т. VI. М., 1881, с. 320—321).
Сноски к стр. 125
23 О хронологических ошибках Аввакума см. выше, в гл. II.
24 Ср.: Материалы.... т. VI, с. 45—48; РИБ, стб. 707—712.
Сноски к стр. 126
25 В цитатах курсивом выделен текст из «Сказания». Сравним его с текстом источника: «Тайну цареву добро есть таити, а дела божия проповедати преславно есть, глаголет святое писание. Открывая бо тайну цареву мучен будет, а скрываяй дела божия со скрывшим талант осуждение приимет. Того ради и аз убояхся скрывати преславнаго дела божия. Прославляющаго мя прославлю, глаголет Христос. Ныне бо сбысться пречистое слово его на новых Христовых исповедниках. Егда приведени быша три новыя страстотерпцы Христовы пред владыки греческия и руския, сташа пред ними, темными властьми...» (Материалы... т. VI, с. 45).
Сноски к стр. 127
26 Признание Аввакума создателем композиции Прянишниковского списка означает, что в распоряжении пустозерских узников был «Христианоопасный щит веры» инока Авраамия, ибо именно оттуда были взяты и «записка» Аввакума об «увещеваниях» его в июле и августе 1667 г., и текст «О напаствовании», рассказывающий о московских «казнях» в августе 1667 г., и обращение к «христолюбцам». В Прянишниковском же сборнике находилась «первая» челобитная Аввакума Алексею Михайловичу, также выписанная из «Христианоопасного щита веры» (в рукописи сохранилось даже заглавие, которое она имеет в сборнике: «Аввакумово прошение ко царю. Глава 16»). Этот вывод о наличии в Пустозерске «Христианоопасного щита веры» имеет большое значение для воссоздания творческой истории Жития Епифания: считается, что Епифаний создавал свое Житие в Пустозерске заново, не имея на руках автобиографической «записки», оставшейся в Москве у Авраамия (см.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 47). Сопоставление текстов «записки» и первой части Жития Епифания, проведенное нами, обнаруживает заметное сходство между ними. Вывод, сделанный выше, — еще один аргумент.
27 Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. Спб., 1912, с. 372.
Сноски к стр. 128
28 Текст одинаков во всех редакциях, но в редакции А есть прямая отсылка ко вступлению к Житию: «...как выше сего в начале реченно» (РИБ, стб. 60).
29 Житие, 1960, с. 306; так и во всех редакциях Жития. Вступление к этой редакции Жития с первоначальным вариантом «надписания» Епифания сохранилось еще в одном, дефектном списке начала XVIII в. (ГПБ, собр. А. А. Титова, № 2670). Рукопись указана и кратко описана В. И. Малышевым в статье «Неизвестные и малоизвестные материалы о протопопе Аввакуме» (ТОДРЛ, М. — Л., 1953, т. IX, с. 404). Отрывок из вступления к Житию находится здесь на л. 29 об. — 33 в составе второй рукописи сборника начала XVIII в. (филигрань — герб Амстердама), среди слов, поучений «отцов церкви» и повестей. Начало: «Аввакум протопоп понужден есть иноком Епифанием написать, да не забвению предано будет дело божие, но на славу Христу, сыну божию и богу истинному, и богородице, и святым его. Аминь. Начало книги сея бытии: Всесвятая троице...»; конец: «...и сяде одесную величиствия на высоких, и хощет паки приитти, и воздати комуждо по делом его во веки. Аминь». Текст списка, сильно испорченный, в современной научной классификации списков Жития находится вне редакций; Робинсон относит его к «третьей» редакции, т. е. к редакции В, хотя оговаривает: «Редакцию определить затруднительно из-за неполноты текста, есть чтения, близкие к В, отчасти к А, а также — близкие к списку собр. Г. М. Прянишникова, № 61» (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 118). Сопоставление списков убеждает в том, что это вариант того же самого текста, который был использован в Прянишниковском списке: в нем сохранено такое же авторское заглавие («Начало книги сея бытии»), точно воспроизведена молитва из Псалтыри, имеются те же архетипные чтения. Но список плохо сохранил текст протографа, в нем есть искажения, ошибки, заметно вмешательство позднего редактора (на л. 31 вместо текста Аввакума «в то время Никон-отступник веру казил и законы церковныя» читаем: «...в то время некоторое помешателство в свете»).
Сноски к стр. 129
30 Как показал Д. С. Лихачев, с ожиданием «страшного суда» связан целый ряд особенностей художественного времени в Житии (см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 309).
31 Ср. аналогичное высказывание Лазаря (см. гл. I), Федора (Материалы.., т. VI, с. 45).
32 Ср.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы, с. 309—310.
Сноски к стр. 130
33 Примером может служить пропуск упоминания о приходе Аввакума в Кострому после изгнания его из Юрьевца-Повольского в 1652 г., возникший между двумя одинаковыми словами: «...к Москве ...к Москве» (Пр. 313, РИБ, стб. 14, 95).
34 Подробнее характеристику состава сборника см.: Демкова Н. С. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1965, т. XXI, с. 211—219.
Сноски к стр. 131
35 См. там же.
36 Этот текст Лазаря не имеет полных соответствий в изданных текстах его сочинений (ср.: Материалы.., т. IV. М., 1878).
37 См.: Малышев В. И. Заметка о рукописных списках Жития... — ТОДРЛ, т. VIII, с. 381.
38 «Сказание о распрях, происходящих на Керженце из-за Аввакумовских догматических писем» (Материалы.., т. VIII, с. 260).
39 См.: Малышев В. И. Два неизвестных письма протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1958, т. XIV, с. 413.
40 См.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Спб., 1900, с. 11—32.
Сноски к стр. 132
41 См.: Демкова Н. С., Малышев В. И. Неизвестные письма протопопа Аввакума. — Записки отдела рукописей ГБЛ, М., 1971, вып. 32, с. 168—181.
42 Малышев В. И. Неизвестные документы 1680 г. о протопопе Аввакуме. — «Рус. лит.», 1967, № 4, с. 102.
43 См.: «Отразительное писание» старца Ефросина. [Спб.], 1895 (ПДП, CVIII), с. 18—19.
44 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 44. Ср.: Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963, с. 250—251.
Сноски к стр. 133
45 Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 93.
46 См.: Zenkovsky S. A. Der Mönch Epifanij und die Enstehung der altrussischen Autobiographie. — «Die Welt der Slaven». Wiesbaden, 1956, Jrg. 1, H. 3, S. 286—289.
47 См. о них в ст.: Демкова Н. С., Дмитриева Р. П., Салмина М. А. Основные пробелы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских повестей. — ТОДРЛ, М. — Л., 1964, т. XX, с. 139—179; Дмитриев Л. А.: 1) Жанр севернорусских житий. — ТОДРЛ, Л., 1972, т. XXVII, с. 181—202; 2) Легендарно-биографические повествования древнего Новгорода. Автореф. докт. дис. Л., 1973, с. 28—29.
48 На своеобразный «литературный» автобиографизм этого Жития обратил внимание Д. С. Лихачев.
49 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 60.
50 См.: Адрианова-Перетц В. П. Старообрядческая литература. — В кн.: История русской литературы. Под ред. В. А. Десницкого и др., т. 1, ч. 1. М., 1941, с. 299.
Сноски к стр. 134
51 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М. — Л., 1958, с. 157—161; Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров — выдающийся русский писатель XVII в. — В кн.: Житие, 1960, с. 43—49; Кожинов В. Происхождение романа, с. 229—252.
52 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси, с. 133—134.
53 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 43.
54 См.: Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров... — В кн.: Житие, 1960, с. 23, 32; Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 58—59.
Сноски к стр. 135
55 См.: Демкова Н. С. К вопросу об истоках автобиографического повествования в Житии Аввакума. — ТОДРЛ, Л., 1969, т. XXIV, с. 228—232.
56 Ср. подобную просьбу Ивана Неронова в челобитной царице Марии Ильиничне: «Много бо писати и глаголати имам ти; но не хощу чернилом и хартиею: желаю бо видети тя и усты ко устом побеседовати» (Материалы... т. I. М., 1874, с. 83).
57 Коршунов А. Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество. Минск, 1965, с. 41.
Сноски к стр. 136
58 Записки изданы в РИБ, стб. 701—722.
Сноски к стр. 137
59 См.: Материалы... т. VII, с. 386—416. Ср. и другие подобные тексты, в частности «Прение верного инока с отступником» (издано в ТОДРЛ, М. — Л., 1961, т. XVII, с. 281—289) и письмо неизвестного старообрядца из заточения (издано в ТОДРЛ, М. — Л., 1960, т. XVI, с. 481—483).
60 Zenkovsky S. A. Der Mönch Epifanij... — «Die Welt der Slaven», Wiesbaden, 1956, Jrg. 1, H. 3, S. 290.
Сноски к стр. 138
61 Известно, что начальный период возникновения старообрядчества выдвинул и своих «историографов»: деятель раннего старообрядчества игумен Феоктист собирал оригиналы и копии многочисленных старообрядческих сочинений, им была создана «Записка о жизни протопопа Ивана Неронова» с 1653 по 1659 г. — описание ссылки и бегства Ивана Неронова, написанное на основании автобиографических рассказов последнего (см.: Материалы... т. I, с. 134—166); впоследствии эту роль «историографа», по-видимому, стал выполнять инок Авраамий, собирая и систематизируя документы и сочинения первых лет старообрядчества в «Христианоопасном щите веры» (см.: Материалы... т. VII, с. 1—258). Специальные «исторические» описания казней старообрядцев и других событий, связанных с их деятельностью, принадлежат дьякону Федору, одному из пустозерских узников (см. его «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании», «Послание из Пустозерска сыну Максиму» и др.).
Сноски к стр. 139
62 См.: Смирнов П. С. Предисловие к прочим сочинениям протопопа Аввакума. — РИБ, с. LII.
63 См.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 59.
64 Письмо семье (1666 г.) цит. по изданию: Житие, 1960, с. 218. — Впоследствии Аввакум использовал некоторые из этих текстов в Житии.
Сноски к стр. 141
1 Материалы главы частично опубликованы в кн.: Истоки русской беллетристики. М. — Л., 1970, с. 457—475.
2 См.: Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протоп[опа] Аввакума. — В кн.: Русская речь, вып. 1. Под ред. Л. В. Щербы. Пг., 1923, с. 195—293.
3 Там же, с. 208, 209.
4 Гусев В. Е. Протопоп Аввакум Петров — выдающийся русский писатель XVII века. — В кн.: Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960, с. 33.
Сноски к стр. 142
5 Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 468.
6 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. М., 1963, с. 66, 71.
7 См.: Ilek B. Zivot protopopa Avvakuma. Praha, 1967, s. 111—113 (резюме).
8 См.: Робинсон А. Н. Исповедь-проповедь (о художественности Жития Аввакума). — В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967, с. 367.
9 См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 308.
10 Здесь и далее анализ Жития основывается на тексте редакции А, так как именно этот текст представляется наиболее цельным и законченным в художественном отношении; тексты других редакций постоянно учитывались при анализе.
11 Это обычная формула житийной литературы, свойственная русским житиям, начиная от Нестерова Жития Феодосия.
Сноски к стр. 143
12 Это богословское и публицистическое вступление к Житию было неизменным в своей общей части во всех редакциях Жития, включая и Прянишниковский список; однако текст редакции Б был дополнен «Гимной богородице», в редакции В вступление значительно увеличилось за счет «Поучения аввы Дорофея о любви» и обращения Аввакума к «питомникам церковным».
13 Ср., например, экспозицию в «Сказании о Борисе и Глебе», в Житии Александра Невского и др.
14 Здесь и далее в скобках указаны страницы издания редакции А Жития в книге А. Н. Робинсона «Жизнеописания Аввакума и Епифания»; ссылки на тексты других редакций Жития, изданных в РИБ (т. 39. Л., 1927), дополнительно оговариваются.
15 При сопоставлении текста первоначальной редакции Жития, сохранившейся в Прянишниковском списке, с последующими обнаруживается бо́льшая распространенность повествования Прянишниковского списка в этом фрагменте: в нем сообщается о возрасте Анастасии Марковны перед замужеством (14 лет), о некоторых обстоятельствах жизни Аввакума в Лопатищах («И воспомянух день смертный, престал от виннаго пития и начах книги почитати и люди учити к пути спасения»), и др. — В кн.: Житие, 1960, с. 311. — Однако обилие подробностей лишает экспозицию монументальности, свойственной ей в трех последующих редакциях.
Сноски к стр. 144
16 См.: Виноградов В. В. О задачах стилистики. — В кн.: Русская речь, вып. 1, с. 214; [Лихачев Д. С.] Протопоп Аввакум. — В кн.: История русской литературы, т. II, ч. 2. М. — Л., 1948, с. 318.
17 В Житии практически ставится знак равенства между деяниями «начальников» и дьявола: «начальник» в Лопатищах «воздвиг на мя бурю», пишет Аввакум, «а дьявол и паки воздвиг на меня бурю» (144) и т. д.
Сноски к стр. 145
18 Этот текст (с некоторыми изменениями) есть во всех редакциях Жития, за исключением Прянишниковского списка: в первоначальной редакции этой вставки не было (см. об этом в гл. III).
Сноски к стр. 146
19 Подробнее о принципе контрастности изображения в Житии как об одном из основных принципов его композиции см.: Демкова Н. С. Изучение художественной структуры Жития Аввакума. Принцип контрастности изображения. — В кн.: Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л., 1970, с. 100—108.
Сноски к стр. 147
20 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 65.
Сноски к стр. 148
21 Нельзя поэтому согласиться с Б. Илеком, что центральная часть Жития «задумана как passio».
22 Ср.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 75.
23 Текст Жития говорил читателям-современникам больше, чем нам: апостолов (по евангельским легендам) обычно посещали и освобождали из темниц ангелы (ср.: Деяния апостолов, V, 19; XII, 7—11).
Сноски к стр. 149
24 Изобразительность повествования Аввакума была принципиально неприемлемой для канонов старообрядческой литературы; см. изложение этого же эпизода в «Винограде Российском», где оно было полностью обесцвечено: «...добрый страдалец темницу, ако многоценную светлицу, тяжкий глад, яко всекрасное прохлаждение, вменяше, от человек презираем, божиею благодатию питашеся...» (Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Спб., 1900, прил., с. 139).
25 См.: ТОДРЛ, М. — Л., 1965, т. XXI, с. 224. — Аввакум придавал этому эпизоду большое значение в развитии общей идеи Жития. В этом убеждает самый факт его существования во всех четырех редакциях памятника; однако характерны и те изменения, которые свойственны разным текстам Аввакума. Так, в первоначальной редакции Жития, имевшей лишь сюжетный каркас повествования, Аввакум сосредоточился исключительно на описании самого факта «небесной помощи», здесь еще не было описания ни «темной полатки», ни состояния духа узника; в «первой» челобитной царю Алексею Михайловичу этот эпизод был еще менее разработан: там только упоминалось об ангеле, принесшем пищу (см.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 59).
Сноски к стр. 151
26 Житие, 1960, с. 320.
27 Там же.
28 На следующем этапе работы Аввакума над Житием — в редакции В — эта «умиленность» узника Братского острога тяжестью своего положения сохраняется, так же как почти все подробности описания, но внутренний смысл эпизода становится менее явным, так как текст фрагмента значительно более распространен. Появляются новые подробности заключения Аввакума, возобновляются старые воспоминания, совпадающие иногда по содержанию с описанием в первоначальной редакции, но есть и совсем новый оттенок в изображении героя: в редакции В большое внимание уделено описанию всеобщего сочувствия Аввакуму, той «резонирующей», по выражению А. П. Скафтымова, среды, которая создает эмоциональный фон для восприятия действий героя («...а человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрму не смеют». — РИБ, стб. 179).
Сноски к стр. 152
29 См.: Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., 1953, с. 71—72; Толстой А. Н. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 264.
30 Необходимо отметить, что этот эпизод имеется только в редакции А (в Б, В и в Прянишниковском списке он отсутствует) и является лишним доказательством художественной цельности именно этой редакции. В Прянишниковском списке нет и первого эпизода с Анастасией Марковной; в редакции Б появляется первый эпизод, но отсутствует второй, по-видимому, он еще не был написан; в редакции В, восходящей к тексту Б, его также нет. Возможно, этот эпизод, описывающий сомнение героя в выборе дальнейшего пути, не попал в редакцию, так как не отвечал ее общему духу.
Сноски к стр. 154
31 Виноградов В. В. О задачах стилистики. — В кн.: Русская речь, вып. 1, с. 214; Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 65. — Отметим, однако, что сопоставление суда над Аввакумом с обстоятельствами распятия Христа сделано в Житии отнюдь не прямолинейно (оно возникает у читателя только по ассоциации — вследствие сходства некоторых деталей ситуации и выражений) и что заключение В. В. Виноградова («Аввакум сам... раскрывает здесь второй план: „Христос и лутче их был, да тож ему, свету нашему, было от прадедов их“...») неточно, так как упоминания о Христе нет в этой сцене, а цитируемый Виноградовым текст входит в дальнейшее повествование о встрече с Лазарем и Епифанием на Воробьевых горах и имеется только в редакции А (в Б, В и в Прянишниковском списке он отсутствует).
Сноски к стр. 155
32 Только в Прянишниковском списке, сохранившем текст первоначальной редакции Жития, отражена попытка Аввакума рассказать о своей жизни после заключения в земляную тюрьму: кратко описывает он подробности тюремного бытия узников (известие о посте). Но и здесь весь этот круг сообщений не выходит за рамки событий 1670—1671 гг. Во всех других редакциях эти подробности были исключены, так как Аввакум стремился к известной строгости формы. Напомним, что специально написанная Аввакумом «записка» о «великом посте» 1671 г. находилась в Пустозерском Дружининском сборнике вместе с текстом Жития, однако не была включена в него и, следовательно, осознавалась Аввакумом как вполне самостоятельное произведение мемуарно-полемической литературы.
Сноски к стр. 156
33 В редакциях Б и В после «хвалы церкви» сразу шло обращение к «правоверным» с просьбой о прощении.
34 Эти «повести» отсутствовали, по-видимому, в первоначальной редакции Жития (их нет в Прянишниковском списке).
35 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 69.
36 Виноградов В. В. О задачах стилистики. — В кн.: Русская речь, вып. 1, с. 210.
Сноски к стр. 157
37 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 66.
38 Робинсон А. Н. Исповедь-проповедь... — В кн.: Историко-филологические исследования, с. 369.
39 Демин А. С. Наблюдения над пейзажем в Житии протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1966, т. XXII, с. 403.
40 Виноградов В. В. О задачах стилистики. — В кн.: Русская речь, вып. 1, с. 281.
41 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 82.
Сноски к стр. 158
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же.
45 Об элементах перспективы, возникающих в описаниях Аввакума, писал А. С. Демин в статье «Наблюдения над пейзажем в Житии протопопа Аввакума». По его мнению, в сибирских пейзажах Жития присутствуют как бы две фигуры Аввакума: «Один крупным планом, рядом с пейзажем, другой миниатюрный, в самом пейзаже, затерянный в дебрях непроходимых» (с. 404). Это наблюдение соответствует нашему представлению о необходимости отличать Аввакума — повествователя от Аввакума — героя Жития (с оговоркой, что фигура «миниатюрного Аввакума» могла становиться и большой, масштабной по воле повествователя; ср. тот момент описания пейзажа у Шаманского порога, когда Аввакум посылает Афанасию Пашкову свое, обличительное послание). Однако Демин преувеличивает значение для Жития средневекового принципа «божественного» конуса, «распространяющегося откуда-то с небес на землю», при изображении Аввакумом пространства. Следует обратить внимание на иной, соответствующий эстетике нового времени подход Аввакума к проблемам изображения окружающего мира: с точки зрения естественного положения человека в природе — снизу вверх, если герой смотрит на утес, или издалека — если герой смотрит на «Байкалово море». Подобное понимание художественной функции пейзажа у «Байкалова моря» полностью совпадает с интерпретацией его В. Е. Гусевым (Заметки о стиле Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л. 1957, т. XIII, с. 279—280).
Сноски к стр. 160
46 Pascal R. Design and truth in autobiography. Cambridge, Mass., 1960, p. 22—23.
47 См.: Misch G. Geschichte der Autobiographic, Bd 1. Das Altertum. Berlin, 1907; Bd 2. Das Mittelalter. Frankfurt am Mein, 1959.
48 См.: Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 66.
49 См.: [Еремин И. П.] Житие Епифания. — В кн.: История русской литературы, т. II, ч. 2. М. — Л., 1948, с. 323; Zenkovsky S. A. The confession of Epiphany, a Muscovite Visionary. — Studies in Russian and Polish literature in honour of Waclaw Lednicki. Gravenhage, 1962, p. 46—71.
Сноски к стр. 161
50 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, с. 68.
51 См.: Zenkovsky S. A. Der Mönch Epifanij und die Entstehung der altrussischen Autobiographie. — «Die Welt der Slaven», Wiesbaden, 1956, Jrg. 1, H. 3, S. 286—289.
52 Текст издан Амвросием в «Истории российской иерархии» (ч. V. М., 1813, с. 115—129). О нем см.: Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв. М., 1966, с. 113—120. См. также: Малышев В. И. Повесть об острове Муромском. — «Ленинское знамя», Петрозаводск, 1947, 22 марта.
Сноски к стр. 162
53 Вопрос о достоверности исторических реалий Жития требует специального изучения.
54 См. один из фрагментов Жития, описывающих «видения» Лазаря: «Се, братие, чюдно и ужаса исполнено видение поведаю вам. Крыющу ми ся близ езера Мурма и седящу в кусте, и ожидающу конца смерьти от злых человек, они же искаху убити мя... И приседящу ми в кусте, и об нощь молящуся господу богу, и пречистой богоматере, и великому предтечи господню Иоанну... и поющу псалтырь и каноны. Издалеча воззрех... видех на сем острове свет велми сияющу, и по нем хождяху мужие благообразнии и согласующеся друг с другом. Посреде же острова сего видех жену светолепну, златом сияющу...» (текст по рукописи ГБЛ, собр. Ундольского, № 361, л. 23 об.).
55 Житие Мартирия (автобиографическая «духовная памятца») издано И. А. Бычковым в приложении к Каталогу собрания рукописен Ф. И. Буслаева (Спб., 1897, с. 342—351); обработка этого начального варианта Жития в «этикетное» произведение (1695 г.) издана Г. Кушелевым-Безбородко в кн.: Памятники старинной русской литературы, вып. IV. Спб., 1862, с. 52—66.
56 Zenkovsky S. A. Der Mönch Epifanij... — «Die Welt der Slaven», 1956, Jrg. 1, H. 3, S. 289.
Сноски к стр. 163
58 См.: Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856; Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества, с. 93—104, 105—116.
59 См.: Коршунов А. Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество. Минск, 1965.
Сноски к стр. 164
60 Там же, с. 87.
61 Об Игнатии Иевлевиче см.: Белецкий А. И. Из начальных лет литературной деятельности Симеона Полоцкого. — СОРЯС, т. 101, № 3. Л., 1928, с. 264—267. Польский текст автобиографии издан в кн.: Голубев С. История Киевской духовной академии, вып. 1. Киев, 1886, прил., с. 74—79.
62 См. текст: «Семью мою, живущую в Могилеве, я быстро после этого покинул, и один только поехал в Киев, и жил там четверть года у церкви святого духа, откуда и вернулся обратно в Могилев... Потом я служил у его милости пана Войны и ездил в воеводство Витебское, и жил при нем в имении его Селютах свыше года, а потом вернулся в Могилев и ездил в Шклов, и жил там года три, откуда с помощью своего родственника Фомы Иевлевича, и тогда еще исповедовавшего православие епископа Мелетия Смотрицкого, и его милости князя Богдана Феодора Соломерецкого, так же и его милости пана Богдана Феодора Стеткевича, подкомория Мстиславского, а потом и кастеляна Новгородского, перешел в Буйничи, где я жил с 1646 по 1654 год» (Голубев С. История..., с. 74). — Перевод текста сделан для настоящего исследования Э. Малэк.
Сноски к стр. 165
63 Концовка эта есть во всех редакциях Жития, за исключением Прянишниковского списка, где в соответствии с общим направлением первоначальной редакции Жития формулируется его публицистическая цель (см. в гл. III).
64 См. об этом: Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Спб., 1886, с. 29—64. — Е. Э. Гранстрем обратила внимание на аналогичное явление в византийской биографической литературе X в.: в Жизнеописании императора Василия I, написанном его внуком Константином Багрянородным и составляющем одну из книг Хроники, известной под названием «Хроника продолжателя Феофана», обильно использованы в целях беллетризации текста приемы и принципы повествования Плутарха и Полибия (см.: Jenkins R. The classical background of the scriptores post Theophanem. — «Dumbarton oaks papers», Cambridge, Mass., 1954, vol. 8, p. 11—30).
Сноски к стр. 166
65 Гусев В. Е. О жанре Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, М. — Л., 1958, т. XV, с. 200—201; ср.: Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963, с. 252.
66 Кожинов В. Происхождение романа, с. 260.
67 Гусев В. Е. О жанре Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, т. XV, с. 201.
68 Веселовский А. Н. Из истории романа и повести, с. 29—64; Адрианова-Перетц В. П. Сюжетное повествование в житийных памятниках XI—XIII вв. — В кн.: Истоки русской беллетристики. Л., 1970, с. 67—107.
69 Именно такой является композиция Жития Феодосия Печерского (см. об этом: Еремин И. П. К характеристике Нестора как писателя. — В его кн.: Литература Древней Руси. М. — Л., 1966, с. 35, 40).
Сноски к стр. 167
70 См.: Кожинов В. Происхождение романа, с. 82—91; ср.: Шкловский В. Теория прозы. М. — Л., 1925, с. 64.
71 Отражение и использование художественной формы устного рассказа в Житии Аввакума — это тема большого и специального исследования. Основу для понимания Жития как литературной формы, связанной с устным рассказом, заложил В. В. Виноградов в своем исследовании 1923 г., в котором он рассматривал повествование Жития как сказ (Виноградов В. В. О задачах стилистики. — Русская речь, вып. 1, с. 208—210; см. также: Эйхенбаум Б. М. Иллюзия сказа. — В его кн.: Сквозь литературу. Л., 1924, с. 156). Далее Виноградов уточнил понятие сказа в Житии, определив его как «народно-драматический сказ» (см. его статью: К изучению стиля протопопа Аввакума, принципов его словоупотребления. — ТОДРЛ, М. — Л., 1958, т. XIV, с. 371). Мысль о Житии как «народном рассказе» высказывали и Р. Ягодич (Jagoditsch R. Das Leben des Protopopen Avvakum. Berlin, 1930, с. 69), и В. Е. Гусев (О жанре Жития протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, т. XV, с. 199).
72 Франко І. Bel parlar gentile. — В кн.: Франко І. Вибрані статти про народну творчість. Київ, 1955, с. 181—182.